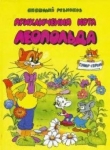Текст книги "Бурный поток"
Автор книги: Дмитрий Мамин-Сибиряк
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
VII.
К кому первому ехать? Этот вопрос немного затруднил Калерию Ипполитовну, и она еще раз перебрала в уме захваченные у тетки адреса знакомых. – Конечно, к Берестовским сначала,– решила она вслух и громко сказала кучеру:– В первую линию! Карета с грохотом покатилась к Среднему проспекту, а Калерия Ипполитовна тяжело перевела дух и даже закрыла глаза. Против собственнаго желания она разсердилась на maman. Нужно было успокоиться, а то Калерия Ипполитовна чувствовала, что у ней на лице выступили красныя пятна. Нехорошо в таком виде явиться в чужой дом, хотя сегодняшние визиты имели значение только рекогносцировки, чтобы собрать некоторыя справки и вообще произвести предварительныя разведки. "Теперь еще рано и дома одне бабы,– думала про себя Калерия Ипполитовна, равнодушно глядя на мелькавшие по сторонам дома.– От Берестовских надо ехать к Даниловым... Нет, Даниловы живут где-то на Литейной. Лучше сначала заехать к Чвоковым в Галерную, от Чвоковых на Гороховую к Густомесовым, а после всех уже к Даниловым". Петербурга Калерия Ипполитовна еще не забыла и, взглянув на адрес кого-нибудь из своих знакомых, могла безошибочно определить вперед общественное положение семьи, размеры средств, круг знакомства и даже количество детей. Васильевский остров служил приютом артистов, ученых и иностранных негоциантов, на Литейной жили чиновники покрупнее и военные, громадный крест, составлявшийся из Большой Садовой и Гороховой, кипел торговлей, на Владимирской и Казанской улицах жались ремесленники и мелкие торговцы. Другия улицы, а тем более окраины совсем не интересовали Калерию Ипполитовну, как и Невский, который превратился в какой-то сплошной магазин, вернее – громадный пассаж. В таких архиаристократических улицах, как Миллионная, Английская набережная, Большая Морская, Галерная и Сергиевская, пока было нечего делать. – Ах, да, ведь Чвоковы живут в Галерной,– вслух проговорила Калерия Ипполитовна.– Значит, действительно они пошли сильно в гору... да. Ведь вот везет же людям счастье!.. А раньше Чвоковы жили где-то на Песках, кажется, в Слоновой улице. С Машенькой Чвоковой я училась вместе в институте... Бедняжка, она из-за своего кривого бока так и осталась Христовою невестой. Берестовские занимали большую квартиру в бельэтаже шестиэтажнаго дома. Швейцар выбежал отворить дверцу кареты и почтительно вытянулся, когда Калерия Ипполитовна начала подниматься по лестнице. Дома была одна старуха Елена Петровна, которая сначала не узнала гостьи, а потом расцеловала ее. – Нет, не узнать... Неужели это вы, Калерия Ипполитовна?– удивлялась бойкая и живая старушка, отходя несколько в сторону, чтобы издали лучше разсмотреть гостью.– Давно ли, подумаешь, вы замуж успели выскочить. Как сейчас помню... Ах, как я рада за Анну Григорьевну: она так часто вспоминала вас. Давно ли вы в институте с Сашей моей учились... а? – Как видите, я успела совсем состариться,– с улыбкой отвечала Калерия Инполитовна, не снимая перчаток.– Дочь-невесту привезла... – Скажите!.. Нет, вы шутите... А у нас, как на зло, никого сегодня дома нет: муж, знаете, вечно корпит в своей опеке, Саша уехала к сестре, внучки разбрелись по гимназиям... Ох, у меня с этими внучками забот полон рот. Да пожалуйте... Я сейчас велю приготовить кофе. – Нет, благодарю вас. Я к вам на одну минутку, а кофе я пила у maman... За двадцать лет Елена Павловна совсем успела состариться, но лицо у ней осталось такое же доброе, и улыбалась она, попрежнему, такою хорошею улыбкой. Болтая с этою милою старушкой, Калерия Ипполитовна успела в тонкостях разсмотреть обстановку квартиры, что для нея имело большое значение. По-чиновничьи Берестовские жили очень хорошо, тысяч на восемь, и обстановка у них была богатая, но опытный глаз Калерии Ипполитовны сразу определил, что ей здесь делать нечего: это была мертвая чиновничья обстановка, слишком хорошо ей знакомая, и пока этого было достаточно. – Как жаль, право, что Саши нет дома,– повторяла Елена Петровна среди обыкновенной болтовни.– Она будет так жалеть... Ведь вы вместе с ней из института тогда вышли и Машенька Чвокова... Да позвольте, я пошлю за Сашей? – Нет, я лучше в другой раз заеду к вам. – А вы надолго к нам в Петербург приехали? – Как вам сказать? Хорошенько и сами не знаем. Муж оставил службу на заводах Теплоухова... – Что вы?.. Да как же это так?.. А ведь он, говорят, получал там до тридцати тысяч? – Нет, всего двенадцать. Собственно говоря, и жалеть об этом месте нечего: Теплоухов не-сегодня-завтра ликвидирует дела... Мужу предлагают место на Урале и жалованья больше, но, знаете, у нас дочь на руках: ей нужно дать воспитание, а потом и самим необходимо освежиться немного. – Да, конечно,– прищурив глаза, соглашалась старушка.– Помилуйте, что же за неволя похоронить себя Бог знает где! Калерии Ипполитовне показалось, что и лицо у Елены Петровны как-то изменилось и голос сделался фальшивый: старушка не верила своей гостье и, вероятно, заподозрела жалкую истину. – Извините, я тороплюсь, Елена Петровна,– заговорила Калерия Ипполитовна.– Пока я не приглашаю к себе, потому что мы остановились в номерах... Поцелуйте за меня Сашу. Так жаль, что мы не встретились... – Да, да... Так жаль, так жаль!– повторяла Елена Петровна, провожая гостью в переднюю. "Эта старушонка или уж очень ловко притворяется, что ничего не знает,– думала Калерия Ипполитовна, когда сидела опять в карете,– или... Да нет, конечно, знает всю историю с Сусанной и все остальное!.. Удивляюсь, что ьто за фантазия была у maman посылать меня к этим Берестовским! Только даром время теряю... Чиновники и больше ничего. Мелюзга какая-то". Одним словом, это было совсем не то, что было нужно Калерии Ипполитовне. Она еще раз припомнила обстановку Берестовских и невольно сравнила с тем, что осталось там, в Заозерских заводах. 'Это воспоминание кольнуло ее. А зачем она лгала пред этою старухой? Ведь это было совсем лишнее, притом не-сегодня-завтра все будет известно и Берестовским, и Даниловым, и Густомесовым. Чвоковы были дома. Они занимали великолепную квартиру, которая делилась на две половины: в одной жил сам Нилушка, а в другой – его мать с дочерью. Кривобокая Машенька показалась Калерии Ипполитовне совсем старухой. Институтския подруги встретились довольно сухо, хотя старушка Чвокова старалась изо всех сил быть любезной. Обстановка их половины не оставляла желать ничего лучшаго,– все было такое массивное, дорогое, сделанное на заказ. И одеты были Чвоковы с тою дорогою простотой, как могут одеваться только очень богатые люди. "Эк, как их раздувает!– невольно подумала Калерия Ипполитовна, прикидывая в уме стоимость чвоковской обстановки.– Вот эти живут широко". Продолжалась та же болтовня, что и у Елены Петровны, и Калерия Ипполитовна повторяла без запинки ту же ложь. Но Чвоковым, очевидно, было все равно: они мало интересовались чужими делами. – Как у вас хорошо все,– льстила Калерия Ипполитовна, обводя глазами уютную маленькую гостиную, с шелковою мебелью и такими же драпировками.– Ты счастливая, Машенька, не знаешь этих вечных хлопот, забот и дрязг, от которых у нас, замужних женщин, голова идет кругом... – Да...– неопределенно говорила Машенька, поднимая на гостью свои потухавшие серые глаза. У бедной девушки только и были красивыми одни глаза, да и те умирали; лицо пожелтело и было покрыто преждевременными морщинами. – Ах, я слышала, какие успехи делает твой брат!– не унималась Калерия Ипполитовна, закатывая глаза.– Все говорят... – Много лишняго говорят,– прибавила старушка Чвокова, очень полная особа, с самым вульгарным лицом. Чвоковы приняли довольно сухо Калерию Ипполитовну, и она утихала от них недовольная. Вообще что-то не ладилось, и у Калерии Ипполитовны даже заболела голова. Густомесовых не было дома. Это было даже хорошо. Калерия Ипполитовна хотела уже ехать домой, как вспомнила про дядю Николая Григорьевича и, высунув голову в окно кареты, проговорила: – К Египетскому мосту. Николай Григорьевич Передников, родной брат Анны Григорьевны, составлял гордость фамилии, потому что именно он должен был занять видный пост при министерстве. В последнем все были так уверены, что даже многолетния неудачи oncl'я не могли поколебать фамильнаго доверия к провиденциальному назначению Николая Григорьича, который пока перебивался при каких-то благотворительных учреждениях в какой-то должности без названия. У него были сильныя связи. В ожидании виднаго поста, oncle все свои средства заколачивал в лошадей. – Oncle может быть очень полезен,– соображала Калерия Ипполитовна.– Во-первых, он все и всех знает, во-вторых, через него можно приткнуть Симона в какой-нибудь комитет, наконец я могу записаться в члены благотворительных обществ. Калерии Ипполитовне отворил усатый вахмистр, исполнявший должность берейтора и швейцара; oncle Николай Григорьич был, конечно, в конюшне. Пока вахмистр бегал за ним, Калерия Ипполитовна могла еще раз убедиться в той печальной истине, что oncle был решительно неисправим, и все у него в квартире было то же: тот же отчаянный холостой безпорядок, что-то такое подозрительное во всей обстановке, так что Калерия Ипполитовна никогда не решилась бы заглянуть за портьеру следующей комнаты. – А, это ты, Леренька,– грудным басом проговорил oncle таким тоном, точно они вчера разстались.– Здравствуй, милочка... Ого, да как ты постарела! Oncle всегда любил бойкую племянницу и теперь с искренним сожалением покачал своею острижешиою под гребенку, седою, но все еще красивою головой, с выгнутою красною шеей и прямым затылком, как у всех отставных военных. Николаю Григорьевичу было за пятьдесят, но в своей английской куртке, с голою могучею шеей, он был еще настоящим молодцом; небольшие, темные, безцветные глаза смотрели, как всегда, добродушно и весело, гладко выбритое лицо даже лоснилось здоровым румянцем, брови и подстриженные усы oncle подкрашивал каким-то черным снадобьем, и они имели у него такой вид, точно были наклеены. – Ты уж меня извини, Леренька,– извинялся oncle, расцеловав племянницу из щеки в щеку такими звонкими поцелуями, что у Калерии Ипполитовны даже в ушах зазвенело.– я сейчас был в конюшне, у меня там такая есть штучка... Д-да-с, на приз готовлю к зиме. Да ты что же это не садишься... а?.. Вот сюда... я ведь тебя на колена к себе сажал не Бог знает как давно. Ну что, успела уже облететь всех? – Нет, была только у maman, а потом почти нигде... К Берестовским заезжала, потом к Чвоковым, была у Густомесовых. – Уж и нашла к кому ехать. Ну, еще к Чвоковым следовало наведаться, а то Берестовские, Густомесовы!.. Это тебя maman подвела? Ха-ха... Прием дяди сначала немного смутил Калерию Ипполитовну, его откровенное сожаление о ея старости даже заставило ее покраснеть, но потом она как-то вдруг почувствовала себя необыкновенно легко, легко, как у себя дома, даже легче, чем дома. С oncl'ем она могла поговорить по душе, как ни с кем другим, хотя сам по себе он был безполезный человек во всех отношениях. Она испытывала теперь жгучую потребность с кем-нибудь поделиться всем, что у нея наболело на душе. Сняв шляпу и поместившись на громадный диван, какие бывают только у старых холостяков, Калерия Ипполитовна с особенным удовольствием еще раз оглянула знакомую обстановку – пустую гостиную, в которой теперь сидела, и кабинет, отделенный широкою аркой. Этот кабинет maman называла кузницей: так он был загроможден разным хламом. – Я тебя даже кофе угощу,– говорил oncle, шагая по комнате своими тяжелыми шагами.– А пока ты мне разскажешь о себе... да?.. Вижу, вижу, что у тебя накипело. Уж моя судьба такая, чтобы быть поверенным в семейных делах. Ей-Богу, не лгу... ко мне многия дамы обращаются чуть не с исповедью, потому что рожа у меня добродушная. Впрочем, это к тебе, Леренька, не относится; ты у меня на особом счету всегда была... Ах, да, а что Симон? Виноват, я не спросил даже, давно ли ты приехала сюда и так далее... Ты уж, пожалуйста, сама разсказывай, а потом я тебе свое разскажу... Вот и кофе. Смазливая горничная внесла на серебряном подносе серебряный кофейник и две чашки: onclе всегда сам варил кофе и любил похвастаться своим искусством. Горпичная поставила поднос на стол и, скромно опустив глаза, вышла из комнаты; она чувствовала на себе пытливый и презрительный взгляд гостьи и вся раскраснелась. Oncle тоже немного смутился и с особенным усердием принялся за свою специальность. Чтобы выручить старика из неловкаго положения, Калерия Ипполитовна подробно принялась разсказывать свою историю, по Николай Григорыич прервал ея разсказ на половине. – Да ведь я же знаю остальное, Лерепька,– говорил он, разливая чашки.– И все другие знают, кроме, может-быть, Романа, который вообще нашими семейными делами мало интересуется... А что maman? – По обыкновению... не поймешь ее. Однако что же ты знаешь? – Да решительно все... Я "ей" недавно лошадь выбрал под дамское седло, ну, и Богомолов там, конечно, и Пилужка. Вообще, должен тебе сказать, твоя игра совсем проиграна, Леренька, т.-е. проиграна для теплоуховских заводов. Ты, конечно, не виновата, что твой Симон глуп, но ты и не права... Ведь в твоих руках была эта Сусанна Антоновна, и ты не умела ею воспользоваться, а она чертовски хороша и сразу так себя поставила здесь... То-есть я понимаю, что ее поставил так муж, Мороз-Доганский, но этого еще мало: у нея есть выдержка, есть кровь. Ее сразу заметили. Да вот, недалеко ходить, прочитай фельетон Романа, он ее мастерски описал... у Романа великолепный слог, когда он в ударе. Жаль только, что все ему не везет, не может он выбиться в настоящие люди, как Нилушка... У меня этот и номер "Искорок" есть, нарочно купил, чтобы Сусанне Антоновне показать при случае. Калерия Ипполитовна развернула номер "Искорок" и начала разсматривать фельетон, но oncle указал ей на хронику, где было описание последних скачек в Царском Селе, причем больше говорилось о публике, чем о лошадях. "На скачках был весь Петербург,– читал oncle через плечо Калерии Ипполитовны,– и мы с особенным удовольствием отмечаем появление на нашем бедном северном небе новой яркой звездочки – это типичная красавица М.-Д–ая, которая своим присутствием оживляет однообразную толпу наших спортсменов..." Дальше следовало описание костюма "звездочки". – Что же тут особеннаго?– удивилась Калерия Ипполитовна, машинально просматривая хронику "Искорок" дальше.– Сейчас за описанием скачек следует известие о юнкере, который на пари сел десять порций мороженаго и умер перед скачками; известие о необыкновенной болезни, которая появилась в Саратове – икота женщин; ниже – какая-то непонятная сплетня и т. д. Вообще попасть в соседство с обевшимся юнкером и саратовскою икотой не особенная честь... – Ты ошибаешься, Леренька; известность в некоторых положениях – это все, громадный капитал, а особенно для хорошенькой женщины. Люди уж так устроены, что им нужно известное имя... Посмотри хоть на актеров или на актрис: чуть-чуть смазливая рожица появляется на подмостках, и сейчас все в восторге, а в то же время совершенно равнодушно проходят мимо женщин и мужчин, которые в десять раз красивее. Известность, даже сомнительная, в тысячу раз лучше самой благородной неизвестности, поэтому ничего так и не добиваются, как этой известности. – Но ведь такая известность может довести Бог знает до чего, и я никогда не желала бы быть на месте Сусанны... Для порядочной женщины оскорбление, когда о ней начнут трактовать в уличной газете, как о какой-нибудь скаковой лошади. Сегодня описывают "звездочку", завтра будут описывать твою горничную. Oncle только пожал плечами. – Леренька, ты напрасно так волнуешься,– заговорил Николай Григорьич, допивая свою чашку.– Мы, кажется, немножко не понимаем друг друга: ведь за двадцать лет много воды утекло... – Ты, кажется, хочешь говорить о моей старости? – Нет, о другом... Видишь ли, теперь совсем другое время и другие люди, так что многое, пожалуй, и понять трудно. Мы с тобой – люди отжившие, на сцене новые герои и героини. Прежде, когда ты уехала из Петербурга, только было и света в окне, что помещики, чиновники да военные, а нынче все это осталось в стороне, как наша maman или я... Все эти чиновныя семьи, которыя еще так недавно гремели в Петербурге, теперь за штатом. Конечно, есть свои исключения, как везде. Берестовские приклеились к опеке, Даниловы жмутся к золотопромышленникам... да мало ли есть таких исключений... Главное, прежняго чиновничьяго духа не стало: чуть человек поталантливее и побойчее – сейчас бежать из коронной службы, потому что на частной больше заработаешь. Если некоторые чиновники рвут куши, как Ѳеденька Густомесов, то ведь не у всякаго еще душа повернется, Леренька, на всякую пакость. Ежели разобрать, так все эти наши старые знакомые, у которых ты сейчас была и которым даже, может-быть, позавидовала в душе,– все они существуют, так сказать, нелегальными средствами... да! Не люблю я про других дурно говорить, а тебе должен сказать, чтобы ты скорее освоилась со своим новым положением. А вот другое дело взять того же Нилушку: этот у живого дела стоит и тоже получил известность. – Тебя послушать, так нам только и остается, что лечь да умереть,– заметила Калерия Ипполитовна с плохо сдержанною досадою. – Пожалуй, и так, Леренька... Что делать?.. Теперь нужно пристраиваться к банкам, к железным дорогам, к разным акционерным компаниям или уходить в глушь: в Сибирь, на Кавказ, в Туркестан, где еще можно спокойно дожить век. Вот Сусанна Антоновна избрала благую часть: это, Леренька, настоящий делец, да еще какой делец... Дайте время, она на Теплоухова и смотреть не станет, а что касается репутации, так ведь это же вещь условная: у Сусанны будет свое и самое отборное общество, потому что она умеет себя держать. Это не кокотка, не содержанка, а совершенно новое явление, которому даже не приберешь и названия... Вот maman скорее тебя раскусила дело и просто в восторге от Сусанны и даже хотела с ней познакомиться. – Жалею, что я не могу быть другой, чем я есть,– сухо проговорила Калерия Ипполитовна, подымаясь с дивана. – Ты, пожалуйста, не обижайся, Леренька,– оправдывался oncle, загораживая дорогу гостье.– Заходи потолковать... Кстати, где вы остановились? – Я тебя сейчас не приглашаю, oncle, потому что мы остановились в отеле "Дагмар" и занимаем какую-то конуру,– говорила уже спокойным тоном Калерия Ипполитовна, патягивая перчатку.– Роман обещал найти квартиру... кажется, chambres garnies, ну, тогда и приходи. – А что твой Симон? Ты мне о нем ни слова не сказала. Калерия Ипполитовна только пожала плечами, как доктор, котораго спросили о безнадежном больном. – Погоди, мы его пристроим куда-нибудь к банк или на железную дорогу. – Да ведь он горный инженер по специальности! – А это решительно все равно, хоть будь акушер или мозольный оператор,– мы пустим его в ход. Я тоже ведь подумываю пристегнуть себя к этим дельцам... честное слово!..
VIII.
Подезд театра Буфф было ярко освещен целою гирляндой газовых фонарей; ночь была ясная и морозная, какия бывают иногда в начале октября. Мостовая так и гремела под колесами бойко подкатывавших к подезду карет; по тротуарам спешила та специальная публика, которая никогда не пропустит ни одного спектакля с знаменитостью. Сегодня на театральной афише стояло имя Жюдик в "Певчих птичках", и оно, как магнит, стягивало в Буфф самую отборную публику. Когда дверь распахивалась, на подезд вырывалась из передней мутная полоса света, выносившая с собой далекий и неопределенный гул, точно приподнимали крышку громаднаго котла, в котором глухо начинала закипать вода. Что-то чувствовалось такое лихорадочное кругом, и люди походили на какия-то тени, скользившия неслышными шагами. Еще задолго до занавеса театр уже был полон: партер, ложи и галлерея были усыпаны публикой; подавляющее большинство были мужчины, дамы являлись только исключением. Покатилов, в качестве завсегдатая первых представлений, спектаклей с заезжими знаменитостями и специальнаго любителя Буффа, был, конечно, в театре и разсматривал из второго ряда кресел собравшуюся публику, преимущественно дам; большая часть этой публики была ему хорошо известна, даже успела порядком надоесть, но он систематически разсматривал ложу за ложей, один ряд кресел за другим, настойчиво отыскивая что-нибудь новое, потому если что-нибудь было новаго в Петербурге, то оно непременно должно было попасть на "Певчих птичек". Бывая в театрах, Покатилов любил таким образом изучать публику, и это изучение всегда доставляло ему пользу и удовольствие, как самая лучшая живая картина текущей действительности со всеми ея злобами дня. Теперь Петербург был налицо почти весь, т.-е. тот именно Петербург, который действительно живет, обделывает дела и всем ворочает: сановитая бюрократия, все роды оружия, редкие представители кровной русской аристократии, биржевики, банковские воротилы, железнодорожники, светила адвокатуры, представители прессы, науки, искусства, клубные шуллера, кокотки, восточные человеки, совсем темныя личности, которых можно встретить везде, и т. д. Из знакомых Покатилов успел разсмотреть Брикабрака, который прятался в ложе бельэтажа вместе со своей Фанни, потом Нилушку Чвокова, двух-трех газетчиков, но он все искал кого-то, особенно настойчиво разсматривая ложи, из которых оставались незанятыми всего три. Заиграл плохонький оркестр, и публика колыхавшеюся волной двинулась из фойе и коридоров занимать свои места. В первом ряду Покатилов особенно внимательно разсматривал высокую фигуру заводчика Теплоухова, разговаривавшаго с известным Петербургу золотопромышленником Ахлестышевым, у котораго было до десятка золотых приисков в Сибири. Теплоухову на вид было под сорок, но его безцветное, утомленное лицо с подстриженными усами казалось гораздо старше; серые большие глаза, обложенные тонкими морщинами, смотрели как-то вяло и подозрительно, а в опущенных углах рта притаилось какое-то больное, почти страдальческое выражение; он стоял у барьера, спиной к сцене, заложив правую руку за борт длиннаго сюртука, и с равнодушною улыбкой выслушивал оживленный разсказ Ахлестышева о последней медвежьей охоте. Во втором ряду кресел сидел известный разорившийся уральский заводчик Мансуров, заводы котораго за казенные долги находились под опекой: это был высокий, широкоплечий мужчина с окладистою бородой. Он внимательно разсматривал ложи, занятыя дамами полусвета, и с кем-то здоровался едва заметными кивками головы. Покатилов искал Мороз-Догапскую, по ея не было в ложах, хотя, как Покатилов был убежден, она должна была быть в театре. Занавес, разрисованный в форме громаднаго веера, наконец поднялся, и вся публика прильнула глазами к сцене, выжидая появления опереточной дивы. Сегодняшний состав актеров был великолепен сам по себе: губернатора играл Ру, Пикилдо – Жюто, даже кабачок трех сестриц был обставлен вполне безукоризненно. Театр глухо застонал, когда на подмостки выпорхнула сама Жюдик в эффектном костюме уличной певицы и с своею неподражаемою грацией принялась раскланиваться и посылать воздушные поцелуи неистово аплодировавшей публике. Эта дочь парижской улицы являлась теперь всемогущим центром, приковывавшим к себе все симпатии и желания: каждый жест, каждое слово, каждая улыбка отражались на тысяче жадных лиц, представлявших собой одно громадное "чувствующее полотно", спаянное лихорадочным чувством. Публика превратилась в одно громадное чудовище, с затаенным дыханием следившее тысячью глаз за двигавшеюся на подмостках улыбавшеюся приманкой. – Дива, дива, дива,– шептал Покатилов, сжимая челюсти.– Вот как нужно ходить, говорить, улыбаться... Да, это совершенство, нет... божество! У него даже мурашки побежали по спине от восторженнаго чувства. Да, вот она настоящая улица, нет... апоѳез улицы... И все так чувствуют, что чувствует теперь он, Покатилов, хотя не сознают хорошенько своих чувств и не в состоянии дать отчета в них, а между тем в этом и вся суть. Покатилов просто задыхался от волнения, переживая то специфическое чувство, которое знакомо только настоящим охотникам, когда они выслеживают дичь на глазах. В антракте Покатилов отправился в буфет, набитый курившею публикой. Много было знакомых. В одном углу, на диванчике сидел Котлецов, редактор "Прогресса"; это был белокурый худой господин с подвижническою физиономией и остановившимися глазами. Пред ним юлил летучий корреспондент Бегичев, постоянно вздергивавший своею головою и поправлявший сползавшее с носа пенснэ. – Конечно, у нея диапазон голоса не велик,– ораторствовал Бегичев своим жиденьким гнусливым тенорком,– но какая фразировка, какая выдержка музыкальной фразы. Наконец нюансы... Может-быть, это немножко сильно сказано, но положительно Жюдик – великое историческое явление! В другом углу разговаривал Нилушка Чвоков, по своей привычке жестикулируя самым отчаянным образом, как это делали некоторые профессора старой школы. Небольшого роста, худощавый, с подвижным тонким лицом и красивою тихою улыбкой, этот Нилушка, делец и воротила, имел в себе что-то необыкневенно привлекательное, и Покатилов любил издали наблюдать его. Вот человек, который сделал себе карьеру из ничего. И чем взял? Конечно, говорил Нилушка складно и подчас даже остроумно, но такими людьми хоть пруд пруди в столице. Секрет его успеха всегда интересовал Покатилова, составляя для него неразрешимую загадку. Как всегда, около Нилушки собралась целая толпа слушателей. На первом плане стоял седой коренастый старик Зост, тот самый, у котораго занималась Бэтси. Подкупающей особенностью в этой стариковской фигуре были ясные голубые глаза и твердый склад рта; говорил он ломаным русским языком и имел дурную привычку брать своего собеседника за пуговицу сюртука. В кругу заводчиков Зост пользовался громадною популярностью, и ему предсказывали блестящую будущность. В Россию он явился простым машинистом, потом открыл маленькую мастерскую, а теперь был владельцем переделочнаго чугуннолитейнаго завода и стоял во главе иностранных заводчиков, работавших в России. "Кто кого у них обманывает?– подумал Покатилов, прислушиваясь к разговору.– И место нашли для разговора!" – Вы подтасовываете научные факты,– горячился Зост, наступая на Нилушку.– Я не говорю, что вы это делаете с намерением, но, к сожалению, вы идете против всех освободительных идей века... Вы желаете отодвинуть нас к темным средневековым порядкам, когда процветало цеховое устройство, внутренния таможни, крайняя правительственная регламентация. Да-с... Вот что значит ваш протекционизм!.. Русская горная промышленность полтораста лет идет на чужих помочах и, как больной человек, живет только лекарствами, а вы настаиваете на продолжении такого порядка. – Позвольте г. Зост, сначала необходимо разобраться в этой массе, так сказать, научнаго суеверия,– спокойно оппонировал Нилушка, довольный тем, что его слушают.– И в науке есть свои раскольничьи начетчики, для которых дороже всего экономическия хождения по-солонь или двуперстное сложение, но я думаю, что здесь спор идет уже о словах, а действительность давно выросла из этих искусственных рамок и создала новыя формы. Необузданный индивидуализм в духе экономическаго либерализма отжил свой век, хотя я не стою и за воинствующия пошлины дальше того, пока оне являются только в качестве прогрессивнаго деятеля, т.-е. пока служат школой для подготовки крупной организации труда и максимальнаго возвышения производительнаго уровня всякаго труда. Заметьте, я защищаю капитализм только по его общественно-исторической задаче, как начало, обобществляющее трудовые элементы и внедряющее принципы коллективизма. Слушатели были приятно оглушены этим потоком ученых фраз и улыбающимися глазами смотрели на старика Зоста, который держал Нилушку за лацкан сюртука и все раскрывал рот, чтобы высказать что-то очень горячее своему противнику. – Обобществляющее... внедряющее...– повторял Покатилов с улыбкой и качал головой.– Ай да Нил Кузьмич... ха-ха!.. Связался чорт с младенцем... Впрочем, оба лучше. – Ах, и ты здесь,– проговорил Чвоков, оборачиваясь к Покатилову. – Да, и я здесь... Продолжайте, я с удовольствием слушаю. – Нет, мы уж кончили,– усталым голосом ответил Чвоков и прибавил совсем другим тоном:– Ну что, как Жюдик по-твоему? – По-моему? По-моему это великое обобщестиляющее начало, внедряющее в нас принцип коллективизма. – Ах, ты, шут гороховый!– засмеялся Нилушка, скашивая глаза на Зоста, который, видимо, еще не прочь был сразиться. – Что это у вас, репетиция, что ли, для представления в каком-нибудь ученом обществе?– спрашивал Покатилов, когда они выходили из буфета. – Да, готовимся к сражению в техническом обществе,– устало говорил Чвоков, поддерживая Покатилова под локоть.– Надоело, признаться сказать... И этот старичишка привязался, как пластырь. Неглупый человек, но только очень горячится. – Место-то для дебатов вы хорошее нашли,– смеялся Покатилов.– В буфете целый парламент устроили, ха-ха! – Ну, что значит место? Не все ли равно? Не место человека красит, а человек место. – Нечего сказать, украсили! А главное, ты-то из-за чего тут распинаешься, а? Ведь тебе решительно все разно,– если разобрать: Зост ли возьмет верх, или Теплоухов. – Нет, меня интересует принципиальная сторона дела. В самом деле, если разобрать... – Довольно, довольно. Будет морочить добрых-то людей. Чвоков посмотрел на Покатилова и только улыбнулся. Публика с шумом занимала места. – Этакая ворона!– бранился про себя Покатилов, начиная разглядывать ложи в бинокль.– Еще две пустых ложи остаются. Поднялся занавес. Успех примадонны рос вместе с ходом пьесы. В самый разгар действия Покатилова точно что кольнуло, и он инстинктивно повернул голову к пустым ложам; в одной из них выставлялась седая голова oncl'я, а у барьера ложи, вся на виду у публики, сидела Мороз-Доганская. Да, это была она, хотя Покатилов видел только ея плечо, затылок и часть лица. Он узнал бы ее из тысячи женщин по той свободной грации, которая поразила его еще на царскосельских скачках. Странное дело, Покатилов, этот слишком много для своих лет поживший человек, теперь испытывал волнение, точно школьник, который пришел в первый раз на любовное свидание. Правда, он в последнее время столько слышал о ней и от Брикабрака, и от зятя, и от сестры, и от капитана, и даже от Бэтси. Доганская была в бархатной накидке и в осенней шляпе из черных кружев; она сидела с тою самоуверенною грацией, какая дается редким женщинам; это было что-то совсем особенное, совершенно свободное от всяких условностей, заученных жестов и вымученных поз. Несколько раз она поворачивала свою голову к публике, и Покатилов видел в профиль это оригинальное лицо, которое нельзя было даже назвать красивым. Скулы были слишком приподняты, мягкий нос точно придавлен, и только хороша была неправильная овальная линия, очерчивавшая щеку и подбородок. Для Покатилова пьеса больше не существовала, и даже божественная Жюдик стушевалась в охватившей его тревоге, от которой у него похолодели руки. В первый раз Покатилов только заметил эту эффектную женщину, как замечал тысячи других красивых женских лиц, но теперь он не мог отвести от нея глаз, точно очарованный, чувствуя, как в душе у него накопляется та совершенно особенная, тихая, приятно волновавшая тоска, с какой начинались все безчисленныя его увлечения женщинами. Музыка, сцена, публика – все это было только декорацией, оправой, в какой нуждается даже редкой цены камень. "Что же это такое, в самом деле?" – с каким-то ужасом подумал Покатилов, оглядываясь кругом, точно он искал невидимой помощи. А там, в душе, так и накипало то мучительно-приятное чувство, которое неудержимо тянуло взглянуть в ложу направо. Неисправимые пьяницы чувствуют такое же тяготение к первой роковой рюмочке. Oncle заметил Покатилова и издали улыбался ему своею покровительственною, добродушною улыбкой. Второе действие кончилось, и Покатилов в каком-то тумане побрел в буфет, где встретился с oncl'ем. – Здравствуй, племяш,– громко заговорил oncle, крепко пожимая руку Покатилова.– Что ты такой кислый? – Ничего... – Ах, да, Сусанна Антоновна желает с тобой познакомиться. Она два раза спрашивала меня про автора царскосельских скачек... Ну, доволен, плутишка?.. Пойдем, я тебя сейчас же представлю ей. – С удовольствием... только удобно ли это будет?.. Там, кажется, есть кто-то... в ложе? – Это еще что такое?.. Все свои: Нилушка, какой-то Богомолов. Oncle подхватил Покатилова за руку и потащил в бельэтаж, в ложу Доганской; при входе они столкнулись с Нилушкой и Бегичевым. Доганская разговаривала с Богомоловым и в то же время едва заметно улыбалась кому-то в партере. Покатилов поймал эту улыбку и ревниво посмотрел по ея направлению: там виднелось бледное лицо Теплоухова. – Сусанна Антоновна, позвольте представить вам молодого человека, подающаго большия надежды,– громко заговорил oncle, выдвигая вперед Покатилова.– Мой племянник, Роман Ипполитович Покатилов. – Очень рада, очень рада,– спокойно ответила Доганская, протягивая свою руку Покатилову.– Я уже слышала о вас, Роман Ипполитович. – Отличный малый и владеет чертовски слогом,– не унимался oncle, выпячивая груд,– вообще человек редких достоинств, Сусанна Антоновна. – Пожалуйста, довольно,– взмолился Покатилов.– Во-первых, ты испугаешь Сусанну Антоновну перечислением моих добродетелей, а во-вторых, я совсем не желаю быть раздавленным такою массою достоинств. Oncle молодцовато вскинул пенснэ на свой нос и победоносным взглядом посмотрел на Доганскую – дескать, каков малый... недурно сказано, чорт мою душу возьми! По лицу Доганской мелькнула довольная улыбка. Она весело взглянула на Покатилова своими необыкновенными, изсера-зеленоватыми глазами с широким зрачком и молча пожала ему руку еще раз. Это невольное движение смутило Покатилова, и он глупо замолчал, как попавшийся школьник. Он успел разсмотреть ея лицо. Оно было, пожалуй, даже некрасиво. Хороши были только своею загадочною красотой глаза, сросшияся темныя брови, оригинальный разрез рта, белый маленький лоб и матовый тон кожи с легким смуглым просветом. – Я пойду побродить,– заявил oncle, подхватывая под руку молчавшаго Богомолова; это была одна из милых привычек старика. Богомолов почтительно раскланялся с Доганской и покорно последовал за своим мучителем. Широкая, плотная фигура Богомолова, с короткой шеей и негладко остриженной головой, несмотря на безукоризненный костюм, все еще отдавала тем мужиком, который сидел в нем. Широкое бородатое лицо с умными, злыми глазами не понравилось Покатилову, особенно когда Богомолов делал усилие улыбнуться. Доганская проводила его глазами, чуть заметно сморщилась и с улыбкой взглянула на Покатилова. – Они меня здесь, кажется, решились уморит своими умными разговорами,– заговорила она первая таким простым тоном, точно была давно знакома с Покатиловым.– Если бы не Николай Григорич... он дядя вам? – Да... Покатилов едва разговорился, хотя никак не мог попасть в свой обыкновенный, шутливо-серьезный тон, который так нравится женщинам. По лицу своей собеседницы он заметил, что начинает нести скучнейшия вещи, и это еще сильнее смутило его. Антракт самое большее продолжается десять минут, и из этих десяти минут он уже успел потерять целых пять. ... – Послушайте, вы, кажется, хотите занимать меня?– со своею странною улыбкой спросила Доганская. – Нет, гораздо проще: я хочу показаться непременно остроумным человеком, а никак не выходит... – Да?.. Что же, по крайней мере, откровенно. Может-быть, в другой раз я буду счастливее... Это вас Николай Григорьич испортил своими похвалами. Ах, знаете, мне сегодня так скучно... так, тяжело. Говорите, ради Бога, что хотите, только снимите с меня это гадкое чувство, когда сама начинаешь сознавать, что делаешься в тягость и себе и другим. Знаете, что мне кажется: мы точно давно-давно знакомы с вами... не правда ли?.. – Я думал это же, но боялся высказать... – Скажите, кто вон в той ложе сидит... мужчина и дама? Это была ложа Брикабрака, и Покатилов расписал своего патрона в таких красках, что Доганская даже засмеялась. Это было счастливым началом, тон был найден. Покатилов ложа за ложей перебрал всю публику, а затем перешел к партеру. Он делал такия остроумныя характеристики и так смешно описывал наружность каждаго. У Доганской слегка вздрагивал левый угол рта, и она сдвигала брови, чтобы не расхохотаться. – Да вы тут решительно всех знаете, Роман Ипполитович,– удивлялась Доганская. – Это моя специальность... – Кстати, это вы описывали скачки? – Да, я. – Что у вас была за фантазия описывать одну даму... т.-е. меня? – Мудреный вопрос... Вы меня вызываете на комплимент... – Я позволяю, говорите. Все женщины уверяют, что не выносят комплиментов, по ведь это неправда, как хорошо известно каждому. Но помимо этого... Поднявшийся занавес прекратил этот разговор. Когда Покатилов уходил, Доганская с улыбкой проговорила: – Чтобы не откладывать нашего знакомства, Роман Ипполитович, я приглашаю вас к себе... После спектакля вы отправитесь прямо за нами. Мой неизменный спутник – Николай Григорьич. Покатилов раскланялся. Это преувеличенное внимание не обмануло Покатилова: он видел, что обязан им не своим достоинствам, а чему-то постороннему. Может быть, Доганская пригласила его в пику другим. Вторая половина спектакля прошла для Покатилова в каком-то полусне. Он сидел в своем кресле, как пьяный. Сцена сливалась в одно мутное пятно; Покатилов был полон сознанием того, что она была в театре.