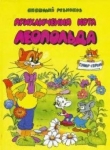Текст книги "Бурный поток"
Автор книги: Дмитрий Мамин-Сибиряк
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
V.
В свою квартиру, на Моховой, Покатилов вернулся уже в третьем часу ночи, вернулся усталый и разбитый, с тяжелою головой; он должен был крепко держаться за перила, взбираясь по лестнице в третий этаж. Проходя мимо швейцарской, он хотел немного приосаниться, но, вместо этого, сильно качнулся в сторону и чуть не упал; хитрый швейцар Григорий долго смотрел вслед писавшему вензеля барину и ядовито подумал: "Ужо вот тебе, путанику, Лизавета-то Ивановна пропишет два неполных. Позабыл, видно, какое сегодня число-то?" Номер Покатилова делился, как большинство номеров средней руки, дощатою перегородкой на три комнаты: переднюю, приемную и спальню; обстановка в таких chambres garnies везде одинакова, как на заказ; передняя пустая, в спальне кровать и умывальник, в приемной полдюжины венских стульев, репсовый диван, два кресла, круглый стол пред диваном и ломберный у стены. Немного, но для одинокаго человека, совершенно достаточно, чтобы из этого немногаго производить вечный безпорядок, который создан имеет с холостяками. Покатилов проживал здесь уже около десяти лет, хотя постоянно собирался переехать к Квасовой, но здесь удерживало его одно совершенно особенное обстоятельство. – Гм... не спит, чорт возьми!– ворчал Покатилов, с трудом отворяя дверь своего номера и разглядывая желтую полоску света, выползавшую в его приемную из-под дверей соседняго номера.– Бэтси, ты не спишь? – Нет!– отдалось после короткой паузы в соседнем номере. Снимая в передней пальто, Покатилов ударил себя по лбу и растерянно забормотал: – Боже мой, ведь сегодня двенадцатое число, а я шлялся чорт знает где! В первую минуту он сильно струсил, но потом успокоился, потому что налицо у него было готовое оправдание. Умывшись на скорую руку и напрасно стараясь принять вид трезваго человека, Покатилов осторожно отворил дверь в соседний номер и на пороге еще раз спросил: – Можно войти, Бэтси? – Боже мой, в каком виде, а я сколько раз просила вас!– в ужасе проговорила по-английски высокая женщина лет тридцати, с бледным лицом.– Вы забыли, Роман, какое сегодня число, чтобы посмеяться над моими привычками. – Ах, Бэтси, тысячу раз виноват!– извинялся Покатилов заплетавшимся языком, напрасно стараясь поцеловать руку Бэтси.– Но вышел совершенно особенный случай, Бэтси, и ты извинишь меня. У меня приехала из Сибири сестра, с которою я не видался целых двадцать лет, ну, я у них просидел весь вечер. Ты пойми только: двадцать лет не видались, да! Англичанка пытливо смотрела на улыбавшагося пьяною улыбкой друга и, покачав отрицательно головой, проговорила с подавленным вздохом: – Нет, я не могу поверить, чтобы вы явились от сестры в таком ужасном виде; сестра никогда не позволит. – Уверяю тебя, Бэтси. – У вас совершенно неорганизованный характер,– решила Бэтси, закрывая даже глаза от ужаса. Эта фраза была на языке Бэтси чем-то в роде смертнаго приговора, и она пускала ее в ход только в самых решительных случаях, в роде сегодняшняго, когда прождала Покатилова с восьми часов вечера до половины третьяго. Номер Бэтси был точно такой же, как и у Покатилова, но он был так мило и уютно убран, что походил на какое-то гнездышко: мебель у Бэтси была вся своя – настоящая английская мебель, приспособленная к домашнему комфорту. Мягкие ковры на полу, драпировки на окнах и на дверях, много цветов, альбомы на стеле пред диваном, ореховый шкап с серебром и фарфором, письменный ореховый стол с разными бюварами и кипсэкани, белоснежная кровать в спальне, мраморный умывальник,– одним словом, все здесь до последняго гвоздя было настоящее английское, обязанное напоминать свееи хозяйке о дальней родине, о той старой Англии, которая разсылает много таках Бэтси по всем частям света. Этот номер среди остальных квартир казался каким-то острогом, и даже швейцар Григорий, этот завзятый скептик и нигилист, считавший одною из своих обязанностей относиться ко всем жильцам свысока, даже он относился к углу Бэтси с невольным уважением, а хозяйку называл не иначе, как Лизавета Ивановна, хотя отца Бэтси звали Альбертом. Каждое утро Григорий непременно караулил, когда пойдет Бэтси на уроки, стремительно выскакивал из свой сторожки и, сняв фуражку с золотым околышем, торжественно распахивал двери подезда. – Сегодня страшенная мокреть на дворе, Лизавета Ивановна,– докладывал Григорий, желая быть непременно любезным. Сегодня, как и каждое двенадцатое число, номер Бэтси принял особенно праздничную обстановку: зажжена была стенная лампа, на столе пред диваном в закрытых блюдах был приготовлен ужин, тут же стояла бутылка настоящаго английскаго кларета и два прибора для чая по-английски, т.-е. со спиртовою лампочкой, над которой чай варится так же, как мы варим кофе. Сама Бэтси была тем, чем бывают в тридцать лет одне англичанки: сухощавая, строгая, безукоризненно чистоплотная, как кошка. Лицо у нея, вытянутое, с прямым коротким носом и выставлявшимися передними зубами, было красиво и симпатично именно в английском вкусе – своим прелестным тоном кожи, свежестью серых глаз, серьезною простотой в выражении рта; простая прическа белокурых волос с золотистым отливом и всегда чистый и свежий, как только-что расколотый мрамор, воротничок дополняли портрет Бэтси. Вот относительно своих костюмов Бэтси постоянно грешила против основных требований эстетики, потому что решительно не умела одеваться, как все англичанки, и притом имела привычку всегда носить широкий кожаный пояс, придававший ея фигуре что-то такое монашеское. Сегодня Бэтси нарядилась в какое-то необыкновенное шерстяное платье, цвета бордо, и повязала шею ярко-желтым шарфиком, что ее делало ужасно похожею на попугая. – Нет ли у тебя спирта какого-нибудь?– спрашивал Покатилов, чувствуя, как у него пред глазами вся комната пошла кругом.– Я через полчаса буду здоров. Ты на меня, пожалуйста, не сердись, голубчик, потому что... понимаешь: сестра. – Да, я понимаю такое поведение со стороны швейцара Григория, который, по случаю приезда сестры, напьетея, как сапожник, и приколотит жену,– говорила Бэтси, подавая какой-то флакон,– а вам, образованному человеку... нет, русские положительно низшая, совсем неорганизованная раса! – Ну, Бэтси, и англичане тоже бывают иногда хороши: пьяные лорды постоянно бьют жен каминными щипцами, а то и каблуком в живот. В этом роде был целый ряд процессов. – Нам лучше всего прекратить этот разговор,– печально проговорила Бэтси, делая необходимыя приготовления к чаепитию.– Вы не убедите меня вашими анекдотами, я не сумею убедить вас, следовательно нам лучше обходить молчанием эту щекотливую тему. Вы хотите есть?.. Вот здесь холодная телятина, индейка, язык. Спирт, которым Покатилов натирал себе виски, произвел надлежащее действие и понемногу привел его в себя. Покатилов несколько раз внимательно осмотрел всю обстановку, точно видел ее всего в первый раз, встряхнул волосами и в раздумье проговорил: – Бэтси, голубушка, гони меня, потому что я вечная неисправимая свинья... погибший человек... человек улицы... Улица?! Если бы ты только знала, Бэтси, какое это страшное слово... улица не знает пощады, как не знает пощады болото, которое медленно засасывает всякаго, кто имел несчастие попасть в него. А я... я органически прирос к улице, душой прирос, и мы, кажется, отлично понимаем друг друга: улица мне аплодирует... она любит меня по-своему, как мать своего ребенка. – Послушайте, вы сходили бы переодеться,– предлагала Бэтси, не понимавшая этих излияний,– а то от вас пахнет чем-то таким... – Улицей пахнет, голубушка Бэтси... да, улицей, т.-е. пивом, табаком, потом и еще... гм... Действительно, всего лучше будет переодеться. "Погибший, несчастный человек!– с тоской думала Бэтси, оставшись одна.– А самое страшное то, что Роман добрый человек... Боже, Боже!.. Чего я только ни прощала этому жалкому человеку? Каждый раз раскаивается точно для того только, чтобы сейчас же начать свои уличныя похождения. И вся нация у русских такая – самые неорганизованные характеры... И главное, ничем нельзя помочь!" И, за всем тем, эта целомудренно-суровая и неприступно-чистая Бэтси любила человека с его "совершенно неорганизованным характером" и даже теперь несколько раз повторила про себя это ласковое слово, которым называл ее Роман. "Голюбушка... голюбушка..." – шептала Бэтси, и по ея бледному лицу разлился горячий румянец, так что, когда Покатилов вошел опять в комнату, ему показалось, что Бэтси плакала. – Бэтси... что с тобой?– с участием спрашивал он, останавливаясь.– Слезы? Вместо ответа, Бэтси стремительно бросилась к нему на шею и с каким-то шопотом принялась его целовать, как целуются между собой институтки; эти порывы какой-то детской нежности всегда смущали Покатилова, вызывая в душе вереницу его собственных некрасивых проступков против этой чистой любви. Но теперь Покатилов не мог удержаться от невольной улыбки, потому что Бэтси, целуя ему шею, в то же время обнюхивала его, как кошка... Через четверть часа они сидели на диване и беседовали самым мирным образом. Бэтси, несмотря на всю свою английскую выдержку характера, любила послушать разсказы неорганизованнаго человека об его неорганизованных делах и делишках. Покатилов, в свою очередь, любовался Бэтси, когда она слушала что-нибудь внимательно; лицо у нея принимало такое наивное, детское выражение, что невольно хотелось его целовать без конца. И теперь, пока Покатилов разсказывал о сестре и своем зяте, Бэтси слушала его, вся вытянувшись, как насторожившаяся птица. Разсказывая о сестре, Покатилов передал в ярких красках эпизод о том, как отплатила за свое воспитание Сусанна, а потом разсказ Пухова. Бэтси в такт разсказа покачивала своею головкой и все время, не спуская глаз, смотрела Роману прямо в лицо, точно боясь, что он вот-вот вспорхнет и улетит. – Что же твоя сестра?– спрашивала Бэтси задумчиво.– Будет она мстить этой Доганской. или... – Ты разве ее знаешь? – Я?.. Нет. – Как же ты знаешь фамилию этой дамы, когда я совсем не называл ее? – Ты забыл, что сейчас только назвал... Мороз-Доганская. – Гм... это иногда со мной случается, а все-таки странно, что я забыл. Бэтси вся вспыхнула и даже опустила глаза: она сегодня солгала, солгала, чтобы отмстить хотя чем-нибудь за постоянное вранье Покатилова. Она только-что познакомилась на-днях с этою Доганской и теперь с особенным интересом слушала ея биографию. Бэтси казалось, что Покатилов начинает увлекаться этою неизвестною ему женщиной, так романически начавшей свою молодую жизнь. Ведь такие люди, как Роман, способны на самыя дикия выходки и могут увлечься женщиной, которой даже не видали ни разу. В душе Бэтси, как грозовое облачко, всплыло нехорошее и тяжелое чувство: она вперед ревновала Покатилова к этой Доганской, хотя отлично знала, что на серьезное и глубокое чувство он не был способен. Сколькими женщинами увлекался он, живя с ней, но она смотрела на слабость к женщинам сквозь пальцы и старалась, по возможности, не думать об этом. – Сестра у меня совсем уж не такая, как я,– разсказывал Покатилов, отвечая на вопрос Бэтси.– У сестры вполне организованный характер, даже слишком, может-быть, потому что она, видимо, держит мужа под башмаком... А что касается этой Доганской, то сестра не такой человек, чтобы попуститься ей: она ее доймет, непременно доймет. Вот и интересно, как это она устроит. Ах, Бэтси, как смешно этот капитан назвал квартирантов в chambres garnies у Квасовой: короли в изгнании... Ха-ха!.. Это очень смешно, голубушка... Покатилов, благодаря спирту, совсем протрезвился и теперь шутил и смеялся со своею обыкновенною непринужденностью, как самый любезный кавалер, есть он, пожалуй, не хотел, но поужинал очень плотно, чтобы хотя этим загладить свой проступок: оставить нетронутым ужин Бэтси было равносильно кровному оскорблению, котораго она не умела прощать. Обеды и ужины в глазах Бэтси носили какое-то патриархальное значение, как домашнее таинство, и на нее всегда производили известное впечатление даже такие пустяки, как чистое столовое белье и сервировка, напоминая о торжественной солидности столовых старой Англии. – Ну, а что же ты ничего не разскажешь мне о себе, Бэтси?– спрашивал Покатилов, запивая телятину рюмкой портвейна. – Что же мне разсказывать когда у меня вечно одна и та же новость: уроки. – Ах, да... чуть не забыл. У сестры есть дочь, девочка лет четырнадцати, ее нужно будет учить по-английски; вот я и отрекомендую тебя. – Не знаю, удобно ли это будет,– ответила Бэтси, немного смутившись.– Как еще взглянет твоя сестра, когда узнает о наших отношениях, потому что какой это будет пример для девочки? – Пустяки, Бэтси. У нас смотрят и не на такия вещи сквозь пальцы, а до этого решительно никому дела нет: всякий живет по-своему. – Все-таки... я не хочу красть ничьего доверия. – Ах, какая ты иногда бываешь... упрямая! Они так проболтали до четырех часов, когда Покатилов распростился, чтобы итти в свою комнату. Бэтси чувствовала себя очень утомленной после тревог одиноко проведеннаго вечера и на прощанье проговорила усталым голосом: – Все-таки, Роман, хотя я люблю тебя и все прощаю тебе, но у тебя совершенно неорганизованный характер... – Бэтси, клянусь тебе, что это в последний раз!.. А впрочем, я все-таки свинья... Раздеваясь, Покатилов несколько раз повторил: "Какая славная эта Бэтси... и какой я мерзавец, ежели разобрать!" Покатилов и Бэтси составляли одну из тех странных пар, какия создает петербургская жизнь. Обыкновенно Покатилов редко где уживался на квартире больше года и, вероятно, в номерах Баранцева, где жил теперь, тоже прожил бы не дольше, если бы случайно не встретился с Бэтси. Он проживал в номерах Баранцева второй месяц, когда в соседи к нему переехала молоденькая англичанка, учительница мисс Кэй, как она была записана на черной доске в передней. Молодые люди иногда встречались в коридоре и на лестнице. Покатилов вежливо раскланивался каждый раз, но этим дело и ограничивалось. Ни родственников ни знакомых у Кэй не было во всем городе ни души, и жила она в своем номере, как монахиня, или, вернее, как заведенные раз и навсегда часы: утром вставала в шесть часов, убирала сама свою комнату, пила чай, занималась, в девять часов уходила на урок, возвращалась в три, обедала и затихала до следующаго утра. Что делала молодая особа вечером, Покатилов не мог себе даже представить и только удивлялся спокойному и выносливому характеру красивой соседки, причем невольно сравнивал жизнь этой добровольной отшельницы со своею собственной: он никогда и ни в чем не любил себе отказывать, а тогда жил уж совсем нараспашку, прокучивая до последней копейки весь свой заработок. Раз только, возвращаясь откуда-то с очень веселаго вечера, Покатилов неожиданно столкнулся с мисс Кэй в коридоре, и ему показалось, что у ней глаза были заплаканы. – Что с нами, m-lle?– с непритворным участием спросил он ее.– Не могу ли я чем-нибудь помочь вам?.. Это слово участия, брошенное на ветер, заставило мисс Кэй остановиться и внимательно посмотреть на своего соседа; она как-то вдруг смутилась и, опустив еще не остывшие от слез глаза, проговорила: – Вы ошибаетесь, я не девушка, а вдова... притом я привыкла обходиться во всем без посторонней помощи. Впрочем, я очень благодарна вам за ваше участие... "Какая странная женщина!– невольно подумал Покатилов, удаляясь в свой номер.– И ведь кто мог бы подумать, что она вдова! Да, предмет довольно интересный для изследования". На другой день,– это было двенадцатаго мая,– Покатилов получил лаконическую записку от мистрис Кэй, которая приглашала его к себе по очень важному делу. Зайти к молоденькой вдовушке для Покатилова ничего не составляло, и он отправился к ней с самым беззаботным видом, насвистывая какую-то опереточную арию. Англичанка встретила его очень чопорно и провела в парадную комнату, убранную, как и сегодня; дело было вечером, и на столе был холодный ужин для двоих, два чайных прибора, две рюмки для вина и даже две свечи. – Вы не откажетесь со мной поужинать?– предложила мистрис Кэй.– Мне сегодня ужасно скучно... я не привыкла этот день проводить одна. Такой прием смутил даже Покатилова, который долго не знал, как себя держать с странною вдовушкой. За ужином она откровенно разсказала свою несложную биографию: родилась она в Англии, где и получила воспитание, а потом вышла замуж за мистера Кэй, механика на чугуннолитейном заводе англичанина Зоста в Петербурге, и переехала с мужем в Россию. Через три года мистер Кэй умер, и она осталась попрежнему в Петербурге, где Зост предложил ей занятия в своем семействе и рекомендации в другие дома. – В Англию мне ехать было незачем, потому что там и без меня много голодных женских ртов,– заключила свой разсказ вдовушка.– А здесь еще можно жить... – Вы меня извините, если я не могу быть с вами настолько же откровенным,– отвечал Покатилов,– но я постараюсь разсказать все из моего прошлаго, что для вас будет интересно. Свою биографию Покатилов передал в шутливом тоне, и молодые люди провели ужин самым непринужденным образом. Когда нужно было уже прощаться, Покатилов вспомнил, что он был приглашен по какому-то важному делу, а между тем никакого серьезнаго разговора еще не было. – Однако я порядком засиделся у вас,– проговорил нерешительно Покатилов, посматривая на часы.– Вы, кажется, рано ложитесь спать? – О, нет, вы не безпокойтесь... я ничего... – Кстати, вы писали а каком-то важном деле?.. – Да... сегодня двенадцатое число,– смутившись, обяснила мистрис Кой.– Мне просто было скучно провести этот вечер одной. Впрочем, я обясню значение этого числа после. Эта наивная сцена кончилась тем, что разделявшая два соседних номера дверь теперь соединила их, и молодые люди обязательно праздновали двенадцатое число каждаго месяца. Покатилов полюбил свою соседку, которая через восемь лет совместнаго сожительства была все такою же, какою он узнал ее в первый день знакомства; в ней было что-то идеальное и такое чистое, чему трудно прибрать подходящее название. Несколько раз Покатилов предлагал ей обвенчаться, но Бэтси отказывалась самым упорным образом от этой чести и не согласилась быть ныне Покатиловой даже тогда, когда у ней родился ребенок. Впрочем, этот ребенок скоро умер. – Отчего же ты не хочешь быть моею официальною женой, Бэтси?– спрашивал много раз Покатилов. – Не хочу себя стеснять... теперь я свободна, а свобода дороже всего на свете. Притом мне кажется, что официальных жен, право, меньше любят и уважают, потому что там муж обязан быть мужем, а здесь ты ничем не стеснен и можешь завтра же меня оставить. У меня теперь спокойна совесть, а это главное. – Ты, Бэтси, лучшая из женщин!– восторженно провозглашал Покатилов,– но нехорошо только вот что: при таких сожлтельствах известныя неловкия отношения падают всею своею тяжестью на женщину, а я этого совсем не желаю. – Да... но ведь не ты виноват, что общество везде не в силах отрешиться от известных предразсудков... Да и что я могу представлять для общества? Гувернантка, которая работает за известныя деньги, и только. Я живу сама по себе, и потому до меня дела нет, а тем более до моей интимной жизни. Это счастливая привилегия всех маленьких людей, незаметных, как букашки... Покатилов часто сравнивал себя и свое поведение с жизнью Бетси и каждый раз должен был "казниться", как говорил швейцар Григорий. По происхождению он был из богатой чиновничьей семьи; избалованный дома, он не мог получить правильнаго образования и до двадцати лет переходил из одного заведения в другое, нигде не кончил курса и проболтался несколько лет вольнослушателем при университете, тоже без особенных результатов. Безспорно способный человек, он нигде не мог себе найти места, попеременно меняя всевозможныя профессии. Покатилов думал быть сначала музыкантом, потом юристом, учителем какой-нибудь женской гимназии, стенографом, чиновником и т. д. Где он ни побывал и чего ни попробовал на своем веку, но его всегда неудержимо тянуло в столицу, в шумную столичную жизнь, к которой он чувствовал какое-то болезненное пристрастие, потому что сроднился с вечною сутолокой, движением и какою-то оторопью специально-столичнаго существования. Слишком раннее знакомство с добром и злом бойкой уличной жизни оставило в характере Покатилова глубокий след, и он сам сознавал, что в некоторых отношениях неисправим; у него выработались вкусы и привычки постояннаго посетителя трактиров, танцклассов и кафешантанов. Таких столичных молодых людей, успевших в двадцать лет переиспытать все и, вследствие такой преждевременной опытности, пропитанных чисто-уличным скептицизмом и уличной taedium vitae,– таких молодых людей, не знавших молодости, в Петербурге слишком много, и все они кончают в большинстве случаев очень скверно. По своей увлекающейся, непостоянной натуре Покатилов, вероятно, вчень скоро кончил бы свою карьеру трактирным героем, но его спасла газетная работа, на которой он и остановился окончательно. Для такой уличной газетки, как "Искорки", Покатилов был незаменимым человеком, потому что собственным опытом знал все вкусы, привычки, слабости, недостатки и пороки той улицы, которой служила уличная пресса. Другим обстоятельством, сильно поддерживавшим Покатилова, была его совместная жизнь с Бэтси; он от души любил и уважал эту женщину и всегда преклонялся пред ней. Но и Бэтси не могла спасти Покатилова от влияния неудержимо тянувшей его к себе улицы. Покатилов часто исчезал совсем на несколько дней, пропадал в обществе самых подозрительных личностей Бог знает по каким притонам и являлся, измятый и разбитый, с вечным раскаянием, клятвами, обещаниями исправиться и с новыми силами для ведения уличной хроники. Подобныя грехопадения Покатилов называл "собиранием материала" и по-своему, пожалуй, был прав, потому что газетное дело любил и вел свой отдел образцово, так что в специально-уличной литературе пользовался большою популярностью и даже составил себе некоторое имя. – Ежели бы Петербург был Парижем, то ты теперь уже составил бы себе состояние своей профессией,– обяснял ему дядя Бередников,– а так как Петербург только Петербург, то и тебе цена грош... Не огорчайся, пожалуйста, моею откровенностью: все на белом свете относительно. Ты, по крайней мере, можешь утешиться тем, что у тебя несомненный талант, а уж не твоя вина, что ты имел ошибку родиться в Петербурге.
VI.
Первою заботой Калерии Ипполитовны по приезде в Петербург, конечно, был костюм. Далекая провинция донашивала старыя моды. Освоившись с новыми комбинациями мод, Калерия Ипполитовна не могла воспользоваться лучшею их стороной, потому что ей было уже сорок лет. Необходимо было остановиться на некотором компромиссе, который помирил бы требования недавней красавицы с приличиями солиднаго возраста. Под разными предлогами Калерия Ипполитовна побывала у лучших модисток-француженок, выбрала себе фасон и отдала сделать несколько платьев простой русской швее, которая совсем лишена была творческаго дара в своей специальности и могла только исполнять чужия приказания. На первый раз было сделано черное шелковое платье для визитов, шерстяное осеннее для домашних приемов и т. д. Когда вопрос о костюмах пришел к благополучному концу, Калерия Ипполитовна отправилась с визитами, причем, конечно, был составлен самый точный маршрут, пересмотренный и дополненный несколько раз. От этих первых визитов зависело слишком много, чтобы отнестись к ним легко: это была настоящая военная рекогносцировка, составленная по всем правилам стратегики. Как все провинциалы, потерявшие место, Мостовы отправились прямо в Петербург с теми надеждами и расчетами, какие неизбежно являются в таких исключительных случаях. Люди, выбитые из позиции, все похожи друг на друга, несмотря на различие характеров, воспитания и общественнаго положения,– все они как-то вдруг теряются, начинают заискивать, унижаются, жалуются, всем надоедают и кончают большею частью тем, что попадают наконец в разряд неудачников и непризнанных гениев. Замечательно то, что в этом противоестественном положении даже самые твердые душой люди теряют спасительное чувство меры и начинают думать как-то совсем по-детски, чтобы не сказать больше. Мостовы в этом случае не были исключением и тешили себя самыми несбыточными падеждами и мечтами, по пальцам пересчитывая своих петербургских знакомых и особенно людей с весом. В самом деле, князь Юклевский, барон Шебек, Андрей Евгеньич... кажется, достаточно? – Прежде всего, конечно, к maman,– думала вслух Калерия Ипполитовна, натягивая шведския перчатки.– Там оставлю Юленьку и поеду дальше. Maman может быть очень полезной, если только захочет. Maman жила в собственном домике, на Васильевском острове, в восьмой линии. Это было далеконько, но, все равно, карета была нанята на целый день. Юленька, одетая в короткое фланелевое платьице, все время вопросительно посматривала на мать, предчувствуя, что совершается что-то очень важное. Это была умная девочка, не нуждавшаяся в обяснениях. – Мама, я не люблю бабушку,– проговорила Юленька, когда оне уже садились в извозчичью карету. – Глупости!– проговорила мать, слишком занятая собственными соображениями, по потом прибавила:– отчего не любишь? – Так... – Ах, сколько раз я просила тебя никогда не повторять этого глупаго слова! Ты не ребенок, Юленька. – Да она, мама, так странно улыбается и потом... все что-то шепчет про себя. Домик бабушки был всего в один этаж и казался таким маленьким среди своих четырехэтажных соседей; на улицу он выходил пятью светлыми окнами, заставленными цветами. Парадное деревянное крыльцо вело в темную переднюю, где сразу охватывало совершенно особенною, какою-то тепличною атмосферой: пахло зеленью, какими-то необыкновенными, старинными духами и чем-то таким хорошим, чем пахнет в старинных барских домах. Маленькая, уютная зала, потом такая же гостиная, столовая, спальня,– все было разсчитано на удобства существования, и не было в доме решительно ничего, что говорило бы об экономических расчетах. Старинная, неудобная мебель, старинные ковры, старинныя драпри, старинныя картины, старинный фарфор в горках, две старых собачки-крысоловки, старыя канарейки на окнах, старый лакей Осип в передней, пара старых шведок в конюшне, несколько старинных экипажей в каретнике и в дополнение ко всему этому старинная бабушка Анна Григорьевна Покатилова, низенькая, немного сутуловатая, но еще очень бодрая старушка, с свежим для своих семидесяти лет лицом и живыми глазами. Бабушка любила все маленькое: ходила маленькими шажками, пила чай из маленькой китайской чашечки маленькими глотками, крестилась маленькими крестиками и даже говорила маленькими отчетливыми фразами. В разговоре она никогда не употребляла длинных слов и читала только маленькия французския книжки, походившия на молитвенники. Единственною большою вещью в доме бабушки был ея покойный муж, отставной, точно замороженный николаевский генерал, да и тот догадался рано умереть, чтобы не нарушать своим существованием гармонии бабушкина дома, который сама Анна Григорьевна называла скорлупкой. Злые языки говорили, что в свое время, когда Анна Григорьевна была в числе первых красавиц, она любила только рослых мужчин. Впрочем, в веселую минуту maman и сама не стеснялась разсказывать о своих приключениях; она пожила в свою долю и теперь говорила о себе, как о постороннем человеке. Да и из кавалеров ея времени почти никого уже но осталось в живых. – Ах, Julie, какия у тебя громадныя ноги,– ужаснулась старушка, наблюдая, как внучка стягивала с ног калоши.– Я, кажется, умерла бы со страха, если бы у меня были такия калоши... – Maman, я к вам только на минутку,– предупредила Калерия Ипполитовна, не снимая перчаток.– Насилу собралась сездить с визитами... Совсем отвыкла от этих церемоний. Ах, да, у нас был Роман. – А, был... Ну что, хорош?– оживленно заговорила Анна Григорьевна, и по ея лицу пробежала ироническая улыбка.– Все еще великаго человека изображает из себя... да? Он сделал, mon ange, только одну непоправимую ошибку: родился немного поздно, когда все великия дела уже были сделаны. Говорила бабушка тихим певучим голоском и смеялась неслышным ядовитым смехом, разгонявшим по ея лицу целую сеть морщил; ея лицо портило отсутствие передних зубов, отчего рот совсем ввалился и подбородок подходил к загнутому орлиному носу. Нужно заметить, что бабушка нюхала табак из маленькой фишифтяной табакерки, завернутой в маленький носовой платок с маленькими метками, и от нея вечно пахло одними и теми же духами. – Да, он какой-то такой странный, maman,– уклончиво ответила Калерия Ипполитовна, поправляя прическу перед маленьким зеркалом.– Его даже не поймешь хорошенько. – Трудно, трудно понять,– лепетала старушка, усаживая внучку на круглый диванчик в форме раковины.– Беда в том, что он и сам-то, кажется, не понимает себя... Много нынче таких людей развелось... А вот ты сезди к Чвоковым и посмотри... Нилушка-то как шагает... да. Julie, ты берешь в рот такие большие куски... Юленька действительно только-что расположилась полакомиться из бабушкиной бонбоньерки, как бабушкино замечание заставило ее поперхнуться. – Вот я говорила... говорила... у тебя рог будет большой, как у щуки. – Maman, я, право, не знаю, ехать ли мне к Чирковым... Мне что-то не хочется совсем, да и я так мало была с ними знакома. – Ах, mon ange, нельзя, совсем нельзя... Нилушка теперь сила... Может пригодиться. Я его очень уважаю... из ничего человек пошел в гору. Да... за ним все ухаживают. Бабушка торопливо сыпала коротенькими фразами и в то же время гладила внучке руки и колена и несколько раз целовала ее своими тонкими и сухими губами в затылок, что очень сконфузило Юленьку, у которой еще стояли в глазах слезы от сдержанной перхоты в горле. – К Агнесе можешь и не ездить... и к Barbe тоже,– предупреждала старушка. – Оне все там заплесневели в своих канцеляриях... Oncle Nicolas из конюшни не выходит... Пожалуй, заверни к Берестовским, к Даниловым. Так все, пустой народ... Нынче другое, mon ange. Все какие-то неизвестные люди... И Бог знает, откуда они берутся? Да, чуть не забыла: ты помнишь Густомесовых? Кадет был Густомесов, еще за тобой ухаживал и часто сидел в карцере. Калерия Ипполитовна сделала движение головой в сторону дочери, но старушка совсем не желала понимать этого предупреждения и продолжала в том же духе: – Что ж такое?.. Это в порядке вещей... Все кадеты таковы... Конечно, Julie это еще рано знать, да нынче и прежних кадет уж нет... да. Так я про Ѳедю Густомесова начала... у него в голове, не совсем, а ничего, ласковый был мальчик. Всем угождать умел, а теперь себе угодил... Пятьсот десятин на Кавказе получил да две тысячи в Уфимской губернии. Невесту богатую все ищет, пожалуй, как раз Julie дождется... – Ах, maman... право, уж вы... – Что же я такое сказала, mon ange?.. Julie сложена очень хорошо, а старые холостяки таких женщин любят... я знаю толк в этих вещах. – Довольно, довольно, maman... Я сейчас уезжаю, а вы не очень тормошите без меня Юленьку. Она и то на вас жалуется... – Вот еще какая недотрога!... Нехорошо ссориться с бабушкой, Julie... бабушку все любили... т.-е. прежде любили, конечно, когда она не была такой старухой. Калерии Ипполитовне ужасно не хотелось ехать ни к Чвоковым ни к Густомесовым: у Чвоковых она могла столкнуться носом к носу с Богомоловым, а смотреть на Ѳеденькино счастье ей было тяжело теперь в особенности, потому что когда-то давно она мечтала быть m-me Густомесовой. Но делать было нечего, приходилось покориться необходимости. – Конечно, я, с своей стороны, постараюсь сделать все, что от меня зависит,– говорила Анна Григорьевна, не слушая дочери,– она привыкла, чтобы все ее слушали.– Князь ІОклевский... барон Шебек... наконец Андрей Евгеньич, если на то пошло, помогут нам. – А я, право, начинаю думать, maman, что никто уж нам не поможет,– капризно заговорила Калерия Ипполитовна, хотя сама думала совсем другое,– ей просто хотелось немного побесить maman.– Очень нужно кому-то хлопотать за нас... Да и то сказать, maman, нынче уж везде новые люди, а у нас связи со стариками. Право, я думаю, что ничего не выйдет из наших хлопот. – По-твоему, значит, и Андрей Евгеньич уж ничего не значит?– прищурившись, спрашивала старушка.– Андрей Евгеньич... а?.. "Молодые везде"... ну, это еще дудки, ma chère!, Разсердившись, Анна Григорьевна выражалась иногда чрезвычайно вульгарно, и теперь у ней на самом кончике языка висело одно такое словечко, котораго нет ни в одном академическом словаре, но присутствие внучки и умоляющий жест Калерии Ипполитовны во-время удержали расходившуюся старушку. – А Ѳедька Густомесов, по-твоему, через кого жить пошел?– заговорила Анна Григорьевна, сверкая глазами.– А Берестовские? А Даниловы как примазались к золотому департаменту... а?.. Ну, ну, ну?.. Молодые! Что молодые значат, когда Андрею Евгеньичу стоит только плюнуть, и все будет по-его? Молодые-то, которые поумнее, как ухаживают за Андреем-то Евгеньичем... да!.. – Maman, на что же вы сердитесь?– говорила Калерия Ипполитовна, делая вид, что не понимает причин волнения maman.– Я разве оспариваю ваше мнение, я только про себя говорю... Ведь вы сами же в прошлый раз говорили мне, что Андрей Евгеньич все реже ездит к вам, ну, я поэтому и сказала. – Что же из этого, что Андрей Евгеньич реже стал ездить ко мне?– кипятилась старушка, начиная бегать по комнате маленькими шажками, точно она каталась по полу, как пружинная куколка.– Очень понятно: кому приятно ездить к старухам-то? Была моложе, тогда Апдрей Евгеньич часто ездил... А теперь я состарилась, очень понятно, что Андрей Евгеньич ездит туда, где есть молодыя да хорошенькия... о, он еще бедовый!.. А вот ты угадай, куда он ездит нынче, молодец будешь. – Где же мне, maman, угадать, когда я и старых-то знакомых перезабыла? Анна Григорьевна посмотрела на дочь своими прищуренными глазками и тихо произнесла всего только одно французское слово, которое почти укололо иглой Калерию Ипполитовну и заставило с ужасом оглянуться на Юленьку. – Maman, это уж слишком, наконец,– вспылила Калерия Ипполитовна, побледнев.– Вы забываетесь... наконец мы не одне здесь. – Э, пустяки... я в Юленькины-то года и не такия слова знала, ma chère, да ничего, как видишь, не умерла. Да и ты их от того же Андрея Евгеньича тоже, я полагаю, слыхала не раз. – То Андрей Евгеньич, а то вы, maman. – Ну, ну, будет, сама виновата, затем поджигаешь,– торопливо говорила Анна Григорьевна, стараясь принять добродушный, улыбающийся вид.– Очень я вспыльчива была, да и теперь не могу отвыкнуть от этой дурной замашки... Ну, тебе пора, а мы тут с Julie постараемся повеселее провести время. Да, моя кошечка? Юленька вопросительно смотрела на мать и неопределенно улыбнулась, когда та сделала сердитое лицо.