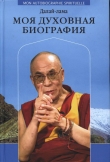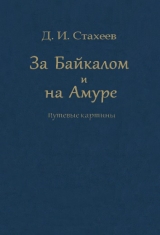
Текст книги "За Байкалом и на Амуре. Путевые картины"
Автор книги: Дмитрий Стахеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
VI
Наконец и сам я обжился в Кяхте и сам много узнал из кяхтинской жизни, из жизни, нужно сказать, давно прошлой, потому что современная мне кяхтинская жизнь стала значительно лучше прежней, хотя тоже представляла много оригинального.
Наступило время ревизии гостиного двора, каждогодно производимое таможней; работа по купеческим конторам шла горячая: купцы торопливо ходили из дома в дом, по конторам, и сводили свои счеты.
– Послушай, что у тебя по книгам, лишних товаров нет ли, а? – заботливо спрашивает один.
– Есть, мне нужно их сбыть куда-нибудь: возьми, брат, уступлю, – не менее заботливо отвечает другой.
– Ладно, ладно, давай… Эй, парень! Беги ко мне в контору, скажи, чтобы принесли сюда книги: нужно узнать, сколько там недочету по товарам.
Сверили свои счеты, купили один у другого товар, существующий на бумаге и послали таможне официальное уведомление, через контору старшин, о совершившейся продаже, с прошением перевести товары по книгам таможни от одного лица к другому.
– Ну, слава тебе Господи! – вздыхая, говорит купец товарищу: – теперь, брат, у нас с тобой чисто… а вон Чернозеров-то чево наделал, запутал контору-то, совсем запустил, – не знаю теперя, как у него и выйдет. С китайцами, дурак, все ссорится да дерется, теперь вот и надо бы положить для ревизии-то чаю в пакгаузы, а китайцы не дают: «хо – куй (черт), – говорят они, – не дадим».
– Не беда: у кого-нибудь из наших перехватит; свои люди, как-нибудь сочтемся, – успокаивает товарищ купца.
Я тоже окончил свои счеты.
– Ну-с, господин Алабовский купча, – говорил мне мой знакомый, залезая по обыкновению на письменный стол и постукивая каблуками, – один год еще прошел. Попечительница наша, матерь-таможня, еще за один год накопила в своих архивах кучу, и большущую кучу гербовой исписанной бумаги…
– Скажи пожалуйста, – спрашивал я, – ведь таможня, я полагаю, знает, что не у всех купцов верны счеты?
– Как поди не знать, – говорил мой знакомый тоненьким голоском, приложив руку к щеке, как это делают деревенские бабы.
– Для чего же все это делается?
– А кто их знает! – пищал он, не отнимая руки.
Седьмого декабря утром таможня, со всем своим штатом, явилась в торговой слободе у ворот гостиного двора. Приказчики и хозяева, каждый у своего пакгауза, дожидались ревизии. Директор, члены таможни, секретарь, бухгалтер, надзиратели, закутанные в шубы и шали и прозябшие до костей, двигались от пакгауза к пакгаузу, отмечая в своих книгах крестиками знак, что в пакгаузе все проверено и оказалось верно. У чиновников, в посиневших от холода руках, едва держались карандаши; заметно было, что они, чиновники, страшно озябли: вздрагивали, пробираемые декабрьским морозом. Конечно, все оказалось верно, так как купцы заранее были приготовлены в поверке. Экстренного же свидетельства таможня назначить не может, потому что, по закону, купцы могут просить трехдневного срока, для окончания расчетов с китайцами. По окончании ревизии прозябших таможенных чиновников купцы, конечно, не упускают случая угостить пышным обедом, с цветами, фруктами, с шампанским, с речами, тостами и глупо-важной рожей старого солдата, одетого швейцаром, с такой же, глупой как сам он, булавой в руке.
Через несколько дней после окончания ревизии начинаются выборы в старшины. С утра рассыльный Осипов, вечно пьяный, с красной рожей и посинелым носом, бегает по домам с бумагой от старшин, приглашающих на собрание.
Купечество начинает понемногу собираться в дом старшин и молча усаживается в зале. Кто побогаче, тот всегда приходит попозже, встречаемый общим поклоном. В течение пяти лет, которые я жил в Кяхте, один из тузов кяхтинской слободы постоянно приходил последним; приказчика, бывало, даже пошлет узнать, все ли собрались, и, как говорят злые языки, очень уж ему нравился общий поклон, которым его встречали при входе в залу.
В угольной[7]7
Уго́льная комната – комната, расположенная в углу дома, угловая (прим. ред.).
[Закрыть] комнате уже приготовлены выпивка и закуска. Публика, в ожидании выбора старшин, пока еще не вся собралась и изредка похаживает в угольную комнату.
– Пойдем, парень, – шепчет сосед соседу, – выпьем по рюмочке.
– По одной разве. Так и быть, пойдем выпьем.
– Скоро ли кончится все? Страх скучно! – говорит выпивший.
– Что ты, голова! Еще ничего не начиналось, а ты уж и соскучился.
– Мы сегодня хотели у Шишукина собраться…
– Да ведь вы каждый день у Шишукина?
– Нет, вчера у Ришяева… я две тысячи зашиб…
– Хорошая была вчера игра…
– А слышал ты, каких лошадей привели Василию Васильичу?..
– Как же! Как же! Нарочно ходил смотреть…
– Чудные лошади!..
– И спрыски надо делать!..
– Господа, господа, пожалуйте, все собрались… – слышится из залы.
Наскоро обтирая рты, публика чинно идет в зал, обдергивая полы сюртуков и поправляя галстуки; пришли и тихо уселись на стулья, точно святые, как говорится в простонародье. Несколько минут прошло в молчании.
– Вот теперь, господа, – несмело начинает один из старшин, вставая на ноги и упираясь рукой о стол, – надо бы выбрать новых старшин, как следует по закону…
Общество посиживает и помалкивает.
– За нынешний истекающий год, из добровольной складки, – продолжает старшина, – остаток, видно, будет небольшой…
Публика молчит. Кое-где слышатся легкие вздохи…
– Потому, – раздается снова в тишине его голос, – нынче, как вам известно, посещал Кяхту его высокопревосходительство, по этому, значит, случаю были лишние расходы, как того требовало приличие… Впрочем, это все будет показано в отчете…
Публика продолжает молчать. Кто-то тихонько сказал: – ну да, конечно, в отчете будет видно.
– Ну да…
– Конечно…
– Гм… Гм…
Опять молчание.
– Отчет, как и прежде водилось, – продолжает старшина, – мы приготовим в конторе к январю, либо к февралю месяцу, потому, как вам известно, в это время, перед свидетельством гостиного двора, дела всегда бывает много…
– Дело известное.
– Ну, конечно, понятно.
– Еще бы! Знаем, – слышится изредка со стульев.
– Теперь, господа, нужно бы приступить к выбору старшин, – говорит прежний старшина.
Публика опять молчит.
Другой старшина тихонько прошептал:
– Однако надо бы Петра Федоровича…
– Конечно, надо Петра Федоровича, – поддержал кто-то.
– Петра Федоровича, – ясно слышится третий голос.
– Ну да, ну да, Петра Федоровича, – заголосили все разом.
– Помилуйте, господа, я в третьем году служил, – кричит сильнее всех Петр Федорович, – помилуйте, как можно.
– Нет уж, Петр Федорович, послужите.
– Я нынче, если Бог даст, собираюсь съездить в Москву, тоже дела есть – нужно, – упирается Петр Федорович.
– Нет уж, Петр Федорович, уж пожалуйста, послужите, – раздается со всех сторон и публика начинает напирать на Петра Федоровича.
– Я не могу, я служил в третьем году…
– Да кто не служил? Все служили… Нет уж, Петр Федорович, как хотите…
Публика кланяется и обступает Петра Федоровича – он пятится.
В зале начинается говор. Голоса раздаются все громче и громче. Все, до того времени чинно сидевшие, поднимаются со своих стульев и напирают на Петра Федоровича.
Шум и смятение великое.
– Господа, – кричит кто-то, – просите горячее Петра Федоровича.
– Батюшка, Петр Федорович… – раздается громче со всех сторон.
Поломается Петр Федорович еще несколько времени и согласится.
– Ну, теперь кого же? – спрашивает один другого.
– Да теперь вас, Иван Кузьмич, надо…
– Что вы? Что вы? – дивится Иван Кузьмич, – да я не полагал…
– Послужите, Иван Кузьмич, что за важность – свое дело, семейное, – упрашивают купцы Ивана Кузьмича.
Опять шум, говор и опять упрашиванье. Иван Кузьмич прижат к стене и еле дышит, отмахиваясь руками.
Поломается и Иван Кузьмич, следуя примеру Петра Федоровича, и прижатый в углу – согласится. Однажды, во время выбора старшин, один осаждаемый почему-то не желал занять почетной должности и убежал. С тех пор купцы стали запирать дверь: дескать, крепче будет, не убегут.
Вслед за выбором Ивана Кузьмича, тем же порядком выбрали еще двух старшин. Скрепили все подписом, что вот так и так, торгующее на Кяхте купечество, в общем своем собрании, большинством голосов выбрали и проч…
– Ну, теперь, господа, поздравляем вас. Эй, парень, давай-ко сюда шампанского! – кричат старые, отслужившие старшины.
Выпили и поехали все к отслужившим старшинам, там выпили и пустились к новым, только что выбранным старшинам, у них тоже попили и, покачиваясь из стороны в сторону, разъехались по домам.
Наутро герои праздника с больными головами поехали принимать присягу на верность и честность службы… «Даже не щадя живота своего», – повторяли они за священником, держа правую руку кверху и разогнув два пальца. После присяги представились директору таможни и градоначальнику с покорнейшей просьбой не отказаться откушать хлеба-соли, как водилось и в старые, дескать, годы тем же порядком.
Опять обед торжественный с шампанским, спичами, цветами и проч. и проч.
Через несколько дней новые старшины назначают собрание. Опять Осипов бегает по домам купцов. Собрались купцы.
– Вот теперь, господа, – говорит новый старшина Петр Федорович, понюхивая табачок, – нужно назначить цифру, какую брать с вывозимых ящиков… я насчет добровольной складки говорю…
Публика молчит. Слышатся тайные вздохи.
– То есть, видите ли, оно конечно, как и прежде, и в старые годы водилось, тоже, значит, каждый раз составляли, примерно, заранее подписку, что вот так и так, на текущий расход обязываемся в добровольную складку вносить по такой-то сумме с каждого ящика.
Публика по-прежнему молчит. Петр Федорович еще понюхал и опять начал говорить, – как прежде, в старые годы, как недавно и проч… – Он был большой говорун, только бы слушатели были. Долго он толковал, понюхивая, пока не перебил его Андрей Яковлевич, самый набольший туз в кяхтинской слободе.
– Так что же, значит, акт, гг. старшины, приготовьте, – сказал он. – Я согласен прошлогоднюю цифру платить… Полагаю, что общество не откажется.
Публика все помалкивает.
– Так, значит, так же, как и в прошлом году, – говорит старшина, – акт следовательно приготовить… Господа! Как вы думаете? Вы согласны по старой цифре назначить складку?..
Молчание продолжается.
– Да вы, Петр Федорович, обойдите каждого поочередно и спросите, – говорит Андрей Яковлевич, искоса посматривая на общество.
– Вы согласны? – спрашивает Петр Федорович, подходя к одному из собравшихся.
– Согласен, – шепотом говорит тот, вставая на ноги.
– Вы согласны? – продолжает Петр Федорович, подходя к другому.
– Как будет Господу угодно, – со вздохом говорит другой, ничего не понимая, что кругом делается.
– Вы согласны? – спрашивает старшина далее.
– Как общество, – отделывается другой.
– Да общество согласно, – говорит Петр Федорович, щелкая пальцем по табакерке.
– Куда, значит, люди – туда и мы. Только я первый к акту подписываться ни за что не буду.
– Вы согласны?
– Гм… Гм… Как общество…
Каждый из отвечающих говорит шепотом, а почему – Господь их знает…
VII
Переспросил Петр Федорович всех поочередно и снова сел на стул. Начался спор, кому подписывать бумагу, и никто не решался подписаться первым; снова пришлось старшине ходить и поочередно упрашивать подписаться. Поднялся шум и спор страшный: каждый точно оробел чего-то и уперся.
– Да на что ее, эту складку, делать-то? – закричал вдруг один из купцов.
– На что в самом деле складку, братцы? – подхватили другие.
– Нет, как же, господа. Ведь без сбору тоже нельзя.
– Кто говорит! Без складки оно тоже как же можно – никак нельзя.
– Теперь хоть не служи старшиной, так впору… – говорит Петр Федорович, набивая нос табаком.
– Оно конечно…
– Как же можно?..
– Господи помилуй! – вздыхает белобрысый купчик.
– Нет, позвольте. Вот тоже начальство бывает… никак невозможно.
Шум поднялся большой. Никто никого не слушал и каждый говорил.
– Нет, нет, погодите. Вот теперь бабка… зачем на общественный счет бабка[8]8
Имеется в виду повивальная бабка (прим. ред.).
[Закрыть] живет? Разве торговля когда родит кого? – кричал старик Макарьев.
– Торговля родит деньгу.
– Хе! хе! хе! Эт-то справедливо!
– Торговля, она тово…
– Это очень хорошо сказано, – обрадовались некоторые, довольные тем, что вопрос о добровольной складке как будто заминается.
– Нет, господа, шутки в сторону, – кричали другие: – вон из Москвы пишут, зачем, говорят, поп на общественные суммы…
– Мало ли чево пишут. Мы не татары, без попа тоже нельзя…
– Как можно без духовного отца!
– Конечно! Не ровно смертный час, вдруг… Оборони Бог…
– Конечно! Священник – это первое дело!..
– Так-то так, да пишут: заводите, говорят, на свои деньги; у нас, говорят, в Москве свои попы есть, для своего обиходу, и потому на свои деньги держим.
– Да не в попе дело… Про музыкантов тоже жалуются.
– Разве теперь, к слову сказать, музыканты большой счет составляют?..
– Мало ли на что не жалуются. Без расходу нельзя, пусть сами едут жить сюда.
– Теперь вот тоже про аптеку пишут: мы, говорят, здоровы, слава Богу, на наши деньги, говорят, в Кяхте аптеку содержат; мы, говорят, за комиссию платим…
– Оно точно. За комиссию мы получаем, а без аптеки тоже невозможно, потому не ровен час…
– Ведь этот немец, говорят, понакопил деньжищев – страсть! А ему еще жалованье платят…
– Чего и говорить, – тут-то он и лупит деньги…
– Народ немецкий…
– Перестаньте, господа! Что это вы как расшумелись… Эй, парень, шампанского! – кричал, бегая по комнате, Петр Федорович и торопливо набивал нос табаком.
– Ну, господа, подписывайте – ведь уж без этого никак нельзя – ведь и в прошлом году так было…
– Эй, господа, в самом деле давай подписывать; что тут толковать, домой пора…
– Кто же начнет-то?
– Ну да все равно, надоело, по домам пора…
– Господи благослови… – говорит белобрысый купчик и выводит на бумаге: «Кяхтинский второй купец», забывая подписать слово: «гильдии».
– Оно точно-с, – говорит он, подписавшись, – наше дело маленькое, как общество решит, так и будет. Мы, по милости Господа и Царицы Небесной, много довольны – вот что-с!
Подписи окончили и все отправились в другую комнату ужинать.
За ужином еще выпили. Макарьев несколько раз принимался доказывать, что бабку на общественные деньги нельзя держать, что торговля не родит детей.
– Да, Степан Михайлыч, вы ведь в Троицкосавске живете, так и говорите, что не нужно бабку, а нам, кяхтинским, она нужна.
– Да вы рассудите, ребята, тут дело нечисто, – кричит Макарьев.
– Ну да теперь ведь уж акт подписали, что спорить-то? – говорил довольный Петр Федорович, похлопывая пальцами по своей берестовой табакерке.
Купцы сами смекнули, что теперь спорить уж нечего, потому что споры эти ни к чему не приведут… Выпили они еще и молча разошлись по домам.
VIII
Выбранные «большинством голосов», новые старшины начали свою общественную службу и продолжали ее, конечно, тем же порядком, как и предшественники их, т. е. служили на пользу общества и государства и отслужили, как следовало ожидать, с честию. Приготовили и они отчет по приходу и расходу «добровольной складки» вместо декабря к апрелю.
– Да и куда с ним торопиться? Какой черт читать-то станет, прости Господи! Ведь все равно лежать же ему в конторе да гнить, – утешали сами себя старшины.
– Ну понятное, господа, дело. Вот я припоминаю, когда-то Андрей Яковлевич служил, так он вместо декабря едва к июлю приготовил отчет, да еще и то надо сказать, тогда от складки остались деньги тысяч до двадцати.
– Вот как! И такой грех случился, что от годовых расходов еще и остатки оказались? – спросил я, случившийся как-то при этом разговоре.
– Да, остались. Но это только раз и было, потому, видите ли, какой-то добрый человек надоумил открыть свой кяхтинский банк, ну и стали было приберегать деньжонки-то; скопилось тысяч двадцать, да тоже ничего не сделали… Андрей Яковлевич ими пользовался полгода и едва от него их кое-как вытащили: в Москву, говорит, услал променять на серебро для общественной выгоды. Стыдить уж стали всем обществом – было тогда шуму-то на всю слободу!
– Где же теперь эта сумма.
– Да где? Ушла на текущие расходы, – мало ли здесь их. Вы только подумайте, на какую ногу поставлена наша Кяхта, каждый скажет, что радушнее и хлебосольнее вы по всей России не найдете. То и дело приезжие из Иркутска, власти там разные – честь нужно сделать – вот и обед. Празднование открытия торговли 14 апреля, опять – обед. Наступление весны 1 мая – обед. Масленица – обед с блинами. Для себя от скуки сделать тоже надо три-четыре обеда, ну для поддержки клуба нужно в год отложить несколько тысяч… а разные текущие расходы.
И идет себе кяхтинское дело своим тихим манером. Получают комиссионеры за комиссии от иногородних купцов по 1 р. 60 к. с ящика и сколачивают копейку, а добровольная складка доставляет им титул радушных и хлебосольных; некоторые купцы получили даже золотые медали за свое истинно русское хлебосольство. Проходит год за годом, десятки лет за десятками, публикации отчетов никто не требует и – благо им! Иной из любопытства напишет из Москвы, что, дескать, как бы, господа, мне почитать, куда пошли мои деньги, взятые по 40 к. с ящика? – На улучшение торговли, мол, пошли, почтеннейший доверитель! На улучшение торговли идут ваши денежки, – отвечают ему отсюда, – а кстати, имеем честь вам почтительнейше доложить, что променяли ваши товары и серебрецо на чай отличнейшей доброты, лучшего качества и полного веса – только собирайте барыши.
– Ну и ладно, – успокаивается доверитель, – 40 копеек не велика птица, а барыш зашибить – это мы могим.
Другой, более любопытный, не удовлетворяется ответом, а требует полного отчета и уведомления, на какое такое улучшение пошли деньги? А приезжайте, – ответят ему купцы, – в Кяхту и читайте в конторе старшин, а нам некогда рассылать копии по всем доверителям – их ведь не перечтешь даже.
– А из-за чего ж в самом деле мне больно-то приставать, – сообразит любопытный: – польза от чаю хорошая, нечего Бога гневить, – и успокоится.
А кяхтинские купцы продолжают жить в свое удовольствие, думая вообще мало и вовсе не думая о том, что кругобайкальская дорога остается такой, как Господь создал ее в первый день сотворения мира; не приходит им на мысль и то, что по Байкалу суда качаются на волнах с товарами по неделе и по две в виду посольской станции, не имея никакой возможности попасть в Прорву[9]9
Весьма удобное место для гавани, если бы порасчистить в него вход.
[Закрыть], ибо никто и никогда не позаботился об устройстве пристани. Платят купцы за провоз товаров, по три и четыре рубля с пуда, из Иркутска до Томска, за 1500 верст, и никто из них даже не задумался о том, чтобы устроить речной путь по Ангаре и Енисею.
Подходят от доверителей из Москвы товары, подвозят каждый почтовый день, на пяти и шести тройках, серебро и золото, да тайная дорожка неустанно протаптывается верховыми, пробирающимися с грузом драгоценных металлов. Все это и явно и тайно переходит в руки сметливых китайцев, а от них принимаются партии чая и отправляются в Москву. Китайцы накормят купцов до отвалу своими многочисленными, разнообразными яствам, угостят их горячим и крепким вином «майгулу» и сами при таком торжественном случае хватят через край.
– Ну наша поторгова дела, хайдзюйла еси (пьян стал), плиятер! – угощают они купившего чай купца, счастливые и довольные выгодной продажей чая.
– Отчего вы так скверно по-русски говорите? – спросил я однажды китайца и более никогда не решался повторить своего вопроса.
Он с упреком ответил мне на мой вопрос, что мы китайцы, хотя плохо, да все же говорим на вашем языке, а вы, русские, имея несколько десятков лет китайско-русское училище – не выучились до сей поры ни говорить, ни писать по-нашему.
– Да, – подумал я, – прав ты китаец, и нечего мне тебя спрашивать более об этом. Прав ты, потому что как ни на есть, а говоришь по-русски, хотя, может быть, и не имел никакого желания изучать его, да заботливое твое правительство не пускало тебя иначе в Кяхту, как заставив предварительно выдержать в Калгане (800 вер. от Кяхты) курс изуродованного кяхтинского наречия.
– Отчего же наши русские молодцы не искусились в этой грамоте? – спросит, пожалуй, читатель.
Вместо ответа я попрошу вас зайти в класс китайско-русского училища и послушать, как преподается в нем китайская грамота.
Входим. Зал довольно обширный, все в порядке, полы чисто вымыты, на скамьях сидят опрятно одетые мальчики, за столом посреди комнаты восседает седой и дряхлый старец, украшенный знаками отличий; перед ним лежит большая широкая книга, «Грамматика китайского языка, составленная монахом Иоакинфом». Сидит старец на стуле, упершись локтями на стол, и ведет такую речь.
– Был в то время, господа, – едва слышится его голос, – в то время, говорю я, был в Иркутске мой благодетель и начальник генерал Р… Пригласил он меня к себе. Это было в тот год, как я возвратился из моего первого путешествия в Поднебесную империю. Этакая, понимаете, честь: генерал к себе в гости приглашает. Ну, понимаете, я отправился. Вхожу; его превосходительство изволят сидеть по правую сторону дивана, а ее превосходительство изволят на левой…
Мальчики слушают, где и как изволили сидеть их превосходительства, а сами строят из карт домики или работают что-нибудь перочинными ножичками. Лекция о генерале с супругой кончается. Еле передвигающий ноги старец к концу класса, как будто вспомнив о своей обязанности, скажет слова два-три о китайских знаках, имеющих два хвостика, и о знаках, имеющих три хвостика, да тем и покончит.
– Завтра, господа ученики, если будем живы и здоровы, поговорим о следующих знаках, – добавлял он, поднимаясь со своего педагогического кресла.
А на следующий день опять он рассказывал о каком-нибудь генерале.
Таким образом учится мальчик китайскому языку и, через несколько лет, оканчивает курс, проэкзаменованный тем же ветхим старцем. После экзамена поступает мальчик на службу к купцу в Торговой Слободе и три года тянет лямку, переходя поочередно все ступени служебных обязанностей, начиная от чистки сапог для приказчиков, до чистки игорных столов в хозяйских апартаментах. Когда он вырастет и сделается парнем, его посылают в Маймайтчин с приказчиками, принимать чай. Пройдут, наконец, еще три года, роковые три года, необходимые для того, чтобы получить почетное гражданство…
– Что-что? – спросит, пожалуй, удивленный читатель. – Почетное гражданство! За что? Как?
– За то, что мальчик учился сначала в китайском училище, за то, что три года был в услужении у купца, а в конце концов, за знание китайского языка и за пользу, принесенную этим знанием торгующему на Кяхте купечеству, в торговых его сношениях с китайцами. Вот за что, читатель! А вы думаете, это легко? Не говоря уже про трехлетнюю службу, что стоит ему, бедному, ходить по домам купцов и вымаливать, как милости, подписи на аттестате, что был полезен, для торговли, знанием языка.
– А черт те дери, – думает купец, у которого парень выпрашивает подпись, – что я изверг что ли какой, счастье у человека буду отнимать, – ведь у меня рука не отвалится, если я подмахну у него на бумаге! На, брат, держи, не жалуйся на меня Богу.
В восхищении бежит парень с аттестатом в контору старшин, и пошел аттестат, куда надлежит, с всеподданнейшим прошением: освободить, по силе закона, такого-то от всяких повинностей и податей за пользу, принесенную им русской торговле с Китаем.
Много таких освобожденных, по силе закона, почетных граждан вышло на божий свет из китайского училища, и по всей вероятности, теперь бы эти выходы продолжались, если бы почтенный педагог не отправился к предкам. А по смерти его не нашлось другого знатока китайского языка, так что училище упразднилось. К лучшему это или к худшему – судите сами.