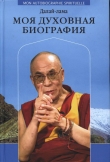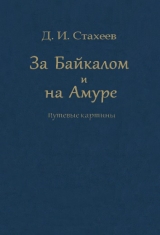
Текст книги "За Байкалом и на Амуре. Путевые картины"
Автор книги: Дмитрий Стахеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
II
В Благовещенске каждый месяц две недели продолжается маньчжурская ярмарка. Много было забот и хлопот для начальства при выборе места для этой ярмарки. Три раза ее устраивали на различных местах, три раза торговцы русские и маньчжурские разбирали свои лавки и переносили их с одного места на другое, потому что все отчего-то некрасиво выходило и казалось неудобным. Переселившись с лавками на третье место, маньчжуры начали громко говорить, что если еще раз заставят их переносить свои лавки, то они и торговать в русском городе не будут, а уедут к себе домой, на родной левый берег. К счастью, лавки остались на третьем месте, поблизости которого соорудили из старого дома, ранее бывшего помещением для губернатора, – гостиный двор и над ним водрузили коммерческий флаг. По странному стечению обстоятельств, флаг повесили наоборот, верхним концом книзу, и дня три он провисел таким образом, потом кто-то заметил, и ошибку исправили. В гостином дворе, во время моего приезда в Благовещенск, лавок никто не занимал, да и некому было: у купцов лавки настроены около своих домов.
Маньчжурская ярмарка начиналась обыкновенно с девяти часов утра; десятки разнообразных, более или менее фигурных лодок приставали к русскому берегу. Маньчжуры выгружали свои товары и таскали их на ярмарку на своих собственных плечах. Нойон (чиновник) ударял несколько раз в бубны и ярмарка с этого момента считалась открытой. Ехали городские барыни, большею частью жены чиновников и офицеров, закупать провизию; шли казаки и поселенцы, кто за мукой, кто за табаком или аракой; появлялась в толпе народа, присущая исключительно только Амурскому краю, обдерганная, оборванная, грязная и пьяная фигура казака-сынка[18]18
Казак-сынок – это штрафной солдат, переселенный на Амур. Сынками называют их потому, что, не имея ни кола, ни двора, они розданы были по одному на казацкую семью в дети, для исправления нравственности и изучения сельского хозяйства.
[Закрыть], получившего на Амуре звание гольтипака. Торговля начиналась. Маньчжуры беспокойно поводили глазами, стараясь поймать значение русских слов, размахивали руками, показывая пальцы и безжалостно ломали и коверкали русские слова, перемешивая их со своей родной речью.
– Анда! (Друг!), – говорил, пошатываясь, гольтипак, протягивая руку к папушке[19]19
Папу́шка, уменьш. от папу́ша (перс. papusch) – связка, пучок табачных листьев (прим. ред.).
[Закрыть] табаку.
– Шолоро! (Уйди!), – кричал маньчжур, махая руками. – Шолоро! Лаканча (худо)!
– Сколько пятаки? – бормотал пьяный, бессмысленно выпучивая осоловевшие глаза.
– Шолоро! Мангу ачи ты (денег нет у тебя), – снова кричал маньчжур, выпроваживая пьяного гольтипака из своей лавчонки.
Гольтипак, верный самому себе, начинал сыпать отчаянную брань на неповинную голову маньчжура и хотел драться, но, сознавая собственное бессилие, пошатываясь и ругаясь, уходил далее, где снова начиналась та же история с другим маньчжуром.
Торговались покупатели таким образом: поселенец подходит к лавке и высматривает, что ему нужно, потом берет известный продукт в руки и показывает его маньчжуру. Маньчжур поднимает пальцы кверху, означая ими количество пятаков, требуемое им за покупаемую вещь.
– Пять пятаков што ли тебе? – спрашивал поселенец, поднимая всю ладонь кверху.
– Айя! Айя! (Хорошо!), – кричал весело маньчжур от радости, что его поняли. Поселенец показывал четыре пальца. Маньчжур отрицательно качал головой и, не имея силы выдержать молчание, принимался говорить по-маньчжурски, несмотря на то, что поселенец не понимал ни слова. Поселенец наконец выкладывал на прилавок известное количество денег, и торг оканчивался.
Далее, около одной из лавок, маньчжур, по-видимому очень бедный и уже довольно старый, в дырявом кафтанишке, держал в руках дикого гуся и старался объяснить окружавшим его казакам, как он поймал его. Он представлял своей фигурой птицу, идущую по степи, тревожно и торопливо повертывал своей старческой головой в разные стороны, как будто высматривая, нет ли где врага-человека, и потом вдруг начинал дергать правой ногой, доказывая этим, что гусь попался в петлю, расставленную в поле. Маньчжур окончил свою пантомиму и глупо улыбался, вопросительно смотря на публику.
Целый день около лавок теснится толпа казаков и поселенцев, бесцельно передвигающаяся от одной лавки к другой. К полудню начинают показываться пьяные фигуры казаков, к вечеру слышатся там и сям песни, сменяются криком, бранью и доходят наконец до драки. Часам к семи раздается снова удар в бубны. Торопливо начинают бегать и суетиться маньчжуры, собирая свои товары; они спешат к своим лодкам, боясь опоздать и подвергнуться за это справедливому гневу своего нойона, присутствующего на ярмарке с утра до вечера, в качестве охраняющей силы; в сущности же эта охраняющая сила имеет характер карающей и ищет только удобного случая содрать с охраняемых штраф в собственную пользу. Быстро таскают маньчжуры с ярмарки к своим лодкам товары, быстро укладывают их и отплывают от русского берега. Вскоре по реке поднимается свист и визг: маньчжуры, распустив паруса, вызывают своим свистом бога ветров, прося его помощи и попутного ветра. На следующее утро снова лодки являются у русского берега, заботливый нойон конечно опять присутствует на ярмарке и несколькими ударами в бубны возвещает о позволении начать торговлю и вечером снова такими же ударами возвестит о закрытии ярмарки и тем заставит торговцев суетливо бегать от лавок к лодкам, укладывать свои товары и уезжать обратно, до следующего дня.
Обороты Благовещенской ярмарки конечно ничтожны. В продолжение двух недель каждодневной торговли все маньчжурские лавки вместе выручат не более двух тысяч рублей кредитными билетами. Все эти билеты потом переходят через руки маньчжур в карманы местных русских купцов, выменивающих билеты на русское серебро, считая каждый рубль в 1 р. 50 к. и 1 р. 45 к. Со времени заселения Амура цена на серебро была за каждый серебряный рубль два бумажных рубля, но возрастающая конкуренция на эту выгодную (лично для купца) торговлю понизила курс на серебро до 1 р. 40 к. Благовещенские купцы ведут с маньчжурами дела отдельно от ярмарочной торговли; эта последняя, так сказать, мелочная, розничная торговля, имеющая отношение только к местным жителям. Торговля же местных купцов с маньчжурами ведется просто на дому. Купцы закупают у маньчжур большими партиями быков, муку и проч. и сплавляют означенные продукты вниз по Амуру до Николаевского порта, где нередко продают часть своих товаров на иностранные корабли или выменивают их на джин, портер и т. п. Иностранные корабли покупают или меняют только в таком случае, когда им необходимо иметь балласт. Кроме отправки из Благовещенска партий живых быков, некоторые из купцов отправляют вниз по Амуру значительное количество солонины в бочонках, покупая быков тоже от маньчжур и засаливая мясо на месте. Бочонки заготовляются молоканами из соседнего с городом селения, расположенного около реки Зеи.
Получая от маньчжур все вышеозначенные предметы, русские купцы взамен их выдают большею частью русскую серебряную монету. Русские товары конечно тоже идут к маньчжурам, но сравнительно в весьма незначительном количестве, более всего плис, даба, нанки, иглы и отчасти сукна. Кроме торговли с купцами, маньчжуры запродают много скота в казну и получают за это звонкой монетой.
Сентябрь и октябрь в Благовещенске снова оживляются торговлей. Все спешат покупать заграничные товары, и на Амуре успела развиться страсть к заграничным предметам, конечно, только в высших слоях общества. В 1862 году Людорф имел в таком ничтожном по населению городе, каков Благовещенск, иностранных товаров на тридцать тысяч рублей серебром; но, да не подивится читатель этой цифре, – бо́льшая часть товаров заключалась в винах, а остальная, менее значительная, в мануфактурных изделиях, в сахаре, сигарах, в бакалейных товарах и косметических вещах. Стеариновые свечи на Амуре предпочитают покупать русские, потому что привозимые через Николаевск гамбургские свечи невыносимая дрянь, издающие вонь и отекающие хуже сальных. Папиросы привозятся из Иркутска, Нерчинска и Читы от пятидесяти копеек до рубля за сотню; частью они приготовляются на месте из привозимого русскими турецкого табаку. Осенью 1863 года, когда уже не было более надежды получить товары из Забайкалья, один из благовещенских купцов скупил весь имевшийся в городе табак и начал делать сквернейшие папиросы, подмешивая в турецкий табак маньчжурский листовой, и эту смесь изволил продавать по чудовищной цене. Публика конечно была весьма недовольна такой проделкой, бранила в глаза и за глаза лавочника, но все-таки покупала папиросы его фабрикации. Все означенные товары – вино, портер, сахар и сигары, провозятся в Забайкалье, а в Иркутск они не попадают, по причине пошлины, взимаемой в Иркутской таможне со всех иностранных товаров, провозимых через Амур. Мера эта конечно уменьшает привоз товаров и отчасти тормозит развитие торговли на Амуре. Многие из торговых людей оправдывают эту меру, говоря, что иначе американцы забрали бы на Амуре всю торговлю в свои руки, что и теперь они подавляют русскую торговлю, но если американцы удачно ведут дела на Амуре, то отчего же этого не могут делать русские, что же смотрела и чем занималась Амурская компания во время своего существования на Амуре?
Все эти пресловутые – управляющие, директора, ревизоры, что могут отвечать на прямой вопрос о причине расстройства дел компании? У Амурской компании был очень солидный основной капитал и при этом капитале конечно не менее почтенный кредит; была даже поддержка нравственная со стороны сибирской администрации; к ней, к этой знаменитой компании, весьма сочувственно относились в России; – следовательно, что же расстроило ее? Чего недоставало ей для того, чтобы полновластно господствовать на Амуре и конкурировать с мелкими американскими торговцами? Крупных неудач и несчастий у нее ни разу не было, – следовательно, где же причина упадка дел? Чего недоставало для успеха? Известно, чего недостает нам – самого главного, без чего никакие сочувствия, никакие деньги ничего не значат, – недоставало знания, – вот чем была больна Амурская компания! И эта болезнь, эпидемически заедавшая весь состав управления с верхнего края до нижнего, начиная с последнего приказчика до маститого старца – последнего ревизора компании, – эта болезнь, как и следовало ожидать, довела компанию до того, что дело прекратилось скандалезною распродажею оставшегося имущества товаров по 7 1/3 за рубль.
Единственная польза, которую принесла умершая компания на Амуре, это то, что большая часть служащих в ней лиц составили себе благоприобретенные капитальцы и завели свои собственные дела; компания в этом случае, конечно, играла страдательную роль…
Всего более, как я сказал выше, продается в Благовещенске вина, большею частью низкого и отчасти среднего достоинства. Портер продается от 90 к. до 1 р. 25 к. бутылка. Коньяк от 10 р. до 15 р. за ящик – дюжина бутылок, и от 1 р. до 1 р. 50 к. за бутылку. Джин от 60 к. до 1 р. 20 к. бутылка. Шерри Кордиаль от 9 р. до 10 рублей ящик, – дюжина бутылок, и от 80 к. до 1 р. за одну бутылку. Шерри Кордиаль – это нечто похожее на вишневую наливку, сносное – при первом глотке, неприятное при втором и отвратительное до гадости, до омерзения на третьем. Эта пресловутая наливка настаивается на одних только вишневых косточках: ягоду догадливые немцы (из Альтона, около Гамбурга) употребляют на варенье, а из косточек стряпают наливку с примесью в нее неимоверного количества сахару. Эта наливка исключительно предназначается для шанхайских китайцев и в Японию, для чего каждая бутылка украшена золотыми и раскрашенными, во вкусе китайцев, ярлычками, но с занятием Амура русскими она нашла себе новый, отличный сбыт в среде русского казачества…
Цены на жизненные припасы в Благовещенске по некоторым продуктам много разнятся зимой и летом, потому я считаю нелишним выставить и те, и другие. Товары получаются из двух источников. Таким образом:

Кроме огурцов на Благовещенском базаре мне не случалось никогда встречать других овощей. Некоторые из хозяев имеют огороды, но на продажу овощей никто не отдает, а пользуются сами плодами своих трудов. В последнее время, благодаря молоканам, на базаре стала появляться свежая капуста и арбузы, на капусту, как видно из таблицы, цена существует ужасная, но это потому, что она очень плохо родится, а на арбузы я цены не помню.
III
В Благовещенске мне нужно было прожить, по моим собственным делам, более года и потому волей-неволей нужно было мириться со скукой и бездействием. Об общественной жизни в городе нет и помину[20]20
Народонаселение Амурской и Приморской областей всего 60 000 д., а пространство, занимаемое ими – 43 890 кв. миль; следовательно на кв. милю приходится менее чем 1 1/2 д.
[Закрыть]. Небольшое общество чиновников и офицеров, сначала так хорошо и дружно жившее, через полгода, под влиянием сплетней и дамской хлестаковщины, перессорилось между собой и разделилось на отдельные кружки. Общество купцов г. Благовещенска составляет особенный кружок, где спокойствие ералаша, преобладающего в чиновном кругу, заменяется тревожным штосом, стуколкой и звоном бутылок и стаканов. К этой среде примкнула часть холостого чиновничества и между ними, во время моей жизни в Благовещенске, занимал первое место какой-то молодой фельдшер. Он пользовался полнейшим авторитетом по части опустошения купеческих карманов…
Объяснять эту глупую жизнь безусловно конечно нельзя. Люди, не приготовленные ни воспитанием, ни жизнью к другой, более здоровой и полезной деятельности, все же скучают, и против этой скуки нет для них никакого средства, кроме картежной игры или пустой, ни к чему не ведущей болтовни. О книгах, например, тут и помину нет. Знают, что в благоустроенном городе должна же быть хоть какая-нибудь библиотека, – ну заводят библиотеку, дают ей место где-то на чердаке под самой крышей дома, куда идти не всякий решится, да и идти туда незачем. Средства Благовещенской библиотеки очень скудны и помещается она, как я сказал выше, на чердаке, куда нужно пройти по грязному воняющему крыльцу, на котором без зазрения совести солдаты выливают и выбрасывают всякие нечистоты; потом путь лежит по душному коридору, где проходящего обдает запахом махорки и прогорклого масла, слышатся песни и шум солдат, живущих на первом этаже, и наконец путешествие в библиотеку оканчивается темной шатающейся лестницей, ведущей на чердак в маленькую комнату. Вот где библиотека! Где теперь она помещается? Дали ли ей более лучшее и приличное место? Не знаю.
В мое время в Благовещенске поговаривали частенько об устройстве клуба, но дело тем и кончилось, что поговорили и пошумели, – впрочем клуб не может создать общества, когда его нет…
«У нас есть так называемый свет,
Есть даже люди, но общества нет:
Русская мысль в одиночку созрела,
Да и гуляет без дела».
В один из теплых вечеров я по обыкновению вышел гулять. Пустынно было по улицам, давно замолк стук топоров, раздававшихся там и сям в продолжение дня, прекратились выстрелы артиллерийского ученья и батальонные солдаты возвращались уже с работ по постройке нового деревянного собора, только военные музыканты наигрывали еще свои марши против губернаторского дома. Был четверг[21]21
В Благовещенске по четвергам и воскресеньям в продолжение всего лета на берегу играла военная музыка.
[Закрыть].
Публика лениво и как-то сонно двигалась по набережной улице; видно было, что все друг другу давно наскучили и не знают, куда деваться от бездействия и тоски. Как радость, как Бог знает какое необыкновенное счастье, – оживил долетевший издали пароходный свист, все засуетились, ожили и спешили скорыми шагами к месту пароходной пристани. «Пароход идет! Пароход!», – слышалось всюду. На берегу начала собираться толпа; появились купцы; за ними следом маньчжуры, слышался разговор.
– Что же вы, берете у меня рубли-то? – спрашивал купец.
– Модоне ачи (не понимаем), – отвечали маньчжуры.
– Рубли, рубли! – объяснял купец и, соединив большой палец правой руки с указательным, изобразил кружком серебряный рубль.
А, анда! Модонэ! (А, друг! Поняли!), тута десяти тысяча есь! – закричали маньчжуры, показывая пальцами на пароход.
Купец начал уверять, что серебра на пароходе быть не может, что серебро из России уже все вывезли и только у него одного осталась еще небольшая часть, но маньчжуры не верили его россказням и махали руками.
– Э! Анда! Знама! Кажда парохода серебро вези много есь!
С парохода начали сходить пассажиры, кто торопливо вертел головой в разные стороны, осматривая город, кто грустно шагал, не обращая ни на кого и ни на что внимания. Один офицер вел под руку даму. Дама плакала и утирала платком слезы. Заметно было, что Благовещенск порадовал даму до слез своими длинными пустынными улицами.
Из толпы, стоявшей на берегу, выдвинулась вперед высокая фигура поселенца с клеймами на щеках и на лбу; он старался как возможно съежиться и принять жалобный вид.
– Батюшка! – пропищал он разбитым голосом, подходя ко мне, – нет ли, родимый, копеечки на бедность! Подайте убогому, несчастному.
Я промолчал. Поселенец стал поочередно подходить ко всем стоявшим на берегу и корчил самую плачевную фигуру; получая отказ, он шел далее и снова начинал выводить заунывным голосом о своей бедности и убожестве.
Кто-то ответил ему, что готов бы дать милостыню, да не имеет при себе мелких. Поселенец еще съежился и пропищал самым жалобным голосом: да нет ли, батюшка, хоть целковинького? Сказал он эту фразу, и сам не мог удержаться от улыбки. Публика конечно засмеялась и кто-то спросил, откуда и куда пробирается он?
– Я, батюшки мои, отцы кормилицы, возвращаюсь из холодных стран Николаевских, с Чиныраховской крепости, где был в работе за непочтение родителей; возвращаюсь я в теплые области Забайкальские, не имею дневного пропитания и ради его приемлю от рук человеческих подаяние. Ваше высокоблагородие! – закричал он, вдруг возвышая голос на целую октаву: – отцы-благодетели, не откажите несчастному!
Замечая, что плачевный тон не достиг своей цели, поселенец вдруг тряхнул головой, выпрямился во весь свой длинный рост и гаркнул.
– Ваше высокоблагородие! Я вам сказочку скажу.
– Пошел прочь! – крикнул офицер, против которого стоял поселенец.
Поселенец снова преобразился. Он разгладил усы, подпер руки в бок и грубо ответил:
– Да ты не больно, брат, кричи, я и сам с усам, вот что! – Потом помолчал несколько времени, обвел пьяными глазами толпу, взглянул на пароход, выпускавший последние пары и, сделав публике под козырек, пошел по направлению к мелочным лавочкам, далеко дающим знать о себе запахом отвратительной араки.
Скоро публика разбрелась по домам, совершенно довольная, что приход парохода отчасти нарушил общее однообразие. Я прошел далеко в поле и возвращался назад, когда уже совершенно стемнело. По улицам не было уже более видно ни одного человека; кое-где лениво бродили коровы или лошади. Далеко стояли один от другого маленькие домики жителей, соединенные между собою длинными плетнями, заменяющими забор. Около плетней лежали свиньи. Пройдя длинную улицу, я вышел к берегу реки. На реке было тоже безмолвно и тихо, на пароходе не было видно ни души, кроме дежурного матроса; город спал, только за рекой в маньчжурской деревне изредка мелькали огоньки, да из губернаторского дома, в раскрытое окно, неслись звуки шубертовской серенады. Только что я прошел дом губернатора, как встретил едущего в одноколке казака, он окликнул меня. Я остановился и спросил, что ему нужно. Казак остановил свою тощую лошаденку и почти шепотом как-то таинственно спросил.
– Вы, ваше почтение, не купец ли?
– Да, купец, – отвечал я, – а что тебе?
– Так-с… мучицы вот вам не сподручно ли взять?
Я удивился этой ночной торговле и заглянул в одноколку, в ней действительно лежал маленький мешок муки. «Неужели украл?» – подумал я и пригласил казака ехать на мою квартиру.
– Отчего же ты ночью привез продавать? – спрашивал я. – Ведь не украл же ты ее: всего-то, я думаю, у тебя пуда полтора?
– Пошто, ваше почтение! Как можно, помилуйте!
– Отчего же ночью, скажи пожалуйста!
– Да так… так точно, что… как будто и неловко немного… да уж так…
– Так и нужно бы днем.
– Да что уж таиться, ваше почтение, – начал казак, махнув рукой, – дело-то все выходит в том, что мы здесь как то есть от казны получали провиант, примерно хлеб, так, значит, теперь в уплату нудят, а делишки-то все еще плоховаты; деньжонками-то бедно… Вот теперь бы этот самый мешок в склад казенный надо бы везти, хлебушко-то отдать, а я грешным делом свое-то добро крадучи продаю.
– Неладно, брат.
– Оно точно, ваше почтение, не совсем-то ладно, ничего тут как есть хорошего нету, да ведь достатки-то наши больно жидковаты, тоже вот примерно и по хозяйству все в неустройстве… Другие вон наши тоже забайкальцы, которые снялись со старых-то местов богатыми, им и здесь не хуже прежнего пожалуй, а бедняку везде едино: все нужда да нужда…
Я купил хлеб у казака по рублю за пуд и на прощанье спросил его, где они поселены.
– Станица-то наша за Зеей… Вот теперича и падежи-то нас тоже донимают крепко, – скот часто валится. Я вот лоньским[22]22
Прошлым (прим. ред.).
[Закрыть] годом двух меринов сволок в реку, только и видел, как их унесло по реке, а какие мерины-то были хорошие да работящие! – по двадцати пяти бумажек купил у маньчжура, чистыми деньгами отвалил пятьдесят-то рублев, – да вот что станешь делать-то? – старик вздохнул, поблагодарил за покупку и уехал со двора.
В июле месяце пристали к берегу до пятнадцати лодок, на каждой сидело человек по пяти крестьян, народ все рослый, здоровый и румяный. Жители города были удивлены причаливавшей флотилией и на берегу стала собираться толпа любопытных.
– Что вы за люди такие? Что вам такое здесь нужно? – спрашивали горожане.
Из лодок вышло на берег несколько стариков, помолились они на восток и обратились к публике с вопросом.
– Почтенные господа! Скажите нам, где здесь поселились молокане?
– А на что это вам?
– Мы переселенцы и хочется нам с ними повидаться, и может быть, коли Господь благословит, и поселиться с ними по соседству.
Молокане поселены по Зее вскоре после занятия Амура, кажется, через полтора года. Они вышли из Таврической губернии, и по их рассказам, за то их переслали на Амур, что однажды, во время посещения их селения архиереем, – старики что-то крупно поговорили о вере, расхваливая свою секту. Народ они весьма трудолюбивый и честный, бедных между ними нет, а о сборе милостыни между ними и не слышно. Однажды случилась в городе Благовещенске покража, у одного из мелких торгашей подрылись воры под лавчонку и выкрали товару рублей на пятьсот иди шестьсот. Началось следствие и по розысканию оказался виновным один из молокан, да еще старик, весьма почтенных лет, имевший свой собственный дом и торговлю мясом. Нужно было видеть, как это поразило молокан, как они озлились на укравшего старика и отшатнулись от своего собрата по вере. Не марай, говорили они, нашу незамаранную честь, а если ты после всего, чему тебя учили с детства до старости, оказываешься собакой, – то и пусть тебе будет собачья смерть.
Из гражданских переселенцев есть еще, тоже около Благовещенска, поселившиеся вблизи архиерейского дома скопцы, но их немного, всего семей шесть или семь и кроме молочного хозяйства да отчасти птицеводства они ничем не занимаются. Молокане же доставляют в город дрова, делают бочонки для отправки вниз по Амуру солонины, доставляют со своих огородов овощи, хотя пока и в очень незначительном количестве. Они же первые начинают пробовать пшеницу, которая почему-то очень плохо родится у русских, подвергаясь почти каждый год болезни, известной под названием помпы, – красная сыпь на колосьях. В маньчжурском же хозяйстве засевается всего более пшеница и никогда не сеется ни ржи, ни ярицы. Некоторые из молокан, более состоятельные, строят в Благовещенске свои дома и отдают их под квартиры. Один построил верстах в 20-ти от города речную мельницу, но при отсутствии необходимых занятий дело не доведено до конца. Один артиллерийский офицер предложил свои услуги молокану и взялся поправить у него мельницу. Но импровизированный механик еще больше напортил, так что молокан – хозяин мельницы – вынужден был просить услужливого механика оставить его в покое.
– Уж я те, ваше высокое благородие, самых что ни на есть лучших арбузов предоставлю, только уж ты, значит, пожалуйста ослобони меня от твоей работы.
Офицер закусил губы и должен был оставить мельницу в покое. При основании города задумали наши русские механики устроить конную мельницу; мельницу-то выстроили, а работать на ней нельзя, не действует, значит! Так теперь и стоит на берегу уродливое здание, крытое соломой. О ветряных мельницах никто и не думал, а они, кажется, были бы очень полезны Благовещенску, – он стоит на ровной безлесной местности и ветры в нем бывают очень часты и продолжительны. Соседи – маньчжуры – не имеют ни речных, ни ветряных мельниц, – одни только ручные и конные, и потому цена на пшеничную муку в Благовещенске не бывает дешевле 1 р. 50 к. за пуд, доходя иногда до 2 рублей с половиной.
В Благовещенске, в первые два года его существования, затевалось многое, но ничего не сделалось. Устроилось было общество огородничества, выпросили и землю, и работы начались, да потом все забросили, не собрав плодов даже с одного посева. Потом один из докторов проектировал кожевенный, салотопенный и мыловаренный заводы, но сочувствия в публике не оказалось, хотя дело это действительно было бы выгодное. В заключение, архитектор предложил образовать компанию для устройства пивоваренного завода, но это уже конечно само по себе не могло пойти при дороговизне и недостатке хлеба. Около Благовещенска принимались устраивать хозяйство на рациональных началах два фермера. Один поляк, нарочно для этого переселившийся из Забайкалья, а другой местного батальона офицер, променявший шпагу на плуг; но дело у обоих рухнуло самым плачевным образом. Поляк начал первый. Он поселился по Зее, приплавил из Забайкалья скот (в то время не было еще разрешено покупать скот у маньчжур), сделал постройки и принялся за дело, но наступившая прибыль воды затопила его хлеб, а скот весь пал от заразительной чумы. Собрав свои последние крохи, бедный поляк, отец многочисленного семейства, принялся снова за дело и на будущую весну погорел. Пожар, случившийся по неосторожности рабочего, лишил его последних средств и возможности продолжать хозяйство. Неизвестно, что случилось с ним впоследствии. Во время моей жизни в Благовещенске я его видел сгорбленным и истомленным. История другого фермера не имеет такого грустного характера. Воинственный фермер уложил на свою ферму все, что у него было, наделал долгов и снова променял плуг на шпагу. Но в истории амурского фермерства есть замечательный по своей бестолковости ход дела фермы господина Р., о котором сам Р. под именем «Амурского хлебопашца» печатал две статьи в Русском Вестнике: «О вольнонаемном труде на Амуре» и «Из амурской жизни» (Русский Вестник 1863–1866 года). Но как известно, что правильный и беспристрастный суд над самим собой не всякий может произнести, то и г. Р., рассказывая о ходе своей фермы, скромничал перед читателями и не рассказал своих хозяйственных промахах. Я потому говорю открыто о промахах г. Р., что дело, им заведенное на Амуре, принадлежало всецело мне. Тут была положена вся моя жизнь, все мои средства и самая колоссальная ошибка была, конечно, с моей стороны, так как я забыл о басне Крылова, что не бывает добра, когда пироги печет сапожник. Теперь уже от этой фермы осталось только одно воспоминание. Господин Р. так запутался в своих делах, что не имел возможности получить выписанные мною кругом света сельскохозяйственные машины, – они, кажется, до сей поры лежат в Николаевском порту, как уведомлял меня частным образом торговый дом Есипова и К°, я же со своей стороны получить их не могу, потому что все акты, доказывающие о принадлежности их мне, переданы г. Р., уехавшему впоследствии с Амура Бог знает куда[23]23
В последнее время, в ответ на эту статью (она была, с сокращениями, напечатана в журнале «Дело» 1867 г.), я получил весточку от г. Р., который очень огорчен моими отзывами о нем, а более всего тем, что я будто бы умышленно написал о неизвестности его места жительства. С великим удовольствием заявляю, по желанию г. Р., что он превосходнейший адвокат и может (как уверяет) меня же отдать под суд; но также считаю нелишним сказать, что никак не могу признать его хорошим хлебопашцем… Обвинять же его в чем бы то ни было я не думал и не думаю: что прошло, того не воротить!
[Закрыть].
Много было говору о странном выборе места для постройки города и немало удивлялись этому выбору; некоторые даже делали такой смелый вывод, «что для города Благовещенска старались найти по всему Амуру худшее место и хуже того, на котором он построен, найти трудно»; конечно, это шутка, но тем не менее нельзя догадаться о причинах, руководивших в этом случае основателями города. Строевой лес далеко, город Айгун в тридцати верстах, Зея в трех верстах, пристань неудобна, местность песчаная и подвержена частым ветрам – вот неудобства города и, по всему вероятию, они были известны основателям, следовательно из них многие могли быть устранены. Город мог быть построен против Айгуна, где 30 т. населения и от этого соседства могла выиграть торговля, так как обмен совершался бы быстрее, и преимущество быть городу при устье заключается в том, что тогда не нужно было бы заводить вверх по Амуру лес, сплавляемый с верховьев Зеи, и, наконец, как ни рассуждайте о безлюдности Амура, но в будущем очень важно значение города, стоящего при двух громадных реках.
Для рубки леса назначаются зимой из Благовещенска целые экспедиции от местного начальства под предводительством офицера, а иногда и двух. Эти экспедиции уходят верст за 500 и летом возвращаются на плотах со строевым лесом. Точно так же и жители города составляют между собой компании, нанимают казаков и отправляются тоже вверх по Амуру или по Зее. Цена на бревна в Благовещенске, четырехсаженные, в шесть и семь вершков толщины, от 50 до 70 к., смотря по количеству приплава лесу. Восьмивершковые в пять сажен длины от 70 к. до 1 руб. за бревно.
Как-то однажды, когда берег завален был лесом, я шел по набережной улице и, заметив на одной груде бревен несколько мужиков, спустился вниз к реке. Мужички сидели за починкою своих зипунишков; поярковые шляпы, лежавшие около них, давали знать, что мужички российские. Я подошел к ним и поприветствовал их. Мужики подняли головы, в недоумении посмотрели на меня и потом как-то робко, нерешительно отвечали:
– Добро жаловать, поштенный.
– Откуда вы? – спросил я.
Мужики помолчали и, почесав затылки, переспросили.
– Кто? Мы-то?
– Да. Откуда, говорю.
– Мы из-под Хабаровки-и, – отвечали они, растягивая последний слог.
– Родом-то откуда?
– Кто? Мы-то? – опять переспросили мужики, переглядываясь между собой.
– Да. Откуда, говорю, родом-то?
– Родом-то?
– Да.
– Гм!
Несколько времени прошло в молчании. Я опять спросил.
– Откуда же вы, добрые люди?
– Кто? Мы-то?
– Ну да, конечно вы, с вами, ведь, я речь веду.
– Да родом-то мы, выходит, есть перемски, есть вот тоже и вячки, нолинскова уезду, – нехотя отвечали мужики.
– Земляки ведь вы мне! – сказал я и сел рядом с ними на бревна. Мужики придвинулись плотнее друг к другу, перестали чинить свои зипуны и обратили все внимание на меня.
– Да вы, братцы, не робейте, я ведь простой человек, не чиновной, я купец.