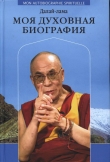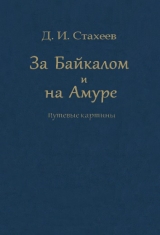
Текст книги "За Байкалом и на Амуре. Путевые картины"
Автор книги: Дмитрий Стахеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 19 страниц)
IV
Я окончил свои дела в станице и мне оставалось только дождаться парохода, чтобы на нем вернуться назад в Благовещенск. Дожидаться пришлось очень долго, но другого выхода в моем положении найти было нельзя; подниматься вверх по реке бичевником или идти на веслах, кроме продолжительной траты времени, еще слишком бы дорого стоило: казак не маньчжур и за дешевую цену не наймется, а маньчжур поблизости станицы не было, да они и не нанялись бы ко мне в работу, потому что боятся своих чиновников, которые им строго запрещают всякое сближение с русскими. Уехать на лошадях верхами было еще труднее, потому что через Хинганский хребет правильного пути не проложено, а если и ездят иногда верховые, то во-первых, это люди обязанные волей-неволей исполнять приказания старших, а во-вторых, они часто кружат по горам по нескольку дней, не зная, как выбраться из них, и в то же время рискуют наткнуться на барса или медведя. Я не хотел испытывать ничего подобного и покорился необходимости сидеть у моря и ждать погоды. Лодку свою я продал казаку; рабочие, плывшие со мной, на другой же день нашего приезда в станицу уплыли в челноке вниз по Амуру, надеясь найти работу в Михайло-Семеновской станице.
Стал я ожидать того дня, когда придет пароход, и ждал очень долго… Дни проходили за днями, а о пароходе не было ни слуху ни духу. Такое продолжительное ожидание парохода не было случаем, выходящим из ряда обыкновенных, напротив, на Амуре оно было совершенно законно и нормально, потому что все амурские пароходы, как частные, так и казенные, никогда правильных, постоянных рейсов не имели, а двигались по реке или стояли у берега, смотря по распоряжению лиц, имевших власть над их движениями. Казенные пароходы, нужно отдать справедливость, ходили сначала очень часто, до той поры, пока не испортились в них машины и пока не начали их чинить домашними средствами в станичных кузницах; с этого несчастного времени, т. е. когда машины казенных пароходов испытали на себе всеразрушающую силу искусства амурских кузнецов, – пароходы так же редко и неаккуратно стали совершать свои рейсы, как и пароходы пресловутой Амурской компании, так позорно окончившей в настоящее время свою амурскую деятельность. Кроме того, те из казенных пароходов, которые в данную минуту были удобны для плавания, часто употреблялись амурским начальством для путешествий в Амгунь, для исследований р. Зеи, и по всему вероятию эти путешествия были крайне необходимы, потому что почта иногда лежала по нескольку дней неотправленной, так как пароход был занят губернатором…
Итак, засел я в станице в ожидании избавителя-парохода. С каждым днем мне становилось скучнее; со старшим мы уже наговорились вдоволь и даже понаскучили друг другу, потому что посредник, сближавший нас, а именно чай с коньяком, истощился, а достать свежего было негде. С сотенным командиром я, несмотря на все мое желание, познакомиться не мог, он, видимо, чуждался меня и всякий раз, когда случалось ему проходить мимо моей квартиры, – принимал грозный, неприступный вид. Священника не было в станице, он куда-то уехал с требой, а более знакомиться в станице было не с кем. Барин-пахарь, живший за двадцать верст от станицы, был мне хорошо известен и я молил Бога, чтобы он избавил меня от нового несчастия встретиться с ним когда-нибудь.
Стал я бесцельно ходить в окрестностях станицы и не видел ничего, кроме лесу да виноградных кустарников. Пашни казаков и сенокосные луга были далеко, верстах в десяти, и дороги, ведущие к ним, были весьма плохо проезжены, видно было, что жизнь в этих пустынных местах только что начинается. Однажды только, во время моих бесцельных скитаний, я видел, как ребятишки, играя, загнали из лесу соболя. Он, как белка, сначала прыгал с дерева на дерево, но жестоко ошибся в своих расчетах и пропрыгал совсем не туда, где надеялся найти для себя спасение: деревья, по которым он делал свои прыжки, длинным рядом вытянулись по станице и соболь, прыгая по ним, сделал смертный прыжок. Он понял свое опасное положение только тогда, когда не было уже никакого спасения: при отчаянном крике мальчишек, казак выставил дуло винтовки из окна своей избы и выстрелил; соболь свалился на землю и долго трепетал он, катаясь на спинке, и нервически подергивал ножками. Казак вышел на улицу, взял соболя за ножки, хлопнул его со всею силою о землю и соболь издох. Не успел еще он остыть, как казак продал его своему богатому соседу за шесть кредитных билетов и за две чарки казенного спирта.
Всего более я ходил по берегу Амура.
Однажды, рано утром, я поднялся с постели и пошел, по обыкновению, на берег, посмотреть, не видать ли вдали пароходной мачты. Утро было жаркое. На противоположном берегу реки, широко разлившейся против станицы, сидели громадной стаей дикие гуси, визгливый крик их неясно долетал в станицу, как будто поддразнивая казаков. Несколько казачьих лодок пустились через реку на остров, чтобы там из-за кустов устроить засаду и сделать за раз выстрел из нескольких винтовок, но это не удалось: осторожные гуси сметили, что им угрожает опасность, и поднялись темной тучей в воздух. Вообще охота на них сопряжена с большими трудностями. Маньчжуры придумали для ловли их особого рода сети и петли, которые и раскидывают на открытых местах.
Внизу, под крутым обрывом берега, я заметил толпу казаков и спустился к ним. Оказались рыболовы, возвратившиеся с добычей. Из них несколько человек разрубали саженную рыбу, другие мыли лодку, складывали канат; маленькие ребятишки-казачонки вертелись вдали, боязливо посматривая на окровавленную массу.
– Помогай Бог! – сказал я, подходя.
– Благодарствуйте, – коротко отвечали казаки.
– Какая эта рыба?
– По-нашему калужина, а по-вашему не знаем, – не оборачиваясь, отвечал один, распарывая рыбе живот.
Окончив эту операцию, он вытащил из рыбы начинавшего разлагаться аршинного осетра и выбросил его в реку.
– Ишь обжора, какого слопала!
– Матерый же и осетр то, ребята! – подсказал кто-то из работавших.
– Попадись ей на зуб человек, не побрезгует и его, слопает.
– Что толковать, – рыба махина!
Казаки разрезали всю рыбу от головы до хвоста и раскинули по земле; раскинулась она точно какой багровый ковер и снова испугала мальчишек, убежавших от этой кровавой массы сажен на двадцать.
– Не бойтесь, дураки! Что вы, – ведь она мертвая! – уговаривали казаки.
– Да… мертвая… – нерешительно говорили дети и стояли поодаль, переминаясь с ноги на ногу.
Через несколько времени они подошли поближе и прятались за спинами казаков.
– Тятька! А, тятька! – робко пищала девочка, дергая отца за полу.
– Ну что тебе?
– Это рыбья рука, что ли, висит на дереве-то?
Казаки засмеялись.
– Дура ты, девка! – сказал, улыбаясь, отец, – какие у рыбы руки, – это визига[27]27
Визига – спинной хрящ (хорда) осетровых рыб, проходящий вдоль спинного хребта в виде непрерывного шнура. Высушивается на воздухе и связывается в пучки. Будучи хорошо разварен, превращается в прозрачную студенистую массу. На Руси издавна славились пироги, расстегаи и кулебяка с визигой (прим. ред.).
[Закрыть].
Девочка отошла от отца и с удивлением рассматривала висевшую на сучке дерева свернутую в несколько рядов визигу.
– Сколько же весу может быть в этой рыбе? – спросил я.
– Да кто ее знат… чай пудов с тридцать будет.
– А больше этой вам не случалось ловить?
– Нам-то не случалось, а сказывают, – там пониже лавливали и в шестьдесят пудов. Ладно же и эта нас поводила, одного канату сажен с двести мы на нее выпустили. Вчера еще с вечера попала, да вот только сегодня вытянули; на крючок-то зацепилась, да как побежала вглубь, чуть лодку-то совсем не опрокинула, и пошла и пошла, знай только канат давай; долго, это, все стрелой летела, ну потом потише, потише пошла и перестала канат тянуть, – на дно значит легла, умаялась. Было уж далеко за полночь, когда она легла то, мы уж и порешили не трогать ее до рассвету. Вот с утра-то раннего до сей поры все ее вытягивали, – ишь какая махина.
– Как же вы разделяете добычу?
– А по частям делим. Кому что полагается по расчету. Сотенному командиру тоже часть следовает, потому, хоть трудов-то его и не было, да он на канат вложил рублев кажись с пятнадцать.
– Какая же еще рыба ловится вами?
– Да разная рыба бывает.
– Какая же?
– Обыкновенно, какая рыба… всякая есть.
– Ну, а например.
– Да что например. Другой уж такой большой рыбы тут нет, одна она только, калужина, а другая не в пример мельче.
– Какая же остальная-то?
– Ну, осетрина, сазан, лещ, карась, щука… разная рыба… Ну-ко, ребята, нечего время терять, дорубайте, да и понесем…
Казаки разрубили рыбу на части и стали носить ее в станицу; на помощь явились женщины, дети; все таскали куски рыбы и все были довольны.
Я пошел вдоль берега и стал собирать кусочки сердолика, которым обильно усыпан берег Амура. Между многими сердоликами мне случилось найти несколько окаменелостей дуба и сосны и замечательный по своей редкости окаменелый глаз, который я и сохранил у себя до настоящего времени.
Вечером у низенькой деревянной церкви звонил колокол ко всенощной. Была суббота, я отправился в церковь. Тесно и бедно было внутри: иконостас был окрашен только одной буроватой краской, без всяких украшений. Молящихся в церкви никого не было, только одна дряхлая старуха стояла сгорбившись у стены и по временам клала земные поклоны; дьячок, из местных казаков, стоял на клиросе в полосатом халате и гнусил, читая, покашливал себе в ладонь. Дьякона в станице не было и священник один совершал службу.
После всенощной священник встретился со мной на берегу.
– Вы, смею думать, из города? – ласково, тихо и как-то таинственно спросил он.
– Да, из Благовещенска.
– Фамилия ваша?
Я сказал.
Батюшка помолчал несколько времени, оглядел меня с ног до головы и опять таинственно спросил.
– По частным делам, или имеете казенное поручение?
– По своим делам, – отвечал я.
Батюшка внимательно оглядел меня, потом помолчал несколько времени и снова спросил.
– Скучаете?
– Да, парохода долго нет.
– Медленно, медленно… – задумчиво проговорил он, – утомительно это ожидание.
– Да, не весело.
– Истинно так. Это томление даже душевный недуг производит.
Мы опять помолчали.
– Вы куда-то уезжали? – спросил я.
– С требой отлучался. Верст за шестьдесят расстояния. Женщина там изнемогала, теперь уже преставилась…
Батюшка вздохнул и замолчал.
– Да не угодно ли ко мне? – вдруг, оживляясь, сказал он.
Я поблагодарил.
– Что ж! Покорнейше прошу. Побеседуем…
Мы пошли.
Для священника, близ церкви, был построен небольшой домик; у окон этого домика были ставни, что составляло редкость среди избушек, но заплота и двора не было; заметны были около дома только следы плетня, который, вероятно, давно был израсходован на топку, потому что оказался ненужным, да и держаться не мог, – свиньи чесали об него бока и сваливали всю изгородь. В прихожей валялась солома и на ней лежал теленок. В зальце стоял старенький, с клочками оборванного ситцу, диван и дубовый некрашеный стол; на бревенчатой стене висело небольшое зеркальце и около него фотографический портрет священника с супругой, сидящих рядом, держа друг друга за руку.
– Это мое изображение, с матушкой, – пояснил священник.
Я подошел поближе к портрету.
– На вечную любовь, так сказать, – добавил он.
– Хорошая, говорю, фотография.
– Да-с. Вот скажите, до чего доведено. Удивления достойно и представьте, как быстро производится, всего минут несколько. Искусно, очень искусно…
Батюшка подошел к портрету и начал внимательно рассматривать, как будто видел его в первый раз.
– Где это вы снимали? – спросил я.
– В губернском городе Иркутске. Там господин фотограф весьма изобретательный человек и, как рассказывают, якобы в настоящее время он сугубо увеличил свои капиталы…
Мы сели и помолчали.
Босоногая оборванная девчонка, в грязном сарафане, вошла в комнату и подала нам чай. Батюшка начал рассказывать о трудностях амурской жизни и об ужасной, подавляющей тоске. Я заговорил было о школе, упомянув между прочим о пьяном фельдшере.
– Школа, вы изволите говорить. Какая же может быть тут школа, – возьмите во внимание. Я готов с великим усердием, но поверьте, чистосердечно вам говорю, нет никакой возможности устроить что-либо подобное.
– Отчего же?
– Неразвитие, великое неразвитие. Возьмите во внимание, я говорю например: Закон Божий, а мне ответствуют – пусть мальчишка коров пасет… Окаменение какое-то!
На столе явилась закуска. Пришел старшой и, помолившись, подошел под благословение.
– С наступающим праздником!
– Садитесь, покорно прошу! – пригласил священник.
Старшой сел, сложил руки и начал перебирать пальцами.
– Что ваш начальник? Здравствует ли?
– Ничего-с, теперь, слег; давеча на работе раскричался, – лежит теперь…
– Строгий уж очень. Так сказать, даже не по чину строгий, – с улыбкой заметил батюшка.
– Это точно что…
Попадья, шумя новым, яркого цвета, ситцевым платьем, вошла в комнату и поставила на стол тарелку с вареной рыбой. Батюшка отрекомендовал меня и потом обратился с вопросом, не был ли я на заимке у барина-пахаря. Я отвечал – что не был.
– Посмотреть стоит, – назидательно… Только знаете, любостяжателен он очень.
– Отчего же это?
– Не ведаю. По всей вероятности, сребролюбие овладело его душой.
– Да, скуп он, это точно, – подтвердил старшой.
– Ему бы, знаете, по всей справедливости, надлежало там у себя построить церковь, вот и господин старшой так же думает… соответственно…
– Церковь, известно, храм Божий, – отчего не построить?
Батюшка воодушевился и встал на ноги, приложив руку к сердцу.
– Я вам изъясню вот что: господин Нелепов, пахарь-то наш, в вере слаб и потому у них эти козни с господином сотенным командиром…
– Да вот я им рассказывал, – перебил старшой.
– Враждуют, истинно что враждуют, козни такие друг другу строят, что только Господи помилуй.
Священник подошел к столу.
– Приступите, – пригласил он, показывая рукой на закуску.
Мы выпили.
– Вот рыбки моего уженья. Я, как и апостолы Христовы, тоже рыболовствую…
Разговор оживился. Опять заговорили о школе. Священник доказывал, что ему невозможно принять какое-либо участие в обучении мальчиков, потому что у него слишком большая паства, что он один на пять станиц, и закончил свои доказательства следующими словами.
– Да и то сказать, возьмите во внимание, из-за чего же я, так сказать, буду распинаться? Трудись, трудись, а поощрения нет, все только на одном жалованье и сидишь…
– Оно точно… трудновато, – поддакнул старшой.
Попадья, молчавшая во все время, подошла к столу, поправила тарелки и, обращаясь к мужу, сказала:
– А ты скажи-ко вот им, какие у нас доходы-то…
– Ах, матушка! Позвольте, я изложу все сам, с достодолжною подробностью.
Попадья не обратила внимания на слова мужа.
– Нет, я говорю, милостивый государь, – обратилась она ко мне, – то есть поверите ли, никогда, никто из казаков, то есть вот какая есть крошка хлеба…
И матушка показала на пальце крошку.
В таком тоне долго продолжался разговор. Но прошло с полчаса и все разговоры, за отсутствием материалов, прекратились. Батюшка сидел у стола и, грустно опустив голову, напевал «Бессеменного зачатия». Старшой, достаточно упитавшийся спиртом, клевал носом вперед и, держа в руках пустую рюмку, постукивал по ней ногтем. Попадья сидела у окна и смотрела на темное звездное небо, находясь, вероятно, под впечатлением недавнего разговора о недостатке доходов. Сальная свеча едва пиликала, оплывая на весь стол. Я перелистывал книжку «Странника» 1860 года, единственную книжку во всем доме.
Расстались мы холодно, потому что батюшка был в мрачном расположении духа…
На следующий день однообразие станичной жизни нарушилось: купец с товарами причалил к берегу.
Быстро собралась около лодки толпа и пошла торговля. Шум, крик, говор долго слышались на берегу. Часа через два, через три, все, у кого были деньги, понакупились и около лодки остались только зеваки, да бабы, желавшие променять поросят и яйца на платки. Казак, с трубкой в зубах, стоял впереди всех и, лениво поплевывая на сторону, разговаривал с купцом.
– Не на что, господин торгующий купец, покупать теперь, и надо бы мне на рубаху кумачу, да не на что… Лоньским годом мы с тобой, кажись, соболя меняли?
– Може статься, – небрежно отвечал купец.
– Так ты мне по знакомству в долг не отпустишь ли? – спросил казак.
Купец мотнул отрицательно головой и, развертывая яркого цвета ситец, нахваливал его казачке, грустно смотревшей в плутоватые глаза торговца.
– Товар первый сорт! Как жар-птица горит!
– Нет уж, родимой, где тебе до купца Чуринова…
Эка сравня-я-ла! – с злобным смехом перебил купец.
– Уж какой у него яркой ситец…
– Много ты смыслишь, – чушка!
– И сам-то он какой ласковой, – продолжала нахваливать казачка.
– Да ну те к черту и с Чуриновым-то… берешь что ли? – сердито крикнул купец.
– Да вот уж разе за поросеночка-то…
– Поди ты совсем! Куда мне с поросятами, клеть что ли у меня в лодке-то?
Девочка, запыхавшись и зарумянившись, сбежала под гору к берегу, в руках у ней была деревянная чашка с кислым виноградом.
– Купец… мне бы ты… платочек какой, – робко предложила она, к общему смеху публики.
– Ишь догадливая, кто у тебя эту кислятину возьмет, – смеялся купец.
Девочка еще больше покраснела и грустно опустила глаза в чашку, на синие мелкие ягоды амурского винограда.
Изредка сквозь толпу смело проталкивались покупатели, слышалось: «пусти, пусти, покупать иду» и все давали дорогу, – значит человек шел за делом. Купивший развертывал покупку напоказ перед публикой. Одна баба променяла на два десятка яиц маленький платок и тоже развернула его напоказ.
– Гляди, гляди, ребята, – какой большущий, целое поле, хоть ярицу сеять…
– Ну-ко тетя, развертывай, развертывай, – паря, дайте дорогу, она его сичас роскинет…
– Да я уж роскинула, – весь тут…
– Это за два десятка яиц-то? Ну он те облопошил!..
Баба испугалась, приставала к купцу с расспросами; купец сердился, публика была довольна и хохотала…
Лодка простояла целый день. Вечером около моей квартиры, в казачьей избушке, слышался шум и песни. Купец делал вечеринку. Из окон избушки долетал ко мне писк девок, неистово оравших своими писклявыми голосами: «Со вьюном я хожу, с животом гуляю»…
– Да ты што? – покрывал их визг дикий мужской голос, – ты понимать должон, – у нас сичас по начальству: сотенной, бригадной, – понял?
– Паря, погоди, не ори!..
– Береги морду!
– Пей! – раздалось тоном выше.
И снова все затихло, – следовательно пили.
«Со вьюном я хожу,
С животом гуляю;
Я не знаю, куда вьюна положить,
Я не знаю, – живота подарить»…
Слышался снова писк девичьих голосов.
Долго за полночь продолжалась вечеринка. То слышался писк из избы, то казаки спорили и спор оканчивался отчаянным криком: «Пей! Да пей же, чертова образина»; но потом крик слышался с улицы, кто-то бранился и угрожал начальством.
Я не спал целую ночь…
Начинало светать. Из-за кустов смежных с домом, где была вечерка, торопливо выбежала какая-то женщина и скрылась в проулке… Около забора пробирался весь вывалявшийся в грязи казак и, пошатываясь из стороны в сторону, бессвязно бормотал: «со вьюном я… с животом»…
На следующий день рано утром примчался нарочный из соседней станицы с известием «от приятеля» к сотенному командиру, что на пароходе едет какой-то важный барин. Станица встрепенулась и поднялась такая суета в ней, как будто вот-вот сейчас наступит страшный суд. Сотни метел шаркали улицы, бабы подбирали своих свиней и поросят, ребятишки таскали щепки и листья, отвалившиеся от дубов, растущих по набережной улице станицы; казаки перебегали из квартиры сотенного командира в казенные амбары и обратно; старшой, точно угорелый со вчерашнего гулянья на вечерке, бросался во все стороны и нашептывал: «Помяни Господи царя Давида и всю кротость его».
Через несколько времени сотенный командир, в папахе и полной форме, расхаживал по берегу, обдергивая полы своего сюртука.
– Эй, старшой!.. Послать сюда старшого! – крикнул он на всю улицу.
Старшой как из земли вырос.
– Что угодно, вашескородие? – вытягиваясь в струнку, спрашивал он.
– Как у тебя там? – заботливо осведомлялся сотенный командир.
– Все благополучно…
– А что каптенармус? Вычистил ли он замки, как я говорил, уксусом с песком?
– Вычистил. Теперь чудесно стало, – так и блестят…
– В цейхаузе мел?
– Чисто вымел, вашескородие.
– Фельдшара прибрали?.. У, это животное! Измучил он меня.
– В клеть заперли…
– Свиней загнали ли?.. А то они опять высунут свои рыла с берегу. Страм!
– Не извольте беспокоиться, ни одна свинья не посмеет рыла показать, – всех загнали. С фельдшером в одной клети, на замке… Ключ у меня, не выскочат…
– Ну ступай… – вздыхая, сказал сотенный.
Я стоял на берегу в ожидании парохода. Шум от колес и от вылетавшего из трубы дыма доносился по реке в станицу. Вскоре из-за кустов показалась мачта парохода с развевающимся флагом.
– Пароход! Пароход! – кричали мальчишки, припрыгивая на одной ноге, обрадованные Бог знает чему.
Толпа казаков собралась на берегу. Впереди их стоял сотенный командир. Пароход, нагоняя волны на берег и плавно покачиваясь из стороны в сторону, подходил к станице. Раздался звук цепи от брошенного якоря. Сотенный командир стрелой бросился под гору и первый вбежал на пароход.
Важный господин, напустивший своим проездом такого страху на жителей станицы, – сидел на капитанском балконе и, прищурив глаза, рассматривал собравшихся на берегу казаков. Казаки стояли навытяжку, без фуражек. Сотенный командир влетел на балкон и почтительно докладывал что-то важному господину, при этом докладе корпус сотенного был наклонен несколько вперед и руки висели как две плети. Важный господин, положив ногу на ногу, слушал доклад сотенного и потом кивнул головой; сотенный постоял еще с минуту в наклоненном положении; важный господин сделал под козырек, и сотенный повернул налево кругом.
Я стоял на берегу и упрашивал капитана принять меня на пароход.
– Нэт мэст, – лаконически отвечал англичанин, не выпуская изо рта сигары.
– Хотя на палубу…
– Нэт мэст.
– Ну на баржу хотя…
Капитан задумчиво посматривал на противоположный берег, пропустив сквозь зубы: – О эсть!
Я бросился за багажом, не чувствуя под собою ног. Часть казаков и казачек таскали по сходням дрова, остальные по-прежнему без шапок стояли на берегу; важный господин сидел все в том же положении и молча рассматривал толпу.
– Здорово, ребята, – сказал он наконец, после продолжительного молчания.
С берега дружно гаркнули во все рты. Звук прогудел в воздухе, уносясь вниз по реке. Важный господин прислушивался к улетающему звуку и, казалось, был доволен, потому что, через несколько времени, он снова спросил.
– Всем ли вы довольны?
Толпа опять что-то гаркнула, но понять было нельзя, только и слышалось: во-во-во-во-о-о…
– Подите по домам. Благодарю! – сказал важный господин.
– Рады стараться… во-во-о!.. – разнеслось в последний раз по реке и толпа отшатнулась от берега.
Пароход набирал пары. Через полчаса мы тронулись в путь. Я сидел, прикурнувшись, на барже около мачты и был совершенно доволен своим незатейливым помещением. Кругом меня теснились солдаты с ружьями; слышались звуки цепей: возвращали из Николаевска ссыльно-каторжных обратно в Нерчинские заводы, но причине развившейся у них цинготной болезни. Брань, ссоры, грубый говор… запах махорки… Но за эту неприятную обстановку наградой была возможность наблюдать жизнь тех людей, о которых мы так много шумим и которых совсем не знаем.
Те впечатления, которые я вынес из путешествия на палубной барже, послужили мне началом новых литературных работ; но придется ли мне когда-нибудь их окончить – я и сам не знаю, потому что не знаю, куда бурная волна жизни занесет мой утлый челнок, не знаю, в какие положения я буду поставлен роковою, неотразимою силою внешних влияний, рабом которых считаю я каждого человека, не признавая за ним сотой части той самостоятельной воли, которую он себе приписывает; не признаю я этой воли потому, что образование и происхождение ее зависят опять-таки от роковой и неотразимой силы внешних влияний…