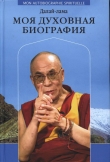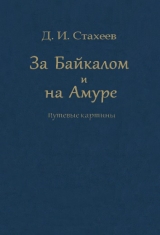
Текст книги "За Байкалом и на Амуре. Путевые картины"
Автор книги: Дмитрий Стахеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц)
– Ну-ка, ребята, будет болтать, что тут толокно-то толочь, – запевайте-ко песню, вспомним старину; по ветру-то оно здесь хорошо разнесет.
И они затянули песню: «Прощай Томско и Тобольско, прощай Шадрин городок», но песня, как говорится, не выходила и по ветру не разносилась, а тут же у костра и замирала. Рулевой сам же ее и прервал.
– Эх вы, коты мурлыки, – сказал он, вставая на ноги, и пошел в чащу леса собирать сухой валежник.
Вошли мы в щеки. Амур сузился наполовину; течение его было быстро и наша лодка пошла почти с удвоенною скоростью. С обеих сторон реки стояли высокой стеной горы Хинганского хребта; хвойный лес, начинаясь с подошвы гор, казалось, высился по ним до облаков; река извивалась между гор и, делая крутые повороты, то направо, то налево, невольно заставляла нас обманываться: окруженные со всех сторон высокими горами, мы плыли точно по какому-то волшебному озеру. Ночи были лунные, но в этом волшебном озере царствовал полумрак и только изредка, кое-где, в изгибе реки, бледной полосой падал свет луны на воду и снова исчезал, освещая лишь наверху гор мрачные сосны и ели. Так извивается Амур в Хинганском хребте на протяжении ста верст.
По горам сообщения нет, разве только какой-нибудь смелый казак пустится верхом, да и колесит справа налево, выбирая удобную тропинку; сообщение бывает только до заморозков, пока не появится на реке лед, а потом прекращается до того времени, пока река не замерзнет. В лодках, летом, против течения трудно идти на веслах и в местах, удобных для прохода, идут бичевником или на шестах.
В Хингане мы плыли не останавливаясь с вечера почти до рассвета, потому что стояла тихая погода и мы боялись потерять хорошее время; но перед утром рабочие утомились и просили отдыха. Мы пристали к берегу, развели огонь, но не успели сварить себе чаю, как лес над нашими головами затрещал и закачался; вслед за этим треском раздался отдаленный шум в деревьях, какой-то дикий, страшный крик огласил тихий ночной воздух, эхо откликнулось в дальних горах и потом вблизи нашей лодки заплескалась вода, – большой зверь поплыл на противоположный берег. Какой был зверь, нельзя было разглядеть в темноте.
Я испугался и велел поскорее отваливать от берега. Мои рабочие тоже струсили и только рулевой хотел казаться спокойным, но однако же не замедлил поскорее вскочить в лодку.
Мы торопливо плыли на середину реки, чтоб быть подалее от берега.
– Что это такое было? – спрашивали рабочие после продолжительного молчания.
– Звери разыгрались промеж себя, – ответил рулевой.
– Больно уж страшно, крик-от…
– Давили может кабана какого…
– Боязно…
– Чево боязно-то? Мы-то трусим, а они нас трусят тово больше…
Так мы от неудавшейся стоянки и плыли, пока совсем не рассветало, куда и сон наш пропал.
Подплыли к какой-то маленькой станице, прилепившейся между гор в ущелье, «на подушке», как рассказывали казаки.
– Место у нас здесь незавидное, пахотной земли почитай что и нету вовсе, ну и луговой тоже не богаты, – на другое бы перебраться…
– Где же вы хлеб сеете?
– Да вон там за горой, поляна такая вышла, подушка опять эдакая, вот туда, за этой горой, – тут и пашем.
– Скучное место, батюшко, скучное, тоскливое; горы эдакие вокруг тебя страшенные, все горы да горы, да лес дремучий, зверье всякое, – поясняла мне какая-то женщина-казачка.
– Ночью, иной раз, за избами нашими медведь мычит; барса тут какая-то есть, оногдысь[25]25
На днях, недавно (прим. ред.).
[Закрыть] корову задавил…
– Зато соболей у вас тут много. Казаки, я думаю, добывают их? – спросил я.
– А господь знает, бьют видно…
Женщина помолчала, поглядела внимательно на лодку и спросила.
– Мне бы на сарафан ситцу…
– Нету, тетушка, – не торговой я.
Женщина низко поклонилась.
– Простите уж вы меня, бабу глупую…
– За что прощать, помилуй?
– А я думала – купец с торгом…
И пошла поскорее от лодки.
– Ишь ты как улепетывает! – подсмеивались мои рабочие, – баба так баба и есть.
К вечеру, к позднему вечеру, нам случилось остановиться у небольшой станицы на ночевую. Мы развели на берегу огонь и начали варить ужин. На огонек подошли казаки и казачки. Сначала завели они расспросы о товарах, о купцах, а потом разговор перешел на их житье-бытье. Старый, седой старик-казак долго слушал наши разговоры и молчал, пошевеливая палочкой огонек; рядом с ним сидела, поджав под себя ноги, старуха – его жена. Долго шел разговор о Забайкалье, о трудности жизни на новых местах, старик все покрякивал и молчал.
– Что же ты, дедушка, молчишь?
– Да что, не дородная (не хорошая) сторона!
– Зачем же ты поехал сюда?
– Да вот ребята… Переселили их, ну и я за ними… Вот мы со старухой поживем еще годок, другой, да поедем на свою сторону умирать.
– И, и, родимой, – захрипела старуха, – какая здесь сторона, – курицы дохнут, идет, идет, моя голубушка, да как трахнется, так ей все животики и выворотит.
– Это, ваша милость, только спервоначалу было, теперь ничего, Бог милует, – заметил старик.
– Значит жить можно?
– Можно не можно, а живем, пока Бог грехам терпит… Вот сынков нам из Расеи понаслали сюды, с ними справиться силы нету…
– Какие это сынки?
– А штрафные солдаты. Понаслали их сюды, да и дали нам на каждую семью, как будто в сыновья, – возись с ними. Народ озорник, балованной, – одно слово ухорезы.
– Ягоды здесь никакой нет, – брякнула вдруг какая-то молоденькая казачка.
– А ты за ягодами что ли приехала? – спросил мой рулевой.
– Не за ягодами… а все же…
– Ну те совсем с ягодой-то, – перебил старик, – тут дело говорят, а она об ягоде… Есть тебе голубица, кислой виноград есть, – чево еще надо?
– Да я так только… сказала…
И застыдилась.
– Вот теперичка, ваше почтение, – обратился старик ко мне, – правду ли, нет ли сказывают, что якобы сам китайский император нашему Батюшке Белому Царю слезную грамоту писал и униженно молил ослобонить его землю, этот самой Амур, а нам казакам, чтобы оборотить на свою сторону?
– Не знаю, – отвечал я.
– Эх ты, – вступился в разговор рулевой, сам-то ты китайской император и есть, а еще старик! Какие тут тебе слезные грамоты? Завоевали наши русские этот Амур и шабаш! Сила оружия значит, тут уж грамоты не помогут… Выдумал!
Старик покосился на рулевого, посмотрел на меня и, кажется, подумал что-то вроде того, что «хочется же, мол, людям с такими головорезами ездить».
Я попросил рулевого не мешаться в наш разговор и продолжал слушать старика.
– Да вы напрасно уши-то развесили, право. Черта ли их слушать, – наврут они вам с три короба, – с хохотом говорил мой клейменый спутник и залез в лодку.
От тоски о родной стороне, от слезной грамоты китайского императора разговор перешел на охоту.
– Бьем мы здесь понемногу белку, тоже, мало дело, соболишка колотим. С ноября, этак в начале поста рождественского, уходим в горы, а к новому году, либо к масляной неделе, домой оборачиваем. По счастью да по уменью глядя и несем кто сколько добыл, кто десяток, а кто и два; которы у нас вон заправски-то стрелки, так и по три десятка добывают. Прежде здесь до нас гольда да орочон жили, они, надо быть, много добывали, потому стреляют важно; уж про то слова нет, что они только в головку бьют зверя, в самую, значит, маковку, – это уж у них завсегда, а то вот что еще делают, – близко зверя не бьют, а подальше от него отходят, для того, чтобы пулька в голове у зверя осталась, либо упала бы где поблизости, чтобы ее найти было можно да опять в дело пустить.
– Что же, они богато живут?
– Нет. Бедность у них непроходная. Дань, сказывают, большую с них маньчжур берет; поедет, говорят, чиновник и оберет, почитай, всех соболей; спрячут они другой раз свое добро-то, – так ищет чиновник, бьет их, а то и в Чичикар отправит, к самому набольшему чиновнику; другие, заслышав о приезде чиновника, разбегутся, кто в лес, кто куда, – много греха-то у них. По весне как-то они к нашей станице прикочевали; река-то еще не вскрылась, холодненько гораздо было, а у них шалашик из липовой коры сделан, худенькой такой, везде сквозит да дует. Зашли мы туда к ним, – оборвыши все до единого, чуть-чуть только не нагие; уж как только они зиму зимовали, – удивленье! Котелок в шалашике-то на огне стоял, поглядели мы, что они варят, поглядели да и ахнули: гнилушки да сучья в котелке-то только, в них вся и пища – как только живы, – вот она, какая бедность-то! Дали мы им хлеба, – кланяются, мычат чево-то по-своему, будто просят чево-то, руками размахивают, – што такое, думаем. Вытащили откуда-то винтовки, суют в нас ими, на дуло показывают, – показали мы им порох, – запрыгали все, скачут, хохочут, сдурели ровно. Дали мы им понемногу свинцу и пороху. Только река-то вскрылась, смотрим-посмотрим, наших орочонов и след простыл, только кусочки липовой коры на земле валяются, от шалаша от ихнего остались. Куда они ушли, Господь их знает, боятся ли нас, чево ли, али от маньчжурских чиновников норовят подальше, – а народ смиренной, тихой народ.
– Какого же вы здесь еще зверя бьете, кроме белки и соболя?
– Да бьем понемногу, кого придется.
– Какого же? Барса? Медведя?
– Попадется, как не бить, – бьем, да мало. Барса, ваше почтение, нынче совсем мало; редко-редко когда увидим его, а поначалу-то он, проклятой, обижал нас больно. Сколько коров передавил, – так-таки среди белого дня, прямо на станицу и прет. Силища же у него непомерная, – крепкой зверь! Однова разу наши робята казаки пошли белковать. Идут, это, путем-дорогой, вдруг видят на поляне этакой пригорочек маленькой случился, а на пригорочке барса лежит, хвостом тихо таково пошевеливает, греется. Дело-то было в велико говенье, перед весной. Лежит барса на пригорочке. Увидали его наши робята, – струсили; а народу их было человек пятнадцать и все с винтовками, у которых тоже и большепульные винтовки были. Собрались они в кучку, потолковали, сотворили молитву, да и порешили идти прямо на зверя; а зверь лежит себе греется, да хвостом из стороны в сторону пошевеливает и думушки не думает, что перед его глазами толпа народу. Подошли робята на выстрел, – бац! бац! Барса поднялся со своего места с пригорочка и пошел не торопясь назад. Казаки наши так на месте и окоченели от страху. – Што же это, робята, а? – спрашивают друг у дружки: – неужели мы из двадцати-то винтовок попасть в него не могли? Вот дела-та! – Ну, думать нечего, робята, надо – на убег. Воротились они домой, рассказали товарищам, и на другой день опять пошли, уж нарочно, значит, этого самого барсу искать. Пришли на старое место – нету, пошли дальше, – тоже нету; с полверсты отошли, смотрят, лежит он под кустом. Близко подойти не смеют, ну, да потихоньку опять на выстрел подобрались, – бац! бац! а барса лежит, головы не поднимает, подох значит; – так вот он как: с полверсты ушел с пулями-то…
– И часто вам случается барса бить?
– Нет, теперь Бог милует, реже стал он. Ушел, надо быть, куда подальше, потому, Божий образ, зверье это самое тоже трусит; да и крупной же это зверь, – оборони Бог. Ину пору, робята видали, скачет он по полю, что твоя птица летит, – по две сажени прыжок делает! А и хитрой же какой – беда. Опаска берет и заправского охотника, когда этот самой барса начнет хитрить: охотник норовит, как бы его выследить, а он сам его выслеживат и подбирается, как бы угодить с затылку. Медведь вот здесь, так этот супротив забайкальского далеко не родня: забайкальской медведь черной, а здесь какой-то, Бог его знат, не ладной, бурой ли, рыжой ли – не поймешь, да и трус какой, – все норовит, как бы наутек, а ведь забайкальской медведь, сами знаете, сердитой, на задних лапах так ходенем и ходит…
– Какие же еще есть здесь звери?
– Здесь всякого зверя много, и большова, и малова. Кабан есть, изюбря, коза, этой козы одной не перебьешь чай во всю жисть, – так ее много. Поедем, ину пору, за станицу, – так на глаза и лезет, уши-то навострит, дивится, а тоже осторожна: чуть к ей поближе, сейчас и улизнет, только и заметишь одну спинку, как она в густой траве начнет попрыгивать… Опять же, волк есть, лиса, ну хорьки и всякая мелюзга; есть еще тут у нас особенной волк, красной, Бог его знат, какой-то он непутевой: издали на него глядишь, – как есть лиса, а убьешь, – нет, не лиса, потому шерсть жесткая, волчья, непутевой совсем…
От разговора про охоту перешли к начальству.
– Начальства у нас довольно, сотенные, бригадные; летом еще большие начальники проезжают, губернатор военной тоже, – службы немного, а ревизии частые, потому строго!
– Кто у вас здесь сотенный командир?
– В нашей станице нету сотенного, нашим начальником считается раддевской командир, он там в Раддевке и живет, к нам нечасто ездит, признаться сказать, незачем; летом-ту, когда большова начальства поджидают, завернет иной раз. Смирной человек, все больше насчет охоты за зверьем хлопочет, с маньчжурами тут большую дружбу завел, они ему дорожки разные на зверя показывают, ну он и доволен, – ничего, начальник доброй. По станице нашей командует старшой, из нашей же братии выбирается, для порядку будто, на случай, значит, ежели левизор какой наедет, а дело тут какое, – нету ему дела вовсе. Вот в больших-то станицах, где казенные склады находятся, провиант, примерно, железо, спирт, – там оно точно, хлопотливо, а здесь спокойно…
Долго еще сидели около нашего костра жители станицы, вспоминали о Забайкалье, рассказывали о своей амурской жизни и только далеко за полночь разошлись.
Начинался рассвет. Над рекой поднимался пар, где-то в станице заливались петухи, темные очертания казачьих избушек, точно в туманной картине, становились все яснее и яснее; сыростью и холодом потянуло в воздухе. Мои рабочие, спавшие около угасавшего костра, проснулись и стали чесаться; из лодки высунул свою заклейменную рожу рулевой и, зевая во весь рот, говорил.
– Рассвело-о!
– Поплывем сейчас, али чай варить будем? – спрашивали рабочие.
– Надо бы горяченьким всполоснуться, – сказал рулевой.
Напились чаю и тронулись в путь.
– Ну-ко, робята, приналяг, близко и конец нашей путине! Еще станицы две проплывем и привал. Ну-ко, ну-ко, навались! – поощрял рулевой и затянул песню: «Не будите молоду, ранным-рано поутру».
Рабочие подхватили и далеко по тихому зеркалу воды разносились звуки их голосов.
III
Проплыли мы Хинган и пристали у высокого берега богатой амурской станицы. Станица эта имеет до 180 дворов, церковь, казенные склады и проч. Прежде, до занятия русскими Амура, на этом месте ясно сохранялись следы каких-то укреплений, рвы в несколько рядов тянулись, как заметно, на большое пространство. Теперь, с постройкою казачьих изб, следы рвов делаются все меньше и меньше, на месте их строятся избы. К какому времени относятся эти укрепления, неизвестно, всего вернее, ко времени Хабарова и существованию гор. Албазина, хотя этот город отстоял от описываемого места почти на тысячу верст, вверх по Амуру.
В этой станице мне нужно было пробыть по собственным делам с неделю. Я рассчитал своих рабочих, лодку велел затащить на берег и поселился в избушке одного казака. Как раз против этой избушки строился дом; несмотря на то, что этот дом был только еще наполовину построен, а его уже обносили заплотом. Народу работало много, хотя на дворе был праздник. Меня это очень удивило. Я сел к окну и спросил проходившего мимо казака, что это за постройка делается, такая спешная, несмотря даже на воскресный день. Казак по привычке принял меня за какого-то начальника, вытянул руки по швам, остановился и четко проговорил.
– Сотенному командиру дом, ваше высокородие.
– Отчего в воскресный день работают?
– Сотенный командир попросил казаков заплот поставить, – начальство ждут, хотят к приезду их покончить…
Не успел казак договорить своей фразы, как к окну быстро подошел сотенный командир и турнул казака на работу.
– Дурак! – прикрикнул он, – что ты тут языком-то чешешь?
– Кто вы такой? – сердито обратился ко мне сотенный командир с вопросом.
Я сказал.
– Что вам за дело тут до построек, доносы писать что ли?.. Дайте сюда ваш вид.
Я отвечал, что на улицу своего вида не желаю отдавать, а если угодно будет его благородию, то он может зайти ко мне на квартиру или поручить своему помощнику, или, наконец, если уж есть такое распоряжение, чтобы прописывать в каждой станице паспорты, то я сам могу зайти в сотенное правление и предъявить свой вид. Но начальник станицы не дослушал ответа, затопал ногами, закричал на всю улицу, призывая старшего. Он был видимо человек больной, раздраженный и решительно не умел владеть собой; губы его дрожали и на них показалась уже пена, он нервически дергал рукав своего мундира и неистово кричал старшего.
– Да поди же ты сюда, черт тебя возьми! Поди же сюда, мучитель мой, изверг, – где ты там пропал?!
Испуганный, запыхавшийся и в свою очередь дрожащий от страха, подбежал к командиру казак и торопливо сдернул с головы фуражку.
– Что угодно, вашескородие?
– Изверг! Мучитель! Где ты там пропадал… У! – сердился командир.
– Я, вашескор… заплот… на работе… – лепетал в испуге старшой.
– У! Изверг! Ад мне с тобой!..
– Вашескор… Виноват…
– Оглох!.. У!.. Чертова скотина!..
– Вашеско…
– Молчать… Не дыши!..
– Слушаю-с.
Я с удивлением смотрел на все происходившее и от души жалел сотенного командира, так его бедного передергивало. Наконец он несколько успокоился и справедливый свой гнев обратил на меня в следующем приказе к старшому.
– Пойди сейчас, сию минуту, к этому господину и принеси мне в квартиру его вид; если он тебе вида своего не отдаст, то веди его в сотенное правление и оставь там до моего распоряжения.
«Вот тебе на!», – подумал я и поскорее стал справляться, при мне ли мои бумаги.
Разгневанный начальник ушел вдоль улицы. Старшой посмотрел ему вслед и хитро улыбнулся.
– Видели, ваше почтение, каков наш командир грозной? – шепотом проговорил он, обращаясь ко мне.
– Отчего он у вас такой раздражительный?
Казак махнул рукой, посмотрел вдаль на уходящего начальника и пошел в ворота моей квартиры.
– Доброго здравия! – говорил он, входя в избу, и, помолившись на образ, опять повторил приветствие.
– Добро жаловать, – приветствовал и я его.
Взял он мой вид, прописал его в сотенном правлении и вечером возвратил мне. Мы сели за чай. Старшой рассказывал про своего командира следующее.
– Было дело такое. Около нашей станицы, в двадцати верстах, живет один барин, заимку там себе устроил и занимается хлебопашеством. Только они с первого дня, как увидались друг с дружкой, что-то не поладили. Сотенный ли наш поссорился, али барин-пахарь, – Бог их знает, а надо быть так, что оба задиры. Ну ладно. Только лоньским годом этому самому барину-пахарю привезли из Благовещенска семена для посевов. Сотенный наш трах на лодку, – «что привезли»? – То-то, говорят. – «Кому»? – Тому-то. – «Стой! Надо свидетельствовать. Развязывай мешки». – Приказчик пахаря заспорил. – «Ка-а-к! Грубиянить?! Взять его под арест». – Приказчик туды-сюды, – нет! Посадили. Прошла ночь, сидит человек в яме. У нас здесь габвахты нету, а яма просто, так сказать, погреб. Бумаги приказчика сотенный забрал к себе. Только на другой день поутру бежит ко мне в избу казак, – иди, говорит, живее, сотенный зовет. Бросился я сломя голову, думаю, что за оказия, рано так проснулся. Прихожу, что, говорю, приказать изволите? – Выпусти, говорит, арестанта, – он дворянин. Я так и ахнул, ну, думаю, теперь мы влопались по самые уши. Пошел выпускать. – Пожалуйте, говорю, вашескородие, на волю, извините, мол, ошибка вышла, думали, вы простой человек. – Тот молчит – хоть бы слово! Вышел из ямы-то, нанял лошадей, да и марш прямо в бригаду. Пошел суд да дело, допросы да показания. Из Благовещенска выехал на следствие чиновник. Наш сотенной было трухнул порядком, ну да как-то все обделали. Чиновник городской удружил, потому он дока, да и на пахаря зол был. А пахарь, сказывают, нарочно подвел дворянина-то этого. Так какой-то там в городе был немудрящий, он его и нанял к себе в услужение и навострил, – действуй, мол, так и так. Хотел он, значит, сотенного столкнуть с места, а вишь не удалось, – городской чиновник помог…
– Ну, а с вами-то сотенный ладит? Не обижает вас?
– Ничего, живем пока. Человек-то он и ничего бы, да горяч больно, чтобы все ему в секунд. А так, трезвой и не картежник. В других станицах ину пору бывало хуже. Теперь вот в городе трое или четверо судились за растрату казенных денег, в Якутскую область на поселенье ушли, потому – скука им здесь, дела нету, ну вот и поигрывают в картишки, – что станешь делать, сторона дальняя, глухая… Про нашего сказать этого нельзя, – человек степенной. Конечно, иной раз и не без греха. Вот хоть бы теперь, работали заплот, почитай, всей станицей, – попросил, отказать неловко, хошь и праздник. Мы, правду сказать, такого человека и не видывали, – чудной какой-то. Приехал он сюда по весне и сейчас распорядился, чтобы мы, казаки, оставили ему на своих огородах по полугрядке для овощу. Ну мы и оставили, думали, наймет кого-нибудь, чтобы посадить семена, а на поверку-то вышло, что ему и посей, и собери, и принеси. Да еще после выговор сделал, урожай, говорит, у вас плох… Однако по чарке спирту подал.
– Что же вы нынче для него, посеяли?
– Не-е-т. Уже теперь доброго здоровья, – просим не взыскать, теперь уже эти порядки кончились. Раскрылись его штуки-то. А раскрылись они опять-таки через барина-пахаря. Грызутся они друг с дружкой. Наш-то все норовит его всяко, – то рабочих потребует в станицу, – казаки мол, поверку им хочу сделать, все ли целые; то контракты не свидетельствует, – условия, мол, тяжелые, – моя обязанность защищать казаков. А барин-пахарь, чуть чево не так, – в бригаду жалобу; пронюхат чево – жалобу! А то как-то раз в книжке пропечатал. Было шуму-то у нашего начальства…
Старшой оказался разговорчивый человек. Из бесед с ним я узнал, что в станице есть фельдшер, но так как в его медицинских знаниях никто из казаков не нуждается, то он, по распоряжению сотенного командира, исполняет должность сельского учителя и исполняет ее, нужно сказать, по-своему: его метод преподавания разнится от других тем, что ученики по этому методу могут не только не заучивать урока наизусть, но и совсем его не читать, так как преподаватель, вместо школы, каждое утро заходит в казенный склад и выпивает там по чарке спирту; не успеет он выйти из склада, чтобы отправиться в школу, как ему приходит в голову мысль: «А что? Не повторить ли?», – и возвращается обратно в склад. Такие входы и выходы повторяются до того времени, пока в кармане фельдшера есть несколько копеек; на следующий день то же. Заслышит сотенный о дурном поведении педагога-фельдшера и по обязанности, лежащей на нем, делает распоряжение – «внушить». Внушения обыкновенно состоят в том, что из склада спирту не дают, а если не дают спирта одному, то другому дадут и вот начинаются хитрости: подговаривает фельдшер какого-нибудь казака и посылает за спиртом, а так как посылаемому нужно же дать какое-нибудь вознаграждение, то порция увеличивается, спирту берут вдвое. Таким образом, обходя «внушение», поощряют промышленность и пьют в компании. Однажды я увидел этого педагога-фельдшера в желтых панталонах и белом сюртучке. Он был еще достаточно крепок на ногах и хотя немного покачивался, но языком владел свободно, что и можно было заметить из разговоров его с самим собой. Проходя мимо моей квартиры, он приободрился, и стараясь казаться непринужденным, раскланялся с ловкостью парижского франта. Я принял его за писаря сотенного правления и конечно нисколько не удивился его поклону, потому что в деревне новому человеку, как светлому празднику, всегда рады. Через несколько дней эта желтоногая фигура встретилась мне на берегу реки; свесив ноги вниз с крутого обрыва берега и находясь, как говорится, на последнем взводе, желтоногий фельдшер мурлыкал что-то себе под нос и отчаянно клевал носом вперед. Я подошел, предупредил пьяного человека, что он может свалиться вниз, но получив в ответ: – «Эт-то не может быть», – не успел я отойти двух шагов, как на обрыве уже не показывалась более его фигура, – она покачнулась так, что через несколько минут была уже под горой у самого берега реки. Несмотря на то, что крутой берег был песчаный, но он до того был крут, что только счастливое падение спасло от увечья упавшего человека. Я пошел и передал виденное казакам, но это их нисколько не удивило. – «Он у нас заколдованный, – брось его в реку с камнем, – не потонет, потому вода его в себя не примет», – шутили казаки.
Дом, строившийся против моей квартиры, быстро прибывал. С утра до вечера на нем работали батальонные солдаты. Не знаю, оценят ли впоследствии все труды, лишения и ту пользу, которую принесли на Амуре эти батальонные солдаты-строители. Бо́льшая часть казенных амурских построек сработана их руками и в каких концах эти постройки? Одни в Албазине, другие в Благовещенске, третьи в Хабаровке, – расстояния по тысяче, по две тысячи верст! И эти амурские строители-странники, окончив работы в одном месте, были пересылаемы на другое, и так начинается с ранней весны и кончается глубокой осенью. Однажды как-то во время работ завернул ко мне на квартиру мой приятель старшой.
– Однако, ваше почтение, они чай вас беспокоят? – спросил он, кивая головой на постройку.
– Нет, ничего. Я уже привык к этому шуму.
– Ну однако… День-деньской орут… Стук какой идет…
– Да, покрикивают изрядно…
– Эй! Эй! Наваливай! Тяни! Чтоб те разорвало! – слышалось с постройки.
– Эх-эх-эх, – долетали равномерные, отрывистые вздохи, следовавшие за ударами топора.
Среди общего крика и шума слышалась какая-то песня, каждый куплет которой оканчивался известным припевом: «Дубинушка ухни», я спросил моего собеседника, что это за песню такую поют плотники. Собеседник хитро улыбнулся, осторожно оглядел комнату, как будто опасаясь, чтобы кто не подслушал, и потом проговорил.
– Это бревна, ваше почтение, поднимают, так песню поют…
Но не договорил. Видимо хотел сказать не то, что сказалось.
– Знаю, что песню поют. Да какие же слова этой песни? Откуда же она взялась, кто ее сочинил? Отчего в ней слышатся знакомые фамилии?
Старшой оглянулся и шепотом проговорил.
– Это про Амур песня сложена, как его, значит, заселяли.
– Ну-ко расскажи.
– Нельзя, ваша милость…
– Отчего нельзя?
– Ей-богу не могу…
– Да ведь поют же ее!..
– Мало ли что! Поют – это верно. Только ведь в песне слова-то можно как угодно вытягивать да проглатывать…
Долго я просил старшого рассказать содержание песни, но он все-таки не рассказал; сколько я ни вслушивался в пение работавших солдат, но понять не мог, только и расслышал: «командир-то наш плешивый выдает приказ фальшивый», да еще отрывки какой-то песни: «Аргунь восхваляли, Амур проклинали».
Вечером, как-то, опять сидел у меня старшой.
Мы пили чай. Я угостил его коньяком, желая узнать содержание амурских песен, но ничего не узнал, потому что старшой сам едва помнил их. Разговор перешел на хлебопашество и старшой рассказывал об отношении их казачьей жизни к командирам.
– В прошедшем году, по осени как-то, заслышали мы, что начальник едет вниз по реке, ревизовать область. Он взаправду-то и не поехал, а мы перетрусили. Дело-то, видите ли, было перед уборкой хлеба, а урожай как на грех был плоховат… Не наливайте, будет… благодарствую… Ух, много махнули, – хмельное ведь…
– Ну-с, так вот как. Сотенный наш присмирел и голову повесил, – потому плохой урожай нас совсем допек, – беда: начальство что скажет!? Хорошо. Думал наш сотенный и порешил. Позвал меня и велел оповестить казаков, чтобы хлеб жали с толком, снопики делали бы потоньше, суслоны ставили поменьше да почаще, чтоб хлеба на десятине казалось с виду больше. Так мы и сделали, только надо вам сказать, труд наш понапрасну пропал: никто наших суслонов не считал и усердия нашего не похвалил…
– Да на что вам похвалы? От них ведь хлеба не прибудет.
– Оно точно что. Иначе только нельзя, потому так ведется…
Через полчаса мой собеседник начал заплетать языком.
– Служба моя, ваше почтение, тяжелая, потому… Сотенный у нас горячий…
– Просись на смену.
– Эт-то невозможно…
– Почему же?
– А пы-та-му… Однако, ваше почтение, у вас ром-то тово… разобрало мена до жилочек. Если бы этого рому еще чашечку голенького…
– Что же бы тогда?
– Рай земной бы… – добавил старшой торопливо, – я, ваше почтение, пошутил. Я не тово, потому полно до краев. Счастливо остав…
И, покачнувшись на косяк, мой собеседник вышел из избы.
На другой день он зашел ко мне с извинением, что переложил через край, оправдываясь тем, что я против его желания много подливал в его стакан коньяку.
– У нас здесь, ваше почтение, и без меня пьющих много. Недаром по Амурской области запрещено продавать ханьшин (маньчжурскую водку).
– Это почему же?
– А потому же все. Запрещено и кончено. Если теперича к берегу пристанет купец или другой какой торговый человек, то сейчас я могу на его лодку явиться и осмотреть, нет ли ханьшину, а если он есть, так, Господи благослови, да и в воду его.
– На каком же основании?
– А на таком же. Ханьшин – ну и в воду его! Такой приказ дан.
Я сказал старшому, что начиная от станицы Хабаровской до самого Николаевского порта дозволена по Амуру свободная торговля, чем кому угодно.
– Это мы знаем чудесно, – отвечал старшой, – там дозволена, но у нас не дозволена. Там свое начальство, а у нас свое.
– Река же ведь одна и одного Царя белого здесь царство?
– Царство одно, об этом что говорить. Начальство только разное; в Миколаевском-то порту адмирал, а у нас военный губернатор, – вот оно и разница. Опять то надо сказать, что в порту может статься и больше пьют, да все Бог милует, а у нас здесь неблагополучно: вон позапрошлый год один казак с маньчжурской-то водки опился, – вот с той поры и запретили маньчжурскую водку.
– А разве казенным спиртом нельзя опиться?
– Спиртом нельзя, потому он из казенного складу дается…
– Да разве мерой выдается на человека?
– Не мерой. Сколько хочешь, за деньги купи…
– Так значит все равно?
– Нет, пошто? Все же, если который казак замотается, то ему можно не давать спирту[26]26
Теперь эта охранительная система трезвости в Амурской области рухнулась, потому что, с уничтожением откупов, на Амур свободно ввозится водка частными лицами.
[Закрыть].
– Вон у вас фельдшер замотался, что же вы его не исправляете?
– Кого? Желтоногого? Да какой черт его исправит! Его к нам из Россеи в сынки прислали, – какое уж тут добро будет. Да он нас всех измучил – смоталась с ним половина станицы, – кто его исправит. В первой-то день, как пригнали их сюда, он у нас чуть избу не сожег. Натаскал он в баню щепок да и запалил ее, мы и не заметили. Глядим, из бани дым повалил. Что такое? Черти, говорит, там сидят, я, говорит, их хочу сожечь! Вот он каков! Вздули мы его проклятого, однако ловко. Три недели лежал, a ведь отлежался опять, – думали околеет, – нет ожил!..