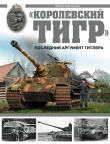Текст книги "Человек в проходном дворе"
Автор книги: Дмитрий Тарасенков
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Глава 6 ВЕСЕЛАЯ ВДОВА
В этой комнате пахло духами.
– Мы пока здесь посидим. Чтобы не мешать, значит, – сказал Буш. – А она соберет на стол.
Едва мы вошли, Генрих Осипович стал прятать женское белье, в беспорядке разбросанное по комнате, – он старался это делать незаметно. На стене висела картина: дородная голая красавица, прикрывшаяся чем-то легким и прозрачным. Она двусмысленно улыбалась. Под картиной стояла кровать. Двуспальная. Покрывало с кружевами, горка смятых подушек – видно, Ищенко лежала, когда мы пришли. А вот и книга, которую она читала. Я скосил глаза и разобрал: «Как только г-н Кастанед удалился к себе в келью, ученики разбились на группы. Жюльен не примкнул ни к одной из них; его сторонились, как паршивой овцы». Ого, Стендаль! «Красное и черное». Буш сел на кровать и положил ногу на ногу.
В проем двери было видно, как Ищенко – она уже надела темное платье с вырезом – накрывает на стол. Она делала это уверенно, как хозяйка, только раз остановилась и спросила: «Где у вас майонез для салата, Генрих? Я не могу найти». Она выставила из холодильника на стол запотевшую бутылку водки. «О господи, везет же мне! – подумал я. – Еще вечер не наступил, а меня второй раз усаживают пить».
Ни в той, ни в другой комнате полок с книгами не было. Судя по всему, существовала еще третья комната, но, наверное, нежилая, иначе Буш повел бы меня туда. «А про белье он забыл», – подумал я. В углу стоял фикус в кадке, а в землю вокруг растения были часто натыканы заостренные палочки.
– Это зачем же?
– Что?
– Частокол этот. – Я ткнул пальцем.
– Чтобы кошечка не ходила, – деликатно объяснил Генрих Осипович. – А то она повадилась туда ходить, проклятая.
– Вы вообще один живете? – помолчав, спросил я.
– Один. Жена умерла. Дети разъехались.
– Много детей?
Он часто поморгал.
– Двое. Два сына. Совсем уже взрослые. Чужими стали.
К нам вошла Ищенко, шурша платьем.
– Мужчины соскучились?
– Очень!.. Между прочим, хорошая книга. – Я кивнул на Стендаля.
– А, «Красное и черное»? Вы тоже любите?
– Да.
– А помните, как Жюльен пришел убивать госпожу Реналь? – оживилась она. – Вы помните, он стоит с пистолетом за ее спиной и думает: «Нет, я не могу ее убить!» А потом она закуталась в шаль и стала как бы незнакома ему. Тут он выстрелил. Ах, как это психологически точно! Я шестой раз перечитываю.
– Да, да, – сказал я. – Ваша книга? – спросил я Буша.
– Я мало читаю, – чопорно ответил Генрих Осипович. Ему не нравилось, что мы так быстро нашли тему для разговора, в котором он не может принять участия.
– Я с собой привезла, – заметила Ищенко.
«Как странно! – подумал я. – Ее вызывают телеграммой, в которой сообщают о насильственной смерти мужа. Она спокойно собирает халатики, сумочки и еще берет книгу для чтения. Можно подумать: она знала о предстоящем и была готова к нему».
– Товарищи мужчины, давайте организованно к столу, – пригласила Ищенко. – Все готово.
– Не трудите зря ногу. Опирайтесь, – предложил Буш.
Мы прошли в соседнюю комнату.
Стол был сервирован с толком: разрезанные крутые яйца были украшены петрушкой, стояла в вазочке кабачковая икра, громоздилась тяжелая фарфоровая миска с двумя ручками – с салатом. Старый фарфор, отметил я. Была не забыта селедка, обсыпанная кружочками лука. Тут же сыр, колбаса. На блюде лежала какая-то рыбка, в ржавом горчичном соусе, по-моему, это была маринованная минога – деликатес даже для Прибалтики. Все это напоминало старый голландский натюрморт. «Интересно, сколько получает Буш на фабрике?» – подумал я. Ножи и вилки лежали парами на специальных стеклянных подставках, отражавших люстру под потолок, – ее зажгли, хотя еще был день. А в высоком бокале топорщились бумажные салфеточки.
– Ого! – воскликнул я. – Вы устроили целый пир! Мне просто неудобно.
– Чем богаты, тем и рады. Садитесь. – Буш энергично потер руки. – Водочки?
– Не пью, – сказал я.
– То есть как?
– Совсем не пью.
– Ни вот столечко?
– Тренер запрещает. Если можно, мне томатного соку. Я им и чокаться буду.
– Жаль, – сказала Ищенко.
– За ваш геройский поступок сегодня, – сказал Буш.
– Который привел к такому чудесному знакомству! – подхватила Ищенко.
Я скромно промолчал, только привстал, чтобы чокнуться. Буш выпил. И Клавдия Ищенко выпила. Стопку она держала, оттопырив мизинец.
– Ха-арошо! – сказал Буш, отдуваясь. – Лучшее лекарство от всех волнений жизни.
– Да уж! – сказал я. – Лечит так лечит. Было бы только что лечить.
– Вы-то молодой. У вас все еще впереди.
– Так точно. А что именно впереди?
– Всякое, – сказал Буш. Помолчал и помотал в воздухе растопыренной пятерней. Потом туманно пояснил: – Жизнь, одним словом.
– Но жизнь прекрасна и удивительна, как говорят классики! – воскликнул я, внутренне поморщившись. – Читайте классиков!
Он вздохнул, опять разлил. И опять Ищенко выпила с ним. Довольно лихо это у нее получалось: даже у Генриха Осиповича недовольно дрогнули щечки.
– Sie nehmen eine Festung nach der anderen, как сказал бы немец, – любезно ввернул я. (Вы берете одну крепость за другой (нем.).)
Глупо, конечно, было надеяться, что Кентавр будет выпячивать свое знание немецкого языка, но на всякий случай я вставлял немецкие фразы, где мог. Кентавр отлично владел немецким. Я тоже. Это была одна из причин, почему выбор пал на меня, а не на Ларионова: он лучше знал английский, чем немецкий.
– А что это значит? – поинтересовался Буш. Я перевел.
– Вы немецкого совсем не сечете? – спросил я.
– Откуда же? Я институтов не кончал, в инженеры вышел самоучкой, – грустно сказал Буш.
Мне вдруг стало как-то неудобно. Я ставил ловушки этому пожилому человеку и притворялся, будто у меня страшно болит нога (на самом деле она только слегка саднила). А Буш мог быть совсем ни при чем. «Но я не имею права на это чувство неловкости», – подумал я. «Я буду очень рад, если убийца не он», – опять подумал я. Но ведь есть же какая-то вероятность? Есть. Поэтому я и сижу здесь. Почему Буш так странно вел себя на допросе?
– Мой покойный супруг болтал по-немецки как немец, – сказала Клавдия Ищенко. – К нам приезжала делегация из ФРГ, так он им все переводил.
– А где он изучал язык?
– Нигде. Просто он жил до войны здесь, в Прибалтике.
– Здесь – в этом городе? – спросил я.
– Да. И в других местах тоже.
– Мне очень нравится Прибалтика. Вы, наверное, часто сюда с ним приезжали?
– Он не любил сюда ездить, – как-то надменно сказала Клавдия Николаевна; она уже заметно опьянела. – Он был труслив, как заяц, скуп и скучен. Он всю жизнь чего-то боялся. Во всяком случае, ту часть жизни, которую прожил со мной.
– Вот странно! Чего ж он мог бояться?
– Не знаю. – Она вдруг как-то сразу стала старше и теперь выглядела на все свои сорок лет. – Он боялся и меня. Вообще хватит о нем! Я выскочила за него, когда мне было двадцать два, а ему – четыре десятка… Тогда он казался мне настоящим мужчиной.
Буш молчал, моргал и хмурился. Интересно: как отличалась характеристика Тараса Михайловича Ищенко, данная на допросе Бушем, от того, что говорила о нем сейчас Клавдия Николаевна!
– А вы немецкий хорошо знаете? Изучали? – не очень ловко перевел разговор Буш.
– И сейчас учу в институте, – объяснил я.
– По какой же специальности будете?
– Буду-то? Инженер-энергетик.
Как раз из этого института я ушел по комсомольской путевке на работу в наш отдел. Про отца я помнил всегда, но узнал подробности его гибели, когда учился на четвертом курсе. Пепел Клааса стучал в мое сердце? Нет. Просто я понял, что должен сделать свой взнос в борьбу с фашизмом, в которой участвовал мой отец.
– Сюда на отдых?
– Не совсем, – сказал я. – Хочу оформиться, пока каникулы, матросом в сельдяную экспедицию. Мне деньги нужны: на одну стипендию не проживешь, да и одеться прилично хочется… Сами понимаете. Девочку там в кино сводить… Но, говорят, трудно устроиться.
– Устроиться – что! Надо ждать, пока визу откроют.
– Во-во!
– Значит, деньги нужны? – раздумчиво сказал Буш.
– Да, – сказал я. – Прямо задыхаюсь.
– Пошли! – сказал он, вылезая из-за стола. – Ах да, у вас же нога… Слушайте, мой сосед наверху, – он ткнул пальцем в потолок, – его фамилия Суркин, он работает в рыбном управлении. Он кое-что может. Сейчас я к нему поднимусь.
И Генрих Осипович исчез за дверью, зачем-то включив по дороге еще одну лампу – на журнальном столике.
– И так хорошо! – запротестовал я вдогонку.
– Пусть, – сказала Клавдия Ищенко, подвигая свой стул ко мне. – Какие у тебя чудесные ямочки на щеках, Карик! Просто прелесть!
– Меня зовут Боря.
– Ах, простите, у меня есть знакомый в Новосибирске – Карик. Я привыкла к нему и теперь по привычке назвала вас так.
«Наведем справочки», – мелькнуло у меня в голове.
– Вообще-то ты похож на скандинава. Цветом волос и сложением.
– Я живу в Москве, – невпопад сказал я. И отодвинул стул, потому что вовсе не хотел, чтобы Буш смотрел на меня косо, когда вернется. Но и с Клавдией Ищенко ссориться было нельзя. «Положеньице!» – подумал я.
Когда планировалась эта операция, предполагалось, что придется иметь дело как с приезжими, так и с местными жителями, а потому студент должен быть приезжим сам. Почему именно из Москвы? Московский студент боек и общителен – это раз. Во-вторых, москвичи занимают в какой-то мере привилегированное положение – жители столицы! – и к ним относятся с большим уважением, значит, легче заводить знакомства.
– Ах, Москва! – сказала она. – Театры, концерты! Как я мечтала о жизни в столице!
– Не получилось?
– Все мой Ищенко! Искал тихой заводи, говорил: в Москве люди слишком на виду. И чего боялся?.. Ну ладно! Теперь я свободна. Как птица. Куда захочу, туда полечу! Или я уже стара? – спросила она с горечью.
– Вы прекрасно выглядите, – сказал я.
– А ты действительно ничего парень. Давай выпьем на брудершафт.
– Придет Генрих Осипович – и выпьем… Вот вы Стендаля любите, а литературу – вообще?
– Обожаю! Знаете, я скажу вам, в детстве я мечтала стать писательницей.
– А кем стали?
– Кем? Домработницей у мужа! – горько отрезала она.
И опять ясно обозначились у нее на лбу две морщины-трещинки: печать совместной девятнадцатилетней жизни с Тарасом Михайловичем Ищенко.
– «Шанель»? – спросил я; от нее шел сладковатый запах духов.
– Что?
– Вы употребляете «Шанель»?
– Ах это? Да, мне достали по знакомству один флакончик. Люблю шик!
– Дорогие духи, – заметил я.
– Плевать! Выпьем?
– Подождем все-таки Генриха Осиповича.
– Да? – сказала она капризно. – Мужская солидарность?
И встала, отошла к приемнику: стала крутить ручку настройки.
Вошел Буш, кинул быстрый взгляд сначала на нее, потом на меня и сказал:
– Странно что-то! Никого у них нет. Понятно, она сейчас гостит у родных на Смоленщине, но Суркин? Не пришел еще с работы? Уже шесть, он в это время всегда бывает дома. Очень странно, – опять повторил он.
– Шесть? – переспросил я. – Так мне пора собираться. Извините, что нарушаю компанию. Было очень хорошо. – И я встал: я хотел застать своих соседей по номеру, пока они не исчезли куда-нибудь на весь вечер.
– Ну вот еще! – Буш замахал руками. – Посидим, посидим еще! Выпьем! Ах да, вы не пьете. Клавочка, что же вы, наш гость заскучал?
– Генрих Осипович, – я слегка понизил голос, – мне, право, неудобно, у меня свидание, понимаете, я тут познакомился с одной… м-м… девушкой.
Буш уставился на меня. Я скорчил ему физиономию, которая должна была означать, что я продувная бестия. Он, по-моему, даже обрадовался.
– Вас понял. Снимаю все возражения. И вот что: с Суркиным я обязательно поговорю. Сегодня же. А вы завтра зайдете к нему на работу, вот адрес. – Он взял
с серванта карандаш и стал писать на бумажке. – Слушайте, а как же вы сегодня с больной ногой на свидание пойдете, а?
Об этом я забыл. Видно, мне придется прихрамывать весь вечер: вдруг еще столкнусь с Бушем. Хотя сегодня он уже, кажется, не выберется из дому.
– Вроде лучше стало, – сказал я и сделал несколько пробных шагов по комнате, припадая на «больную» ногу. – Видите!
– Отлично, – сказал Буш. – Вы ведь спортсмен, Боря? Идемте, я вас провожу.
– Всего хорошего, Клавдия Николаевна, – попрощался я.
– Желаю удачи, – ответила она, не отрываясь от приемника.
Буш открывал двери и пропускал меня вперед. Мы остановились с ним в прихожей, не внутренней, с зеркалом, а там, где была лестница.
– Слушайте, – сказал Генрих Осипович, вертя пуговицу на моей рубашке, – если вам нужны взаймы деньги, то я всегда готов. Я вам очень, очень обязан…
Я случайно поднял глаза вверх. На втором этаже, там, где деревянная лестница кончалась и образовывала балкончик, была приотворена дверь: оттуда на меня кто-то глядел. Я отвел взгляд. Горячо сказал Бушу:
– Конечно! Большое спасибо! Но пока у меня есть.
– И держите со мной связь, одному в чужом городе плохо. Вы в гостинице остановились?
– Да.
– В каком номере?
– В триста пятом.
– Вот это совпадение! – Буш внимательно поглядел на меня, поморгал.
– А что?
– Да ничего… Заходите ко мне почаще. Я бы пригласил вас остановиться у себя, но сами видите… – Он хихикнул. – Да и старик я, какая вам компания!.. Но, может, Клавочка вас развлечет? Заходите!
– Она разве не собирается уезжать? Домой?
– Пока нет. Хочет прийти в себя как-то, позагорать. Вы не думайте, она очень переживает.
«А мне-то зачем врать? – подумал я. – Или ему просто неудобно за нее?»
– Спасибо. Буду заходить.
Я снова мельком взглянул на лестницу, там никого не было. «Суркин похож на сурка, – машинально подумал я. – Интересно, где он был во время убийства?»
Глава 7 КОМАНДИРОВАННЫЙ ИЗ САРАТОВА
Я вошел в номер уже не такой бодрый, как утром: немного устал. По-прежнему парило. Но теперь над городом зашла краем клубящаяся туча. Через минуту мог брызнуть дождь – погода в Прибалтике меняется всегда внезапно. «Километрах в пяти уже, наверное, льет», – подумал я. Мне повезло: оба соседа были в комнате. Войтин взбивал помазком в чашке мыльную пену – собирался бриться.
– Я смотрю, вы возвращаетесь к цивилизованной жизни, – заметил я.
– Смотри, смотри, студент, – пригласил Войтин. – Учись. Науки юношей питают.
Марлевые занавески, которые утром летали на сквозняке, были раздернуты и привязаны тесемками к гвоздям в оконной раме. Прикреплять занавески было не в характере моряка. Скорее всего это сделал второй сосед. Сам он лежал сейчас животом на подоконнике и смотрел на площадь. Я подошел к окну, тоже поглядел и громко сказал:
– Гроза как будто собирается.
Сосед выпрямился. Он был аккуратен, волосы гладко причесаны и, кажется, смазаны бриллиантином, в очках (он стоял так, что в стеклах отражалось грозовое небо, и глаз не было видно), среднего роста. Он сказал тихим голосом:
– Очень вероятно.
И представился, слегка поклонившись:
– Пухальский, Николай Гаврилович.
Он был четвертым из тех, что пока интересовали меня.
– Ich Begruesse Sie in diesem schotnen Haus. Ich heise Boris Waraxin, – шутливо сказал я. Просто так сказал. Потому что вряд ли он мог быть причастным к событиям 44-го года: ему тогда было 19 лет. (Приветствую вас в этом прекрасном доме. Меня зовут Борис Вараксин (нем.).)
Он слегка удивился. Поднял жиденькие брови над золотой оправой.
– Sehr angenehm, Herr Waraxin, – ответил он. (Очень приятно, господин Вараксин (нем.).)
– Verzeihen Sie, das ich deutsch spreche… Das ist nur ein Versuch… Im nachsten Jahr habe ich Staatsexamen, und mir fehlt Praxis. (Извините, что по-немецки… Это только попытка… На будущий год у меня госэкзамен, и я стараюсь больше практиковаться (нем.).)
– Praxis ist das wichtigste fur die Sprach – beherrschung. (Разговорная практика – первое условие для успешного овладения языком (нем.).)
– Ну и произношеньице у вас, позавидовать можно, – после маленькой паузы сказал я. – Настоящий берлинский диалект!
– Я служил после войны в Берлине, – по-прежнему тихо сказал он.
– А воевали?
– Чуть-чуть, в конце войны.
– Наверное, училище кончали? – догадался я.
– Нет, я был до сорок четвертого года на оккупированной территории.
Это мы знали сами: из его анкеты, затребованной из Саратова. В армию он попал в Карпатах (из тех мест, кстати, был родом Тарас Михайлович Ищенко), а что делал Пухальский до этого, в настоящее время проверялось. Меня интересовал ряд вопросов, которые я бы охотно задал своим соседям по номеру. Например: откуда в кармане убитого взялся черный слон, – он не давал мне покоя. И один из них должен был знать это.
Но трудность нашей работы состоит в том, что прямые вопросы не имеют смысла, пока он не обнаружен. До этого они чаще всего приносят вред. Кто враг, кто друг, было пока неясно. Значит, будем ходить вокруг да около.
– Партизанили, наверное? – спросил я с уважением.
– Нет.
– По годам не вышли?
– Нет.
Я спросил: почему же тогда? Он сказал, что я странный человек и что если б я был под немцами («…а вам просто повезло во многих отношениях, в том числе и в смысле возраста»), то не задавал бы таких вопросов. Там все было по-разному, и далеко не все участвовали в борьбе. Он покашлял в кулак.
– Значит, труса праздновали! – брякнул д.
Я хотел вызвать его на спор, потому что в споре не только рождается истина, но и познается собеседник. Кроме того, мне показалось, что тихому Пухальскому по закону контрастов должны нравиться настойчивые люди. А я хотел понравиться ему. Но он вроде согласился со мной.
– Возможно. Меня, например, насильно мобилизовали тогда в полицию, я несколько месяцев служил, а потом бежал.
– К нашим?
– В другой район.
– Так надо было к партизанам бежать! – гнул я свою линию.
Но он снова поддакнул:
– Наверное, надо было.
А Войтин молчал. Хотя, мне казалось, он должен был вмешаться в этот разговор. Он сосредоточенно водил бритвой по щеке, не отрывая глаз от зеркала. В комнате было еще светло, но бриться стало труднее. Он молча прошел через всю комнату и включил верхний свет, – в черном пластмассовом приемничке на столе, который все время что-то бубнил, раздался короткий сухой треск. Войтин вернулся к зеркалу.
– А вы бы ушли? – вдруг спросил меня Пухальский.
– Куда?
– В лес к партизанам?
Я немного подумал.
– Да. Хотя… – я еще помедлил, – вообще-то вы правы: тогда, наверное, все было гораздо сложнее, чем кажется сейчас.
– Вот видите, – тихо сказал Пухальский.
Мне вдруг показалось, что он совсем не такой вялый, а, наоборот, твердый, упрямый человек. Он вынул гребешок и причесался, хотя в этом не было никакой надобности, – просто привычный жест. Он, судя по всему, следил за своей внешностью.
Приемничек на столе захрипел, и кто-то красивым голосом запел «Сережку с Малой Бронной».
Пухальский сделал погромче.
– Чудесная песня!
Мне она тоже нравилась, но я буркнул, продолжая играть роль:
– Сплошная сентиментальщина!
– Тю-тю, студент! – коротко сказал Войтин, на секунду оторвался от зеркала и покрутил указательным пальцем возле виска.
Но Пухальский вступился за меня:
– Что ж тут такого? Песня не может нравиться всем поголовно.
Войтин молча пожал плечами. Пухальский вернулся к нашему разговору:
– В те годы я был очень неуравновешенным юношей, слабым, с комплексом неполноценности, как теперь говорят на Западе.
– Но с годами это проходит? – опять задрался я.
– У кого как.
– По Фрейду, такой комплекс есть почти у каждого.
– Я с трудами Фрейда незнаком, только слышал о них.
– А что вы слышали?
Войтин кончил бриться и теперь собирал бритвенные принадлежности, чтобы идти в туалет мыть их. Все-таки, он, наверное, раньше боялся порезаться, потому что теперь заговорил:
– Тебе бы в милиции работать, студент!
– А что?
– Вопросов много задаешь.
Это было несколько рискованно, но я сейчас нарочно разыгрывал вариант не в меру назойливого и любопытного человека, потому что именно так не должен был бы вести себя работник следственных органов.
Пухальский внимательно взглянул на меня и сказал:
– Ну зачем вы обижаете товарища?
– Разве это обидно? – удивился я. – Моя милиция меня бережет. У меня кореш в Москве там работает, мировой парень. Или вы считаете это зазорным?
– Ни в коем случае! Я, наоборот, думал, что это вы так отнесетесь. То есть не думал, но ведь могло же быть такое, – путано сказал Пухальский.
– Нет! – решительно возразил я.
– Вот и чудесно! А я, знаете ли, перед вашим приходом любовался из окна на город: здесь только третий этаж, но под уклон, и поэтому открывается чудесный вид.
– Вы в первый раз здесь?
– Нет, – ответил Пухальский. – А как эта река называется? Которая течет по городу, вон там?
Я не знал. Войтин сказал, как она называется, и вышел, держа перед собой в руке бритвенный прибор. Полотенце он повесил на отставленный указательный палец, чтобы не испачкать в мыле.
– Наш сосед отлично знает город, – заметил Пухальский.
– Он когда-то жил здесь.
– А потом?
– Он вам ничего не рассказывал?
– Нет.
– У него было большое горе, и он до сих пор не справился с ним, – сказал я и, глядя на Пухальского в упор, добавил: – Какой-то подлец выдал его жену во время войны гестаповцам. Она была связной партизанского отряда.
– Да что вы!
Он снял очки в золотой оправе. Теперь он казался совсем беспомощным и растерянным: у него была сильная близорукость. Он вынул из кармана отглаженный платок, подышал на стекла и стал протирать их.
– Как была ее фамилия?
– Круглова. – Теперь пришел черед удивляться мне. – Вы знали ее?
– Откуда же? Просто на днях мне рассказали о гибели здешнего подполья. И показали, кстати, место, где был домик этой Кругловой: его сожгли немцы, сейчас там сквер.
– Где это?
– Улицы не знаю, а так, зрительно, помню. Я был в гостях у инженера с мебельной фабрики – я работаю по мебели и сюда приехал в командировку, – мы стояли с ним у окна, он рассказывал. Там еще присутствовал один старичок, некий Ищенко, он отошел и не стал слушать. Он сказал, что не любит жутких историй. Забавный старикан был! Между прочим, он жил как раз на вашем месте. Его стукнули какие-то хулиганы насмерть шесть дней назад.
«Еще одна версия», – отметил я про себя.
– Хулиганы? Какие? Поймали их хоть?
– Я ничего не знаю… А Ищенко был невредным человеком. Любил анекдоты и преферанс… Непьющий.
«Ага! – подумал я. – Значит, с Пухальским он тоже не хотел пить». Я поежился.
– Тут вечером-то на улицу не выйдешь, а?
– Его убили днем. По голове ударили.
– Может, сам упал и стукнулся?
– Нет, его убили.
– Казалось бы, такой тихий городок! – сказал я. – Древний, улочки каменные, и вообще…
– Никогда не верьте внешнему виду, – наставительно сказал Пухальский, надевая чистые очки. Спрятал платок в карман. Улыбнулся: – Вы еще очень молоды, Боря, разрешите, вас так называть, и у вас нет жизненного опыта.
– Что верно, то верно! – сказал я.
– Вы не обижайтесь. Это как раз тот недостаток, который исправляется с годами. Простите, вы курите?
– Курю. Но… – я похлопал себя по карманам, – на данном этапе ничем не могу быть полезен.
– Вот досада! Так курить хочется, а купить забыл. Придется идти вниз.
– Так сейчас вместе пойдем. А что он рассказывал про подполье, этот инженер?
– Кто? Ах, Буш этот!
«Ого!» – подумал я.
– Он сам почти ничего не знает. Он говорит, что поселился здесь в сорок восьмом году, а всю эту историю ему пересказал сосед, который живет над ним.
«В этом деле явно не хватает Суркина, – подумал я. – Все идет к тому». И спросил:
– А сосед партизанил?
– Не знаю. Он чудак какой-то. Когда мы выходили от Буша вместе с Ищенко, он спокойно сидел на скамеечке и дымил папиросой. Потом увидел нас, вдруг бросил папиросу, схватился за скулу и отвернулся. Мы отошли шагов на двадцать, я оглянулся: он пристально смотрит нам вслед и за щеку уже не держится.
– Пьяный? – предположил я.
– Скорее человек с расстроенной психикой.
– Ну, может, он уже сидит в сумасшедшем домике. Давно это было? – равнодушно спросил я.
Пухальский поднял глаза к потолку.
– Второго числа, – вспомнил он.
«Ищенко увидел Суркина второго, – подумал я. – Третьего числа он с кем-то встретился. Пятого убит. Цепочка? Может быть. Если только Буш не придумал зачем-то насчет третьего числа».
Тут вошел Войтин; он был чисто выбрит и казался намного моложе, чем утром. Он повесил полотенце на спинку кровати, расправил его. Потом налил в ладонь одеколону – по комнате разошелся щекочущий ноздри запах – и, зажмурившись, плеснул себе в лицо. Интересно, куда он собрался? Я-то думал, что к концу дня он будет пьян в лоск.
– На танцы? – спросил я.
– Ага. Гопак плясать буду.
«И еще интересно, – подумал я, – зачем ему утром был нужен автобус?»
– А по правде?
– По правде, по правде, где она, правда? – проворчал он. – Надоело в номере валяться и польки по радио слушать, вот что! Пойду в кабак, посижу с людьми. Приглашаю.
– Спасибо, у меня свидание с девушкой.
– Вы? – обратился Войтин к Пухальскому.
– Я же не пью, вы знаете. Да и грех в такой вечер под крышей сидеть: жара спала, сейчас гулять хорошо.
– Тучи! – сказал Войтин.
– Хорошо для здоровья: ионов в воздухе много.
Я вдруг представил себе Пухальского маленьким, с ранцем за спиной. Наверное, в школе его звали для краткости «Пух». Во всяком случае, это подошло бы ему. «Эй, Пух, пошли в расшибалочку играть?» – «Мне мама не разрешает».
– У вас табачку не найдется? – спросил я Войтина.
– Я уже спрашивал, – сообщил Пух.
– Кончились, – сказал Войтин.
– Может, у покойника в тумбочке завалялись? Я еще ящики не смотрел.
– Он не курил.
– Жалко! Но какое совпадение: сразу у троих курево кончилось! Надо идти покупать.
– Меня не ждите, я еще буду гладить брюки, – сказал Войтин.
– Мы вам купим,
– Сам куплю, когда буду спускаться.
– Пойдемте, Николай Гаврилович?
– Да-да, сейчас.
– Накиньте пиджачок, если потом гулять собираетесь: погода ненадежная, вот-вот хлынет дождь, – посоветовал я.
Он вдруг почему-то смешался. Или мне показалось?
– Я так пойду.
– Слушайте, правда, где ваш пиджак? – спросил Войтин. – Вы каждый вечер в нем ходили, а теперь я его не вижу.
– Забыл где-то.
– То есть как где-то?
– На пляже.
«Странно! – подумал я. – Пиджак – все-таки вещь дорогая, а он даже не пожаловался: забыл, и все». Я почему-то вспомнил, что убитый Ищенко на фотографии был в пиджаке. Днем, в жару?
– А как здесь с погодой? – спросил я.
– Очень жарко! Может, за десять дней первый раз дождь намечается, – быстро ответил Пух. И, мне показалось, даже облегченно вздохнул оттого, что я сменил тему разговора. – Идемте?
– Счастливо провести вечер, – пожелал я Войтину
Он не ответил.
Мы прошли коридор и стали спускаться по лестнице. Пух шел первым. Одного из прутьев, державших ковровую дорожку, не было, и ковер поехал под ногами. Пух чуть не упал. Я успел ухватить его за руку выше локтя. Он был в плотной, слегка великоватой ему рубашке, и трудно было сказать, крепкого ли он сложения, а тут я ощутил под пальцами литую, тренированную мышцу, как у боксера-перворазрядника. Я никак этого не ожидал. Я вспомнил «рабочую» характеристику Кентавра: «В совершенстве знает немецкий язык, крепок физически, любит выпить…» Нет, этот не любит. И я сказал:
– Ого, у вас прямо чемпионские бицепсы!
– Я занимаюсь гантелями, – тихо ответил Пух (нет, все-таки Пухальский!). – У меня слабое от природы здоровье, я его укрепляю. Да к тому же оно расшатано неумеренностью.
– В каком смысле?
– В вашем возрасте я любил заглядывать на донышко, – самодовольно сказал Пухальский. – Я пил, простите, как лошадь!