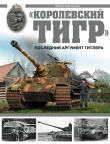Текст книги "Человек в проходном дворе"
Автор книги: Дмитрий Тарасенков
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 14 страниц)
Глава 29 «ВЫШЛИ В ЦВЕТ»
Когда я проснулся, Войтин уже был одет.
– Не спится? – спросил я, опуская ноги на пол.
– Я ранняя пташка, студент.
– Морская привычка?
– Во-во. Моряк без моря.
– Слушайте, а вы в высшие инстанции обращались?
– Насчет чего?
– Когда вас на берег списали.
– Как же… Разбил чернильницу на столе начальника управления экспедиционного лова.
– А результат?
– Он сказал, что такие вопросы решает отдел кадров. Он доверяет своим работникам. И что лично он считает: у моряка должны быть крепкие нервы, а бить чернильницы в кабинете начальника – распущенность.
– Суровый мужик.
– Куда там!
– Теперь вы должны на берегу работать? В порту?
– Должен… Я расчет взял.
Тут я заметил, что он как-то лихорадочно возбужден. Уже «зарядился»? Непохоже.
– Вы выглядите неважно.
– А, – он мотнул головой.
– Нет, серьезно. У вас лицо какое-то бледное.
– Что я тебе, барышня?
Проснулся Пухальский. На меня он не глядел. Когда Войтин осведомился, как ему спалось, он буркнул в ответ что-то невразумительное. Сдернул со спинки кровати полотенце и вышел.
– Что-то наш генерал не в настроении, – заметил Войтин. – Не с той ноги встал.
– Почему генерал?
– Держится солидно: брюхом вперед ходит… Зарядку свою он, между прочим, делать сегодня вроде не собирается. Из ряда вон.
– Сегодня понедельник – день тяжелый.
«Что-то сегодня все взбудоражены», – подумал я.
Было девять часов утра, а из открытого окна уже несло зноем. День обещал быть на редкость жарким. Я подождал, пока из туалета вернется Пухальский, потом пошел принял холодный душ. Надел чистую рубашку, спустился в вестибюль и вышел на улицу. До часа связи оставалось тридцать пять минут. Я вошел в телефонную будку за углом (автомат уже починили) и позвонил. Подошел Валдманис. Он поднял трубку сразу, как будто ждал моего звонка. «Есть что-нибудь новое?» – спросил я. «Да», – сказал он. И сообщил, что в результате проверки, которую я просил сделать, мы вышли на Кентавра. Кентавр под наблюдением. «Вышли в цвет, как говорят "клиенты" капитана Сипариса, – радостно гудел в трубке голос начальника горотдела. – Вы были правы. Я эту линию не принял всерьез, а вы рассчитали точно. Ювелирно точно…»
Я прислонился плечом к стене будки. «Давно все выяснилось?» – «Час назад». – «Обувь проверили?» – «Утром, когда он вышел из дому, устроили лужу возле бочки с квасом. Он наступил…» На сырой земле за контейнером для мусора в свое время был обнаружен четкий след. Он был под трупом Ищенко, поэтому его не затоптали. Его мог оставить только убийца, когда затаскивал труп; никому в голову не придет просто так лезть за контейнер, это был след взрослого человека. Обувь всех подозреваемых была проверена в начале следствия. Это ничего не дало… «Совпало со слепком?» – спросил я. «Совпало». – «Порядок, – сказал я. – Порядочек». – «Вам пришло сообщение из республиканского комитета. Ларионов, судя по всему, провернул громадную работу. Старался выяснить, не связан ли Кентавр в настоящее время с иностранной разведкой». – «Ну?» – «Похоже, не связан». – «Значит, берем сегодня». Мы обсудили детали. «В одиннадцать машина будет там», – уточнил Валдманис. Я сказал, что подойду к горотделу в пол-одиннадцатого – это рядом, от горотдела пойдем пешком – и повесил трубку.
«Так, – сказал я себе. – Та-ак, сеньор Вараксин». И стал насвистывать. Мне хотелось заорать во весь голос, или пройтись на руках по тротуару, или отколоть еще какую-нибудь штуку. «Спокойно, старший лейтенант, – сказал я себе. – Еще спокойней. Это чисто нервное. Сейчас пройдет».
Я вернулся в гостиницу и едва избежал встречи с Иваном Сергеевичем. Увидев его, я встал за колонну. Он меня не заметил и прошел в свою комнату. Он вовсе не походил на седоусого юнкера, хозяина гостиницы, который на момент возник в моем воображении в день приезда. Я стал подниматься по лестнице. «Не ушел, – думал между тем я. – Не ушел, подлец. И не мог уйти. Странную ему дали кличку: Кентавр. Человек с туловищем коня».
В коридоре я столкнулся с Пухальским. Он молча посторонился. Я вошел в номер и сел на подоконник. Внизу, возле входа в гостиницу, бродили по асфальту голуби. Когда Пухальский вышел, они взлетели. А человек в серой кепке, надвинутой на глаза (он сидел неподалеку на бульваре), поднялся и пошел в ту же сторону, что Пухальский. «Хватит вам заниматься темными делишками, гражданин Пухальский, – подумал я. – Хорошего понемножку».
– Передай газетку, я почитаю, – попросил Войтин. Он лежал, закинув ноги в туфлях на спинку кровати.
– Пожалуйста.
– Слушай… – сказал он и замялся.
– Что?
– Нет, ничего.
И опять мне показалось, что он какой-то странный сегодня: как будто его бьет озноб. Глаза у него лихорадочно блестели.
– Питаться пойдете?
– Нет. Не хочу. Есть не хочется, а то бы пошел.
– На нет суда нет.
Я снова спустился вниз и побрел по бульвару. Это было теперь труднее всего: протянуть время до одиннадцати часов. На другой стороне я увидел книжный магазин – он был уже открыт – и зашел. Я люблю копаться в книгах. «Ты как Карл Маркс», – обычно иронизирует по этому поводу Тамара. В магазине царила полутьма, пахло клеем и типографской краской от новых книг. На прилавке лежал Катаев – «Маленькая железная дверь в стене», последняя повесть Бакланова, стихи А. Имерманиса. Все это я уже купил дома. Я взял сборник рассказов Льва Толстого: там были «Холстомер» и «Отец Сергий».
В кафе, ожидая заказа, я листал книгу. Меня всегда поражало в «Сергии» то место, когда бывшему блестящему красавцу офицеру, а теперь нищему лысому старику, проезжие подают милостыню. Они говорят между собой по-французски – о нем, он все понимает, а делает самое простое: берет двадцать копеек. Всю жизнь он боролся со своей гордыней. Всю жизнь обманывал себя. А теперь не только все понял рассудком, но и стал другим: ясным и кротким человеком. «А Войтин тоже горд, – почему-то подумал я. – Очень горд…»
Вернувшись в гостиницу, я поднялся на второй этаж. Сегодня дежурила Быстрицкая. Она слегка смутилась, увидев меня.
– Раечка, привет! – сказал я, устраиваясь на диванчике рядом с ее столом. – Я вам подарок принес.
– Мне? Ой, спасибо! А какой?
– Вот. – Я протянул ей Толстого.
– Спасибо большое, – сказала она не особенно уверенно.
– Сейчас что! Скажете, когда прочтете.
– Прочту обязательно. Как ваши успехи, товарищ детектив. Хм!
– Насчет Ищенко-то? – переспросил я.
– Да.
– Обдумал ваше сообщение, товарищ Рая Быстрицкая.
– И?
– Ничего не могу понять.
– Может, тот его из-за долга убил?
– Может быть. А с Семеном вам надо быть честной. Он, мне кажется, всерьез любит вас.
– Да? – сказала она и поправила прядку на лбу.
– Да.
– Но он такой ску-учный. Сидит, молчит все время.
– Эх, Раечка! – сказал я. – Погубят вас трепачи.
– Не погубят. Я хитрая.
Сегодня она была совсем в другом настроении, чем вечером. Ох, женщины, женщины!
– Дай-то Бог!
– Вы сейчас на Ищенко очень похоже сказали. Между прочим, он, по-моему, в Бога верил.
– С чего вы взяли? – спросил я. Для следствия уже не имело значения: верил Ищенко в Бога или нет. Но мне было просто по-человечески любопытно.
– Когда он спешил на то свидание, мы проходили мимо церкви. У нас тут только одна православная, остальные для католиков… Так он на нее перекрестился.
– Напрасно, – сказал я. – Наукой доказано, что Бога нет. Есть мы – люди…
Когда я поднялся в номер, Войтина я уже не застал. Он ушел.
Глава 30 КЕНТАВР
Было двадцать минут одиннадцатого, когда я вышел из гостиницы «Пордус». Небо над черепичными крышами побелело от жары. Ни малейшего дуновения ветерка не чувствовалось на бульваре. Город вымер.
Совсем недавно, в такой же вот светлый и жаркий день, по времени приблизительно через полчаса, был убит Тарас Михайлович Ищенко. Сегодня через час его убийца будет сидеть напротив следователя по другую сторону стола и отвечать на положенные вопросы:
«Ваша фамилия? Имя? Отчество? Год рождения?..» И он будет просить разрешения закурить. Или он не курит? «Курит», – вспомнил я.
Идти на задержание мне было совсем не обязательно: ребята Валдманиса отлично справились бы без меня. Но это был логический конец моей работы здесь, и мне было приятно самому поставить точку.
На первый взгляд казалось, что возле горотдела никого нет. Но в скверике напротив подъезда сидели несколько человек. Среди них я узнал Виленкина и младшего лейтенанта Красухина. Когда я подошел, все не торопясь двинулись по переулку. От подъезда отделился Валдманис и на ходу пристроился ко мне.
– Порядок? – спросил я, глядя перед собой.
– Да. За ним следует машина радзутского горотдела. Передадут нам с рук на руки.
– Не опаздываем?
– Нет, нормально… Буш сделал заявление, что анонимное письмо написал он.
– А где второй экземпляр?
– У него.
Я покрутил головой.
– Человек типа «а вдруг?» – пояснил Валдманис. – Потому так вел себя на допросе.
– А почему он решил, что убийца Суркин?
– Тот был взволнован, когда увидел Ищенко в гостях у Буша. Странно вел себя. Утром расспрашивал Буша об Ищенко. Потом «протек» на Буша. Он не сразу вернулся домой в тот злополучный день. Буш столкнулся с ним у крыльца. «Где пропадали?» Суркин растерялся, сказал, что только что вышел из дому. Но Буш же к нему стучался… Потом Буш узнал на допросе, когда Ищенко был убит, и сразу подумал о Суркине.
– Почему сам не пришел?
– Говорит: «Береженого Бог бережет. Таскали бы потом на допросы…»
– Клавдия Ищенко, конечно, об анонимке не знала?
– Нет. А про кастет он не подозревал. Совпадение.
– Ясненько, – сказал я.
Мы свернули в переулок. Мы оба были напряжены и вздрогнули, когда на башне тевтонского замка часы пробили без четверти. Потом взглянули друг на друга.
– Фамилия у него, конечно, чужая, – сказал я.
– Вероятно, – сказал Валдманис.
Мы помолчали.
– Знаете, я вам завидую, – сказал Валдманис. – С мальчиком. Насчет близорукости.
– У меня был товарищ в школе, – пояснил я. – Ему как-то удалось миновать врачебные осмотры. Он до четвертого класса был уверен, что все люди видят предметы, как он сам: такими же расплывчатыми. А когда первый раз надел очки, остолбенел от удивления.
Мы снова повернули и пересекли круглую площадь.
– Сюда, – сказал Валдманис. – Здесь ближе.
– Знаю я этот двор, – проворчал я. – Я здесь каждый сантиметр облазил.
Мы свернули под арку. «Так же и Ищенко сворачивал в тот раз, – машинально подумал я. – У него, наверное, сильно билось сердце».
Впереди за углом послышались какое-то топтанье, возня: звуки множились в гулких стенах. Раздался короткий сдавленный вскрик. Мы бросились вперед. За поворотом на земле, сцепившись, катались двое. Еще один человек бежал с другой стороны.
– Янкаускас, – сквозь зубы сказал начальник горотдела. – Он ждал на остановке… Ни черта не понимаю!..
Но я уже понял. Ах, Войтин, Войтин! Он все хотел сделать сам.
Противникам удалось подняться. Они сделали это одновременно. У бывшего помощника капитана рыболовного траулера Войтина текла по лицу кровь. Но он держался молодцом. Даром, что его противник был, судя по всему, намного сильнее: ему ведь не надо было глушить отчаянье вином, как это ежедневно делал Войтин. Но Войтин висел на нем, как клещ. Тот не мог размахнуться для удара. Все это я машинально отмечал, подбегая. «Быстрее. Еще быстрее», – думал я. Но мы опоздали. Увидев нас, тот, второй, изловчился и ударил Войтина коленом в низ живота. Войтин упал. Он лежал, скрючившись, на земле. А тот выпрямился. Это был плотный лысый человек в синей холстинной куртке: он водил радзутский автобус. Владимир Пантелеймонович Черкиз. Вчера я прикуривал у него на остановке.
Мы еще не успели вмешаться, а только как бы ненароком стали в круг: в центре круга лежал Войтин и стоял шофер. Он выставил правое плечо вперед и прыгнул между Виленкиным и Красухиным. Виленкин подставил ногу. Шофер споткнулся, его перехватил Красу хин.
– Ну что вы, ребята, вяжетесь? – плаксиво завел шофер. – Ну, подрались мы, это наше дело, верно? Я его стукнул, а он меня: гляди, кровь идет. Я в больницу побегу. Пустите! А то милиция ведь прицепится, по судам затаскают. Пошли, я угощу. Ребята, а?
– Вы, может быть, человека убили, – сказал Красухин, кивнув на лежащего без движения Войтина.
– Und uеberhaupt, machen Sie keine Dummheiten, Zentaur, – сказал я. (И вообще, не валяйте дурака, Кентавр, (нем.).)
Он дернулся. Наверное, двадцать с лишним лет назад нервы у него были лучше: он был молодой и сильный. В этот момент на руках у него защелкнулись наручники. Начальник горотдела облегченно вздохнул и вынул руку из кармана.
– Янкаускас, подгоните машину, – приказал он тому, что подбежал с другой стороны. – Что случилось?
– Автобус пришел не по расписанию. На десять минут раньше. Он всю дорогу гнал как сумасшедший. («Ага, – вспомнил я. – И это не в первый раз…») А потом он стоял здесь за углом и ждал. Моряк шел с той же стороны, что и вы, – из центра города.
– Я ничего не знаю! – закричал шофер фальцетом. – Пустите меня! Вот суки! Пустите… Гра-абют!
– Тихо! – сказал начальник горотдела. – Не пугай, а то мы испугаемся.
– Вы в этом дворе потеряли кастет, Кентавр. Пятого числа. Вы же не могли его бросить нарочно – никелированный кастет с дубовым листком. Он выпал через дыру в кармане куртки. А сзади слышались шаги, у вас нервы сдали…
«Я очень многословен», – подумал я. И попросил:
– Проверьте, пожалуйста, Красухин.
Он вывернул карман синей холстинной куртки.
– Заплата, товарищ старший лейтенант. Карман замаслен, а она чистая.
Я не почувствовал никакого удовлетворения. Наоборот. Прошло напряжение, и на меня навалилась усталость. Я взглянул на часы. Было без трех минут одиннадцать. «Сейчас бы снова душ принять», – как-то отстраненно подумал я.
Подъехала оперативная машина.
Черкиза сунули в нее.
Войтин, над которым хлопотал Виленкин, зашевелился. К нему наклонился Валдманис.
– Все в порядке, – сказал Валдманис. – Порядок. Почему вы ничего не сказали нам, Войтин?
– Сам хотел, – сквозь зубы ответил Войтин.
– Что же вы собирались делать дальше?
– Бить этого негодяя. Долго-долго бить. А потом сдать вам.
– Голубчик, это же мальчишество.
– Знаю, – сказал Войтин, поморщившись. – Но я хотел видеть его страдание… Понимаете, физическое страдание.
– Ищенко знал вашу историю? – помедлив, спросил Валдманис. – Вам не трудно говорить?
– Нет. Он не знал.
– Как вы вышли на Кентавра?
– Какого Кентавра?
– Ну, этого. – Валдманис кивнул в сторону машины.
– Записка.
– Которую разорвал Ищенко? – быстро спросил Валдманис.
– Да. Мы вместе выходили утром из гостиницы, и я запомнил, куда он ее бросил. В траву за скамейкой. Я тогда ничего не подумал. Но когда узнал об убийстве, решил найти и отдать вам. Дождя не было. Она не пострадала. Я собрал обрывки…
– В записке стояла фамилия?
– Ищенко не дописал записку. Там было, что человек, выдавший подполье, работает шофером на радзутской линии. Я стал встречать автобусы. Даже ездил в Радзуте. Я никого не расспрашивал: хотел наверняка.
– Как вы попали сегодня сюда?
– Шел на площадь… Когда я понял, что это Черкиз: возраст, работал в день убийства, настороженность такая, знаете, – я завел с ним окольный разговор. Намекнул, что знаю кое-что о его прошлом…
«Представляю, как наивно это выглядело», – подумал я.
– Предложил встретиться, обстоятельно поговорить. Он согласился. Он сказал: «На площади. Потом на бульвар пойдем посидим. Я, – говорит, – не понимаю, чего ты имеешь в виду, но отчего не покалякать».
– Понятно, – сказал Валдманис. – Один момент мы подозревали в убийстве Ищенко вас. Чтобы спуститься в ларек за папиросами, нужно три минуты, вы отсутствовали двадцать.
– Внизу «Беломор» был сухой. Табак высыпался. Я прошел до следующего ларька… Я на всякий случай оставил вам письмо. В чемодане. На адрес КГБ. Вы ведь КГБ?
– Да, – сказал Валдманис. – Только хорошо, что не случился этот «всякий случай». Вам повезло.
– Ничего, я сам, – кряхтя, сказал Войтин, отпихивая Виленкина, который поддерживал его.
– В машину его, – тоном приказа сказал Валдманис. – Доставите в больницу. Мы пойдем пешком. – Он взял меня под руку.
– Кстати, вы выяснили, почему пятого сменщик просил подменить его? – несколько запоздало спросил я.
– Сегодня докопались. Черкиз сказал ему, что хочет на следующей неделе съездить на свадьбу племянника в Вильнюс. Сменщик по доброте душевной предложил Черкизу выйти на линию пятого с тем, чтобы отработать за него потом. И сам разговаривал с начальством, не входя в подробности.
– Точно работал Черкиз. Пассажиром не поехал.
– Не хотел расспросов: зачем едет в неурочный день. На попутке тоже рискованно, шоферы все друг друга знают.
– Само собой.
– Да, вы просили навести справки о постояльце Евгении Августовны Станкене, киевском адвокате. Так вот, номер его машины: 89–32. А из Радзуте пришло сообщение, что на загородном шоссе «Москвич» зацепил велосипедиста. Номер «Москвича» оканчивался на «32». Машина не остановилась. За рулем сидела женщина.
– Велосипедист-то цел?
– Отделался парой синяков… Из Киева сообщили, что в прошлом году Лойко был исключен из коллегии адвокатов за недобросовестное ведение дел. Он влиял на свидетелей… А Станкене поняла, что они приехали из Радзуте, увидев у них в машине очень редкий сорт сирени, который выращивает в Радзуте один садовник на продажу. Она бывает только там. Им пришлось подтвердить Евгении Августовне, что они действительно из Радзуте, и мотивировать свой отъезд тем, что там очень многолюдно.
– Спасибо вам большое, товарищ майор.
– Зовите меня Отто Рудольфовичем, – сказал он.
– Спасибо вам, Отто Рудольфович, – повторил я. – У меня есть к вам еще одна маленькая просьба, Отто Рудольфович. Нажмите на начальника рыбного управления… Войтин – моряк божьей милостью. На него дали блестящую рабочую характеристику. Пьет? Надо выручать человека, а не топить его дальше.
– Сам знаю, – буркнул, начальник горотдела. – Займусь.
Глава 31 КТО ЕСТЬ КТО
В следствии я участия не принимал. Совсем было ни к чему, чтобы тот же Буш, встретив меня потом где-нибудь на улице, толкал приятеля в бок и говорил: «Знаешь, где этот парень работает?..»
Но на допросах Кентавра я присутствовал.
Они проходили не в той симпатичной комнате с круглыми сводами, напоминавшими арки, и с пейзажами на стене: за его спиной стоял вооруженный конвоир, а табуретка была привинчена к полу. Сначала он устраивал истерики, кидался на следователя. После психоэкспертизы замолчал, а когда его приперли к стенке уликами, стал тихим, слезливым и во всем каялся.
Он был агентом гестапо. В сорок четвертом году его перевели из Минска в Радзуте. Потом сюда. Он везде работал платным осведомителем.
«Почему вы не ушли с немцами?» – был задан ему вопрос. «Я попал под бомбежку и был ранен, гражданин следователь, долго лежал в госпитале, в себя пришел уже при наших, но не в этом дело, я их, фашистов, душегубов проклятых, всегда ненавидел, – заявил Кентавр. – А против Советской власти я ничего не имел, гражданин следователь, наоборот даже, я Родину люблю как родную мать. Вы поймите, пожалуйста, я же был поставлен в такие условия… у меня не было выбора… под пыткой у меня вырывали признания эти изверги в обличье человеческом, под пыткой…»
До двадцати девяти лет его звали Малиным Константином Константиновичем. Среди людей, которых он предал, был его двоюродный брат. Тоже Малин. Он нарушил требование конспирации: не поставил в известность членов подпольного комитета о том, что в пустующем отапливаемом сарайчике, оборудованном под мастерскую, прячет родственника, бежавшего от немецкой мобилизации (так объяснил ему свое появление Кентавр). Кентавра вывел на подполье Малин. Его убили в первую очередь, чтобы устранить малейшую возможность расшифровки агента.
«Брат выправил через знакомого документы, – рассказывал Кентавр. – Я смог спокойно ходить по городу, не выглядя в его глазах слишком смелым. Так я встретился с Ищенко. Он был напуган встречей, потому что был в поношенной цивильной одежде, а я знал, что он работает в радзутской полиции. Он сказал, что выполняет особое задание. Я ему поверил. Я сам выполнял такое задание. Мы пошли в забегаловку. Выпили. Много. Я намекнул, что ему не удастся составить капитальца на этом деле (я думал, он вынюхивает подпольщиков), потому что на днях с ними будет покончено, и я играю здесь не последнюю скрипку. Он знал, что если я говорю, так оно и есть. Он кое-что знал про меня… Через два дня я снова его встретил. В это утро начались аресты. Мне выдали аванс за работу мою, так сказать, я ж на краю пропасти ходил, гражданин следователь. Мы опять выпили…»
Хозяева дали ему точную характеристику: всем хорош, только много болтает, когда выпьет. При немцах Кентавр больше не встречал Ищенко. Позже он узнал, что Ищенко дезертировал из полиции за несколько месяцев до их встречи.
Косвенно Ищенко был виновен в гибели патриотов, потому что, боясь за свою шкуру, никого не предупредил. Потом сообразил, что его самого могут обвинить в предательстве. Во всяком случае, наверняка зададут вопрос: «Как вам удалось уцелеть?» Всю жизнь он боялся этого вопроса.
Осталось неясным, зачем Ищенко понадобилось надевать пиджак Пухальского. Может быть, его знобило? Но у него был свой пиджак, правда довольно похожий на пиджак Пухальского, – возможно, он перепутал их в спешке, а возвращаться уже не было времени. И второго мы никогда не узнаем. Почему он приехал сюда? Сентиментальность пожилого человека: потянуло в знакомые места? Надеялся, что никого из тех, кто знал его по полицейскому управлению и партизанскому отряду, не осталось в живых?.. Ответить на это мог бы только он сам.
Всю свою жизнь он провел как бы в проходном дворе. Все было для него временным, потому что постоянным было чувство страха. Детей ни в первом, ни во втором браке у него не было. «Он боялся иметь их, – сказала Клавдия Ищенко. – Теперь я понимаю почему…» По иронии судьбы Ищенко погиб как жил: в проходном дворе. Кривом и пустынном. Он верил в Бога, в рай и ад. Наверное, он надеялся, что платный осведомитель Кентавр будет гореть в аду.
До самолета оставалось два часа, и мне захотелось выпить: я же не монах. Это можно было бы сделать со многими. С Войтиным, который уже вышел из больницы. С Раей Быстрицкой и Семеном. С осторожным и не очень-то счастливым Генрихом Осиповичем Бушем. С начальником горотдела Валдманисом… Но я взял две бутылки «Напареули» и четыреста граммов любительской колбасы – совсем она не подходила к этому вину, но больше ничего в продмаге за углом не было – и отправился к директору гостиницы – в комнату с надписью «Служебная». Я чувствовал себя виноватым перед ним, потому что подозревал и его, хотя у меня не было для этого никаких оснований. Но я нервничал и не мог объяснить себе некоторых его поступков.
– Дела идут, контора пишет, – приветствовал меня Иван Сергеевич. – А студенты гуляют.
Мы выпили и обстоятельно поговорили о трудностях работы в гостинице, о ремонте, о жаре, которая стоит вот уже две недели.
– Вы здорово немецкий знаете, – сказал я. – Вы меня тогда просто ошарашили.
– Я, дружок, в плену был. С начала войны. Попал в окружение под Киевом… Освободили в Штутгофе. Я очень много говорю, ты не думай, что я болтун, это после лагеря у меня, вроде травмы какой… – и он вдруг улыбнулся виноватой, тревожной какой-то и очень подкупающей улыбкой. – Да, ты меня извини, я тебя в гости не позвал. Ну, когда мы на улице встретились, в воскресенье. Я, понимаешь, в баньку торопился. Взял мочалку, мыло там и пошел. В гостинице только душ, ну его к богу! Никакого удовольствия. Я баню люблю…
Потом я поднялся попрощаться с Быстрицкой.
– Я-то думала, вы сильный человек, – разочарованно сказала она. – А вы уезжаете, не добившись своего. Вы же в море хотели, матросом.
– Не получилось, Раечка. Долго ждать визы, каникулы кончатся… А насчет «сильного человека» – ищите ближе. По-моему, Семен стоящий парень. Только с ним надо быть честной.
– Да-а? А «Холстомер» мне ужас как понравился. Я даже ревела, когда читала… Ах, вы же не знаете потрясающей новости: убийцу поймали!
– Какого убийцу? – спросил я.
– Ну вот! Который Ищенко убил! Вы еще хотели все разгадать, только у вас и это не получилось, – уколола она.
Следователь в ходе допроса спросил Кентавра: «Вы встретились с Ищенко первый раз третьего числа?» – «Да». – «Расскажите подробнее». – «Мы столкнулись на площади у автобуса, я только что вылез из кабины, и одновременно узнали друг друга. Он понял, что я работаю шофером на этой линии. Мне стало ясно, что он донесет на меня. Но не сразу. Он трус, боится прошлого, будет раздумывать. Мне пора было ехать обратно. Я сказал, что мы должны встретиться и все обсудить. Как люди, а не как твари неразумные. Сказал, что давно хочу признаться, пороху не хватает… Потом я не спал ночью, все боялся: он настучит на меня раньше, чем…» – «Почему вы назначили для встречи площадь, а не какое-нибудь более укромное место?» – «Он… боялся», – глухо ответил Кентавр. «Вы встретили его в проходном дворе?» – «Да. Я помнил, что до войны он жил здесь. Значит, пойдет через проходной. Так все местные ходят, если из центра. В одиннадцать часов уже жарко. Город пустеет. Я рассчитывал на это… Но поймите, гражданин следователь, что мне оставалось делать? Я после войны стал другим. Все понял. Я крови больше не хотел, я ушел от всей этой политики. Я стал честным человеком. Я хотел все забыть, поймите…» Когда в проходном дворе реконструировались детали убийства, Малин-Кентавр всхлипнул. «Нервы сдают», – объяснил он и провел ладонью по глазам и небритой щеке. Он был страшен.
– Но ведь поймали же его, – сказал я Быстрицкой.
– Знаете, я была в милиции.
– Ну и как? Не съели?
– Мне здорово влетело, что я не пришла раньше. Но там хорошие ребята. Все поняли по-человечески.
– Я же вам говорил: ничего страшного нет.
Потом я поехал на аэродром.
Я чувствовал себя как рыба, вытащенная из воды, когда поднимался по трапу, хотя было утро, а я был выбрит, и на мне была свежая рубашка. Я поднимал ноги медленно, даже слегка шаркал подошвами о пупырчатые ступени. В руке я держал старенький «студенческий» чемодан, и меня никто не провожал, я сам просил, это было хорошо, потому что никого я не хотел сейчас видеть и мне было бы трудно поддерживать самый незначительный разговор. Я разрешил себе расслабиться. Я перестал быть студентом Вараксиным, я даже не был сейчас старшим лейтенантом госбезопасности Бучинскасом, а просто тридцатилетним мужчиной, который сработал трудное дело, ну вроде как построил дом, и ничего больше теперь не хочет, как отдохнуть. По трапу я поднимался один.
Несколько пассажиров еще только лениво брели через летное поле, поросшее травой, поэтому я остановился на верхней площадке трапа и огляделся. Крыша домика аэровокзала – двухэтажного, с балкончиком и двумя пожарными лестницами по бокам – мокро блестела. «Вот дождь прошел», – подумал я. Обычная для нашей республики погода: дождь, через полчаса жара, потом ливень и снова – солнце и чистое небо. Вдали тянулся город, в котором я провел семь дней. Четыре дня, а потом еще три, пока все до конца не было выяснено.
Я вдохнул полной грудью сырой воздух и, пригнувшись, шагнул в низкий проем двери самолета.