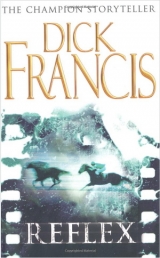
Текст книги "Отражение"
Автор книги: Дик Фрэнсис
Жанр:
Классические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц)
Глава 5
Утром я пошел на конюшню и, как обычно, выехал на раннюю тренировку. Гарольд по привычке бушевал, голосом перекрывая пронзительный свист ноябрьского ветра.
Жокеи хмурились, мрачнели – словесная порка не каждому по душе, и я подумал, что к концу недели обязательно кого-нибудь не досчитаемся. Жокеи уходили из конюшен просто: в одно прекрасное утро не являлись в назначенный час, и больше их не видели. Они тайком перебирались к другим тренерам, и прежние хозяева узнавали о том, на кого они сейчас работают, лишь когда новые хозяева обращались к ним за рекомендацией.
Большинство молодых жокеев исчезали без предупреждения: кому охота собачиться с тренером, если можно незаметно улизнуть. Жокейская братия, подобно бесконечной бурной реке, вливалась и выливалась из британских конюшен, и старожилы здесь были скорее исключением, нежели правилом.
– Пошли ко мне, – вдруг рявкнул Гарольд. – Позавтракаем.
Я кивнул. Гостеприимная жена Гарольда кормила сытно и вкусно.
Сегодня на большом кухонном столе высилась гора золотистых тостов, а от дымящейся сковородки шел такой аромат, что устоять было невозможно.
– Положить еще сосиску, Филип? – спросила жена Гарольда, щедрой рукой накладывая мне на тарелку. – Может, жареной картошки? Горячая.
– Ты испортишь его, женщина, – сказал Гарольд, беря масло.
Жена Гарольда, как всегда, многозначительно улыбнулась мне. Она считала, что я слишком худой и что мне надо жениться, и часто говорила об этом. Я на словах не соглашался с ней, но в глубине души чувствовал, что она права.
– Оторвись от тарелки, – сказал Гарольд, – обсудим планы на неделю.
– Давай.
– В среду в Кемптоне скачешь на Памфлете, – сказал он. – Двухмильная скачка с препятствиями. А в четверг Тишу и Точило…
Он говорил и говорил, не переставая энергично жевать, так что наставления вылетали у него изо рта вперемешку с крошками.
– Понял? – наконец спросил он.
– Да.
Выходит, если меня и собираются вышвырнуть на улицу, то не сию минуту. Я возблагодарил судьбу за такую милость, хотя было ясно, что от расплаты мне не уйти.
Увидев, что жена стоит в дальнем конце кухни и складывает приборы в посудомоечную машину, Гарольд, понизив голос, сказал:
– Виктору не нравится твое отношение к работе.
Я промолчал.
– Главное, что требуется от жокея, это верность, – патетически произнес Гарольд.
– Слушаюсь, мой фюрер, – сказал я.
– Ни один владелец не потерпит жокея, который смеет публично осуждать его действия.
– Пусть тогда он не обманывает публику.
– Есть кончил? – спросил Гарольд, закипая.
– Да, – с сожалением вздохнул я.
– Тогда пошли в кабинет.
Он прошел через красновато-коричневую комнату с не растопленным еще камином, которую заполнял холодный голубоватый свет буднего утра.
– Закрой дверь, – буркнул он.
Я повиновался.
– Ты должен выбрать, Филип, – сказал Гарольд. Рослый и крепкий, он стоял в костюме для верховой езды, поставив ногу на кирпичи, уложенные перед камином, и от него пахло лошадьми, свежим воздухом и крутыми яйцами.
Я ждал как ни в чем не бывало.
– Когда-нибудь Виктор снова захочет, чтобы ты проиграл. Конечно, не сразу – это было бы слишком явно. Немного погодя. Он говорит, что если ты будешь стоять на своем, нам придется подыскать себе другого жокея.
– На эти скачки?
– Не прикидывайся. Ты ведь не дурак. Уж чего-чего, а мозгов у тебя хватает.
Я покачал головой.
– Почему он снова взялся за старое? Ведь последние три года он не мухлевал и выигрывал уйму призовых денег.
Гарольд пожал плечами.
– Не знаю. Дело не в этом. В субботу, когда мы приехали в Сандаун, Виктор сказал мне, что заключил пари на свою лошадь, и мне достанется солидный куш. Мы и раньше так делали… а сейчас-то что? Что на тебя нашло, Филип? Ну, смухлюем чуть-чуть. Чего ты из себя строишь?
Я не знал, что ответить. Но прежде, чем я придумал ответ, он снова стал напирать.
– Ну пораскинь мозгами, мальчик. Чьи лошади лучшие в конюшне? Виктора. Кто покупает новых скакунов взамен старых? Виктор. Кто оплачивает тренерские счета тютелька в тютельку, не меньше чем за пять лошадей? Виктор. У кого больше всех лошадей в конюшне? У Виктора. Значит, кто самый ценный мой клиент? Ты вспомни, он уже десять лет со мной работает. Большинство фаворитов, которых я тренировал, поставил он. Надеюсь, что и дальше так будет. Значит, от кого больше зависит мой бизнес? Как, по-твоему?
Я тупо уставился на него. До этой минуты я не осознавал, что сам он, возможно, находится в том же положении, что и я. Либо делать так, как хочет Виктор, либо…
– Я не хочу терять тебя, Филип, – сказал он. – Ершист ты, правда, чтоб тебя… но до сих пор мы с тобой ладили. И все-таки долго ты не продержишься. Сколько лет ты участвуешь в скачках? Десять?
Я кивнул.
– Значит, еще три-четыре года. Максимум пять. Скоро ты руками и ногами будешь цепляться за эти «грязные» деньги. А получишь травму – расстанешься с седлом навсегда. Давай смотреть на вещи трезво, Филип. Кто мне понадобится дольше, ты или Виктор?
В подавленном настроении мы вышли на конный двор. Гарольд добродушно прикрикнул на пару слоняющихся без дела конюхов.
– Когда решишь, скажи, – сказал он, повернувшись ко мне. Ладно. Я хочу, чтобы ты остался.
Я удивился, но мне это было приятно.
– Спасибо, – сказал я.
Он неуклюже хлопнул меня по плечу – с его стороны это было высшим проявлением дружеских чувств. Не вопли, не угрозы, а именно этот скупой знак приязни заставил меня задуматься над его просьбой. Это в природе человека и старо, как мир. Нередко дух узника сламливает не пытка, а доброта. Когда на человека давят, это всегда рождает в нем желание дать отпор. Доброта же незаметно подкрадывается сзади и бьет тебя в спину так, что начинаешь исходить слезами благодарности. От доброты защищаться гораздо труднее. А защищаться от Гарольда мне и в голову не приходило.
Мы стояли молча, и я инстинктивно решил перевести разговор на другую тему. Первое, о чем я подумал, был Джордж Миллейс и его фотография.
– Гм, – начал я. – Помнишь лошадей Элджина Яксли? Ну, тех, которых застрелили?
– Что? – недоуменно переспросил он. – Какое отношение это имеет к Виктору?
– Абсолютно никакого, – заверил его я. – Просто вчера я о них вспомнил.
Дружеский настрой мгновенно уступил место раздражению, и, как ни странно, мы оба почувствовали облегчение.
– Слушай, – резко сказал Гарольд. – Я не шучу. На карту поставлена твоя карьера. Но ты, конечно, можешь делать все, что тебе угодно. Можешь вообще катиться к чертовой матери! Дело твое.
Я кивнул.
Он резко повернулся и сделал вид, что уходит. Потом остановился, оглянулся и сказал:
– Если тебе до зарезу нужно узнать про лошадей Элджина Яксли, спроси вон у Кенни. – Он ткнул пальцем в одного из конюхов, который наливал воду из-под крана в два ведра. – Он за ними приглядывал.
Он снова повернулся и решительно зашагал прочь, всей своей походкой выражая гнев и ярость.
Я нерешительно направился к Кенни, раздумывая, о чем его спрашивать, да и нужно ли мне это вообще.
Кенни, в отличие от меня, был одним из тех, кого добрым отношением пронять невозможно. Он понимал только язык силы. Подростком Кенни едва не угодил за решетку и был взят на поруки. Как парня из неблагополучной семьи, его жалели и многое прощали. Это его развратило, и он окончательно утвердился во мнении, что доброта – удел слюнтявых кретинов.
Он смотрел на меня со своим обычным выражением – отрешенно-упрямым, почти наглым. Его прыщавое лицо было выдублено ветром, глаза немного слезились.
– Мистер Осборн сказал мне, что вам приходилось работать у Барта Андерфилда, – начал я.
– Ну?
Вода уже лилась через край первого ведра. Наклонившись, Кенни отодвинул его и пнул под кран второе ведро.
– И, насколько мне известно, вы приглядывали за лошадьми Элджина Яксли?
– Ну?
– Вам жалко было, что их застрелили?
Он пожал плечами.
– Допустим.
– А что об этом говорил мистер Андерфилд?
– Чего? – Он уставился на меня. – Ничего он не говорил.
– Его это не рассердило?
– Я чего-то не заметил.
– Странно, – сказал я.
Кенни снова пожал плечами.
– Очень странно, – повторил я. – Он лишился пяти лошадей, а у него их не так много, чтобы просто на это наплевать.
– Не, он ничего не говорил. – Второе ведро было почти полным, и Кенни завернул кран. – По-моему, он не особо горевал. А уж зато после он на чем-то накололся.
– На чем?
На лице у Кенни было написано полнейшее равнодушие. Он взял ведра.
– Не знаю. Он прямо как с цепи сорвался. Ну, владельцы обозлились и ушли.
– И вы тоже, – добавил я.
– Ага. – Он пошел через двор, с каждым шагом расплескивая воду. Я пошел за ним, стараясь держаться поодаль, чтобы он меня не облил. – Что толку оставаться, когда все в трубу летит?
– А лошади Яксли были здоровы, когда их привезли на ферму? – спросил я.
– Ясное дело, – удивился он. – А чего?
– Да нет, ничего. Просто кто-то заговорил об этих лошадях… и мистер Осборн сказал, что вы за ними приглядывали. Вот я и решил спросить.
– А, – кивнул он. – Там у них в суде был ветеринар, ну, чтоб подтвердить, что лошади были здоровы до того дня, пока их не пристрелили. Он сказал, ездил на ферму делать прививку от сапа, ну, осмотрел их, и они были в полном порядке.
– А вы ходили на суд?
– Нет. В «Спортинг Лайф» читал. – Он дошел до ряда денников и поставил ведра возле одной из дверей. – Ну, все, что ли?
– Да. Спасибо, Кенни.
– Вот еще что… – Он, казалось, сам удивился своей любезности.
– Что?
– Этот мистер Яксли… Вы, небось, думаете, что кайф ловил от всей этой заварухи, хоть и лошадей потерял, а он как-то вломился в конюшню к Андерфилду прямо как бешеный. Я думаю, это после этого Андерфилд скис. А Яксли, ясное дело, вытурили со скачек, только мы его и видели. Я, по крайней мере, его не видал больше.
Погруженный в раздумья, я шел к себе и, войдя в дом, услышал телефонный звонок.
– Это Джереми Фоук, – сказал знакомый голос.
– Господи ты боже мой! – возопил я.
– Вы прочитали отчеты?
– Да, прочитал. Но искать я ее не буду.
– Ну что вам стоит… – напирал он.
– Нет. – Я помолчал. – Чтобы вы от меня отстали, я вам немного помогу. Но искать придется вам.
– Хорошо… – Он вздохнул. – Как вы мне поможете?
Я рассказал ему, как мне удалось определить возраст Аманды, и посоветовал установить сроки пребывания различных обитателей в Сосновой Сторожке через агентов по продаже недвижимости.
– Видимо, моя мать жила там тринадцать лет назад, – закончил я. – А теперь – все в ваших руках.
– Но… послушайте! – буквально завопил он. – Вы просто не можете так все оставить.
– Еще как могу.
– Я вам еще позвоню.
– Оставьте меня в покое, – отрезал я.
Я поехал в Суиндон, чтобы отдать цветную пленку в фотолабораторию для проявки, и по пути размышлял о жизни и деятельности Барта Андерфилда.
Как старожил Ламбурна, я знал его, как и всякого другого в конном спорте. Изредка сталкиваясь в деревенских магазинах, в гостях и, конечно, на скачках, мы обменивались фразами вроде: «Доброе утро» и «Не повезло» – и кивали друг другу. Я не выступал за его конюшню, поскольку он никогда не просил меня об этом, а не просил он меня, видимо, потому, что недолюбливал.
Маленький деловой человечек, Барт просто лопался от важности и чувства собственного превосходства. Обычно это проявлялось в том, что Барт уединялся с кем-нибудь и в приватной беседе объяснял, где сделали ошибки другие, более удачливые тренеры. «Конечно, Уолвин не должен был выставлять эту лошадь на скачки в Аскоте, – обычно говорил он. – Она прошла плохо всю дистанцию, это за милю было видать». Люди неискушенные считали его отличным знатоком. В Ламбурне же он имел репутацию полного болвана.
Однако никто не считал, что он настолько глуп, чтобы послать пять своих лучших лошадей на убой. Конечно, все его жалели, особенно, когда выяснилось, что Элджин Яксли не потратил ни пенни из выплаченных ему по страховке денег, чтобы купить новых, равноценных лошадей, а просто исчез без следа, оставив Барта расхлебывать кашу.
Это несомненно были первоклассные лошади, с лихвой окупавшие свое содержание. Их можно было продать по высокой цене. Они были застрахованы выше своей рыночной стоимости, но себестоимость не намного превышала продажную цену, особенно, если учесть, что теперь уже они не могли выиграть никаких призов. Иными словами, убийство лошадей было невыгодно, что заставило в конце концов раскошелиться недоверчивую страховую компанию. Тем более, что никакой связи между Элджином Яксли и Теренсом О'Три обнаружить не удалось.
Ребята из фотопроявочной лаборатории в Суиндоне, которые хорошо меня знали, сказали, что мне повезло: они только что собирались запустить в проявку очередную партию пленок и, если я подожду, то через пару часов получу свои негативы назад. Я пробежался по магазинам, забрал в назначенное время проявленные негативы и пошел домой.
Днем печатал цветные фотографии миссис Миллейс и вместе с черно-белыми послал их в полицию. А вечером снова вспомнил об Аманде, Викторе Бриггсе и Джордже Миллейсе. Причем, старался думать о чем-нибудь другом, но тщетно.
Хуже всего было то, что Виктор Бриггс и Гарольд поставили мне ультиматум. Профессия жокея устраивала меня во всех отношениях – и физически, и морально, и материально. Многие годы я гнал от себя мысль, что однажды мне придется заняться чем-то другим; это «однажды» всегда терялось в туманном грядущем. Теперь же я столкнулся с ним лицом к лицу.
Кроме лошадей, я что-то смыслил в фотографии, но вокруг была тьма-тьмущая фотографов… фотографии делали все, фотокамеры были в каждой семье, весь западный мир был наводнен фотографиями… и чтобы заработать себе этим на жизнь, нужно было быть одним из лучших.
К тому же это еще и каторжный труд. Мои знакомые фоторепортеры, снимавшие скачки, все делали бегом: мчались от старта к последнему препятствию, а оттуда – к загонам для расседлывания, пока туда не приходил победитель, а потом – назад, чтобы попасть к началу следующей скачки, и так по крайней мере шесть раз на дню, пять или шесть раз в неделю. Одни снимки они мчались относить в агентства новостей для публикации в газетах, другие посылали в журналы, третьи всучали владельцам лошадей, а четвертые – организаторам скачек, награждавшим победителей.
Чтобы сделать несколько приличных снимков, спортивному фоторепортеру приходилось целыми днями бегать, высунув язык. Когда фотографии были готовы, снова приходилось бегать, чтобы их продать, – рынок был переполнен. Это ничуть не походило на работу Данкана и Чарли, которые в основном снимали рекламные фотографии; натюрморты с изображением горшков, сковородок, часов и садовой мебели.
Удачливых фотографов, которые снимали только скачки, было немного – наверное, меньше десяти. Четверо из них были вне конкуренции, и в эту четверку входил Джордж Миллейс.
Попытайся я вступить в их ряды, они бы не стали мне мешать, но и помощи от них ждать не приходилось. Выстоял бы я или нет – все это зависело только от меня.
Бегать по ипподрому – это еще куда ни шло, подумал я, но вот продать фотографии… Даже те фотографии, которые я считал неплохими, мне бы не удалось «толкнуть».
Что оставалось еще?
Стать тренером? Исключено. У меня не было капитала, а кроме того, это жизнь не для человека, который любит тишину и одиночество. Тренеры от зари до темна общаются с людьми и живут в сумасшедшем темпе.
Я хотел – и всегда подсознательно стремился к этому – только одного: продолжать оставаться вольнонаемным. Постоянное жалованье казалось мне чем-то вроде цепей. Разумом я понимал, что это глупо, но ничего не мог с собой поделать. Чем бы я ни занимался, свобода была мне дороже всего.
Нужно начать принимать решения. Я понимал, что могу попасть на работу, где не будет прелестей жокейской жизни. До сих пор мне везло, но чтобы и в будущем чувствовать удовлетворение от работы, я прежде всего должен знать, чего хочу.
Черт бы побрал Виктора Бриггса, в бешенстве подумал я.
Продолжать жульничество или бросить работу. Другого выхода у меня не было.
…Вторник прошел как обычно, зато когда в среду я поехал в Кемптон скакать на Памфлете, весовая просто бурлила.
Айвора ден Релгана избрали членом «Жокей-клуба», а дом матери Стива Миллейса сожгли.
Глава 6
«Айвор ден Релган!» Это имя повсюду повторяли на разные лады изумленно и недоверчиво. «Член „Жокей-клуба“», «Быть не может!»
В то утро аристократический «Жокей-клуб», куда было практически невозможно попасть человеку со стороны, принял в свои ряды самоуверенного и богатого выскочку неизвестного происхождения. Много лет члены клуба держали его на расстоянии, хотя он выкидывал на скачки кучу денег и оказывал клубу кое-какие услуги, правда, так, словно подавал милостыню.
Говорили, что по происхождению он – голландец. Его родиной была одна из бывших голландских колоний. Он говорил со смешанным южноафриканско-австралийско-американским акцентом; казалось, гласные и согласные в его речи по одной надерганы из половины языков мира, что могло быть и привлекательным, если бы голос его не звучал так покровительственно, словно Релган подчеркивал, что узколобым британским аристократам до него далеко. Он не искал благ, которые ему гарантировало членство в клубе: ден Релган хотел, чтобы им восхищались, чтобы его советами пользовались, а это, как он неоднократно намекал, будет только способствовать процветанию «Жокей-клуба». Советы ден Релгана часто публиковались в «Спортинг Лайф» в рубрике писем. Гонораров за них он не требовал.
В самом деле, «Жокей-клуб» пользовался кое-какими его советами, но прилюдно об этом никогда не упоминали. Интересно, почему они сделали поворот на сто восемьдесят градусов и заключили в объятия человека, которого прежде предавали анафеме?
В раздевалке возле вешалки меня поджидал Стив Миллейс.
Я еще в дверях заметил, что он подавлен, но, подойдя поближе, понял, что силы его на пределе. Бледный, дрожащий, с висевшей на черной перевязи рукой, он стоял, устремив на меня запавшие глаза. В них читалось отчаяние.
– Ты уже слышал? – спросил он.
Я кивнул.
– Это в понедельник ночью случилось. Точнее, вчера утром. Часа в три, наверное… Но пока успели позвать на помощь, все сгорело.
– Твоей матери там не было?
– Она все еще в больнице. Она больше не выдержит. Понимаешь, – добавил он дрожащим голосом, – у нее уже нет сил.
Я сочувственно шмыгнул носом.
– Скажи мне, что делать? – попросил он. Стив избрал меня кем-то вроде старшего брата, ходячим бюро добрых советов.
– Ты, по-моему, говорил, что у тебя есть какие-то тетки, – сказал я. – Они были на похоронах?
Он замотал головой.
– Это папины старшие сестры. Они всегда недолюбливали маму.
– Все равно…
– Гадины они! – взорвался он. – Я им позвонил… а они мне говорят: «Какой ужас! – Он язвительно передразнил их. – Передай бедняжке Мари: пусть купит на страховку уютный маленький домик на берегу моря». Меня от них тошнит.
Я начал переодеваться к скачке. Работать Стив сегодня не сможет, это ясно.
– Филип, – умоляюще начал он. – Ты ведь ее видел. У нее все украли… и папа умер… а теперь и дом… очень тебя прошу… помоги мне.
– Ладно, – покорно сказал я. А что еще можно было сказать? – После скачек что-нибудь придумаем.
Ноги не держали его, и он опустился на скамью. Я закончил переодеваться и пошел взвешиваться, а он все сидел, уставившись в пространство.
У весов, как обычно, стоял Гарольд и ждал, пока я отдам ему седло и взвешусь. С понедельника он больше ни словом не обмолвился о поставленном ультиматуме: видимо, принимал мое молчание за согласие вернуться к старому, не подозревая, какие мучительные сомнения разрывают меня. Когда я надел седло ему на руку, он сказал как ни в чем не бывало:
– Слышал, кого избрали в «Жокей-клуб»?
– Ага.
– Следующим наверняка будет Чингисхан.
Он ушел седлать Памфлета, и вскоре я тоже вышел на площадку для выводки. Там беззаботно ходила лошадь, а ее владелец, звезда поп-музыки, сосредоточенно грыз ногти.
Гарольд сообщил мне еще кое-какие подробности.
– Я слыхал, что за ден Релгана замолвил словечко сам Великий Белый Вождь.
– Лорд Уайт? – удивился я.
– Сам Старина Сугроб.
Моложавый владелец Памфлета щелкнул пальцами и сказал:
– Эй, друг, слабаем малышу пару горячих?
– По десять поставим – на выигрыш и на проигрыш, – предложил Гарольд, который хорошо усвоил язык поп-звезды. Музыканту лошадь нужна была для рекламы, и он выставлял ее на скачки лишь в том случае, если их снимало телевидение. Сегодня, как и всегда, он думал о том, где установлены камеры, чтобы мы с Гарольдом не дай бог случайно его не загораживали. Меня восхищало его умение всегда попадать в кадр и манера подавать себя – это было настоящее представление. Он пытался создать образ этакого рабочего паренька, выбившегося в люди. Но, думаю, случись ему оказаться, образно говоря, вне сцены, он снова бы превратился в провинциального буржуа.
В тот день он явился на скачки с волосами, выкрашенными в темно-синий цвет. На площадке для выводки это повергло всех в состояние легкого шока, один лишь Гарольд и бровью не повел: главное, чтобы владелец выкладывал деньги, а там – пусть хоть голым ходит.
– Филип, дорогуша, – сказал поп-музыкант, – подведи малыша к папочке.
Наверное, старых фильмов насмотрелся, подумал я. Сейчас так даже поп-звезды не говорят. Он снова принялся грызть ногти, а я сел на Памфлета и отправился навстречу выигрышу или проигрышу, на каждый из которых было поставлено одинаково.
Я никогда не считался жокеем номер один в барьерных скачках, но в тот день нас с Памфлетом словно подменили. Мы оба хотели выиграть во что бы то ни стало. Мы словно на крыльях прошли всю дистанцию и на финише стрелой обошли фаворита. Когда мы вернулись, синеволосый музыкант заключил нас в объятия (сцену снимало телевидение), и я получил предложение от озабоченного третьеразрядного тренера на участие в пятом заезде запасным жокеем. «Наш жокей получил травму… как, не возражаете?» – «Ничуть, буду очень рад». – «Отлично. Костюм у служителя, увидимся на площадке для выводки». – «Прекрасно».
Стив все еще грустил возле моей вешалки.
– Сарай тоже сгорел?
– Что?
– Сарай. Там стоял морозильник с пленками твоего отца.
– А, это. Да, сгорел… но папиных вещей там не было.
Я снял оранжево-красный камзол – цвет поп-звезды – и пошел за более спокойным коричнево-зеленым костюмом для дополнительного заезда.
– А куда же они делись? – спросил я, вернувшись.
– Я передал маме твои слова, что многим могли не нравиться папины фотографии. Она решила, что ты прав, что эти грабители действительно охотились за фотографиями, а не за ее вещами. Вот она и решила спрятать негативы от греха подальше. Я их в холодильник к соседям отнес – вроде как на хранение.
Я задумчиво застегнул зелено-коричневую рубашку.
– Хочешь, я навещу ее в больнице? – спросил я.
Мне это было несложно: больница находилась почти по дороге ко мне домой. Но Стив уцепился за мое предложение с обескуражившей меня горячностью. Он объяснил, что сюда его привез владелец паба из деревеньки в Суссексе. Его заведение находилось по соседству с конюшней, за которую выступал Стив. Если я навещу его мать, он сможет вернуться домой с владельцем паба, потому что из-за ключицы сам еще не может водить машину. Вначале я не собирался ехать к миссис Миллейс один, но, поразмыслив, решил, что может это и к лучшему.
Получив мое согласие, Стив воспрянул духом и попросил позвонить ему по возвращении.
– Хорошо, – рассеянно сказал я. – А твой отец часто бывал во Франции?
– Во Франции?
– Слышал когда-нибудь о такой стране? – спросил я.
– А… – Он не был расположен к шуткам. – Часто. В Лонгшане, Сен-Клу… Почти везде.
– А в других странах? – спросил я, засовывая свинец в одежду для взвешивания.
– А? – обескураженно переспросил он. – Что ты имеешь в виду?
– На что он тратил деньги?
– В основном объективы покупал. Например, такие длиннющие телевики. Ну, в общем, всякие новинки.
Я положил седло и одежду для взвешивания на контрольные весы и добавил еще одну свинцовую накладку в фунт весом. Стив встал и подошел ко мне.
– А почему ты об этом спрашиваешь?
– Да так, просто, – ответил я. – Хотел знать, чем он увлекался помимо скачек.
– Кроме фотографии, его ничего не интересовало. Он все время снимал где только можно.
В назначенное время я вышел на дополнительный заезд. Это был один из тех редких дней, когда все складывается хорошо. Охваченный чувством беспричинной радости, я спешился у загона для расседлывания и подумал, что не променяю свою жизнь ни на какую другую. Жизнь, от которой балдеешь больше, чем от героина.
Моя мать, вероятно, умерла от героина.
Мать Стива лежала в одиночном застекленном боксе. Прозрачные стены отделяли ее от других больных, но не скрывали от нескромных, любопытных взглядов. Занавески, которые могли бы скрыть ее от всеобщего обозрения, не были задернуты. Самое отвратительное в больнице то, что человек не может остаться в одиночестве. Люди стесняются своей беспомощности и не хотят, чтобы это видели другие.
Мари Миллейс лежала на спине, укрытая простыней и тонким синим одеялом. Грязные, взлохмаченные волосы разметались по двум плоским подушкам, положенным под голову. Лицо было ужасно.
Царапины и ссадины, оставшиеся после воскресной ночи, теперь сплошь покрылись темной коркой. Рассеченное веко зашили: оно ужасно распухло и почернело. На малиновый нос была наложена гипсовая повязка, державшаяся с помощью белого пластыря на лбу и щеках. Приоткрытый и тоже припухший рот был пурпурного цвета. На теле были отчетливо видны следы кровоподтеков: малиновых, серых, черных и желтых. Еще в воскресенье я видел, что Мари порядком досталось, но то, что сейчас предстало моим глазам, описать было невозможно.
Услышав шаги, она чуть-чуть приоткрыла заплывший глаз. Подойдя поближе, я заметил на ее лице некоторое смущение, словно меня она ожидала увидеть менее всего.
– Меня Стив попросил заехать, – объяснил я. – Он сам не смог приехать из-за ключицы. Он пока еще не может сесть за руль… еще денька два не сможет.
Глаз закрылся.
Я взял стоявший у стены стул и, пододвинув его к кровати, сел рядом. Она снова открыла глаз и, подняв с простыни руку, медленно протянула ее мне. Я взял ее, и она отчаянно вцепилась мне в ладонь и сильно сжала ее, словно стараясь найти поддержку, успокоение и обрести уверенность. Но скоро силы, питавшие ее порыв, угасли, она разжала руку и безвольно уронила на одеяло.
– Стив говорил вам про дом? – спросила она.
– Говорил. Мне очень жаль. – Слабое утешение, но большего я предложить не мог.
– Вы были там? – спросила она.
– Нет. Мне об этом рассказал Стив сегодня днем на скачках.
Ее распухшие губы с трудом складывали слова, речь была невнятной.
– У меня сломан нос, – сказала она, перебирая пальцами одеяло.
– Знаете, я тоже как-то сломал нос, – принялся рассказывать я. – И мне тоже наложили повязку, в точности, как у вас. Так вот, через неделю у вас и следа не останется.
Она промолчала. Не верит.
– Да вы сами убедитесь, – убеждал ее я.
Мы разом замолчали, как это бывает, когда сидишь у постели больного. Вот в чем неудобство отдельной палаты, – подумал я. В общей, например, когда кончается весь набор банальностей, всегда можно обсудить ужасные симптомы болезни соседа.
– Джордж говорил, вы тоже фотографируете, как он, – вдруг сказала она.
– Нет, не как он, – ответил я. – Таких, как Джордж, можно по пальцам пересчитать.
Ей это было приятно, и она попыталась улыбнуться.
– Стив мне сказал, что перед пожаром вы унесли из дома негативы Джорджа, – сказал я. – Очень своевременно.
Улыбка исчезла, и лицо постепенно приняло страдальческое выражение.
– Сегодня приезжала полиция, – выдавила она, а потом вздохнула и тяжело задышала. Ей не хватало дыхания, и из горла вырвался резкий звук.
– Сюда приезжала? – спросил я.
– Да. Они сказали… О, господи… – Она глубоко вздохнула и закашлялась.
Я накрыл ладонью ее лежащие на одеяле руки и твердо сказал:
– Не надо волноваться. А то еще сильней заболит. Просто сделайте медленно три глубоких вдоха. Или больше, если нужно. Пока не успокоитесь, не говорите.
Некоторое время она лежала молча. Постепенно дыхание стало ровнее, напрягшееся под одеялом тело расслабилось. Наконец она сказала:
– Вы гораздо старше Стива.
– На восемь лет, – уточнил я, отпуская ее руку.
– Нет. Гораздо… гораздо старше. – Она замолчала. – Не могли бы вы дать мне воды?
Вода стояла на тумбочке возле кровати в стакане с изогнутой трубкой. Я поднес трубку к ее губам, и она сделала несколько глотков.
– Спасибо. – Она снова замолчала, а потом вновь продолжала, на сей раз гораздо спокойнее. – Полицейские сказали… Полицейские сказали, что это был поджог.
– Вот именно.
– Вас… это не удивляет?
– А чего можно ожидать после двух ограблений?
– Керосин, – сказала она. – Пятигаллонный бак. Полицейские нашли его в холле.
– Керосин был ваш?
– Нет.
Снова наступило молчание.
– Полицейские спрашивали… были ли у Джорджа враги. – Она беспокойно повернула голову. – Я сказала, нет, конечно… а они спросили… не было ли у него чего-то такого, что кто-то очень хотел…
– Миссис Миллейс, – деловито сказал я. – Они не спрашивали, были ли у Джорджа фотографии, которые бы хотели украсть или сжечь?
– У Джорджа их… не было, – с жаром возразила она.
Ошибаетесь, подумал я.
– Послушайте, – медленно сказал я, – может быть, вы не хотите, чтобы я… может быть, вы мне не доверяете… но, если хотите, я мог бы посмотреть эти негативы. Тогда будет ясно, есть там что-то или нет.
Помолчав, она спросила:
– Сегодня?
– Ну конечно. Если там ничего такого нет, можете сказать об их существовании полицейским… если хотите.
– Джордж – не шантажист, – сказала она. Слова, вырвавшиеся из распухшего рта, звучали странно, искаженно, но в голосе слышалась страстная уверенность в невиновности мужа. Она не говорила: «Я не верю, что Джордж мог кого-то шантажировать», но – «Джордж – не шантажист». Впрочем, видимо, какие-то сомнения у нее были, иначе она отдала бы негативы полицейским. Уверена и в то же время не уверена. Чувства подсказывали одно, разум – другое. Бессмыслица, которая, однако, имела смысл. Ведь кроме этой безотчетной веры, у нее почти ничего не оставалось. И сказать ей, что она ошибается, у меня язык не поворачивался.
У соседки я забрал три металлических ящика – ей, оказывается, сказали, что там лежит всякая мелочь, которую не заметили грабители, – и она устроила мне экскурсию по пепелищу.
Даже в темноте было видно, что спасать уже нечего: пять галлонов керосина сработали наверняка. От дома остались одни стены. В воздухе висел едкий запах гари, каждый шаг отдавался скрипом. И к этому варварски разрушенному семейному очагу должна была вернуться Мари.





