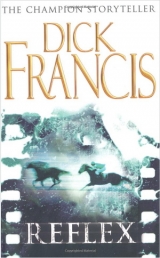
Текст книги "Отражение"
Автор книги: Дик Фрэнсис
Жанр:
Классические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц)
Глава 4
Я сидел в наступившей тишине, повернувшись к окну, смотрел на пустынный, безлюдный Даунс и думал о том, что здесь ничего не изменится ни через сто, ни через тысячу лет.
– Я не желаю иметь ничего общего с людьми, с которыми меня ничто не связывает, – наконец сказал я. – Мне не нравится, что теперь они стараются опутать меня своими узами, как паутиной. Неужели старуха думает, что после всего, что было, она может теперь запустить в меня когти только потому, что ей так захотелось?
Джереми Фоук ничего не ответил. Он встал, как обычно, неуклюже, но когда заговорил, в голосе слышалась твердость.
– Я привез отчеты, которые мы получили из трех частных сыскных агентств, – сказал он. – Я вам их оставлю.
– Нет, не надо.
– Упрямиться нет смысла, – сказал он и вновь обвел глазами комнату. – Я прекрасно понимаю, что вы не хотите в это впутываться. Но, уж извините, пока вы не согласитесь, я от вас не отстану.
– Делайте свое черное дело.
Он улыбнулся.
– Ну, черное дело было сделано еще лет тридцать назад, так ведь? Еще до нашего с вами рождения. А нам остается только расхлебывать.
– Ну, спасибо, утешили.
Из внутреннего кармана твидового пиджака он извлек длинный пухлый конверт и аккуратно положил его на стол. – Отчеты не очень длинные. Прочтите их, ладно?
Я промолчал. Он, впрочем, и не ждал, что я отвечу, поэтому сделал несколько неловких шагов к двери, чтобы показать, что уходит. Я спустился с ним вниз и смотрел, как он залезает в машину.
– Кстати, – сказал он, неловко изогнувшись над сиденьем, – миссис Нор в самом деле умирает. У нее рак позвоночника. Врачи говорят, уже метастазы пошли. Сделать ничего нельзя. Она проживет еще от шести недель до полугода – точнее сказать трудно. Так что… э-э… времени терять нельзя, понимаете?
Остаток дня я провел с пользой для себя: после отъезда Джереми пошел в лабораторию, где проявил и напечатал черно-белые фотографии миссис Миллейс и ее разгромленной квартиры. Снимки вышли такими четкими, что можно было прочитать заголовки газет, лежащих на полу. Интересно, где проходит граница между явным тщеславием и обычным наслаждением от хорошо сделанной работы? Может быть, то, что я повесил на стену фотографию серебристых берез, и было тщеславием?
Конверт Джереми Фоука лежал нераспечатанный на столе, там, где он его оставил: я так и не удосужился прочитать содержание отчетов. Проголодавшись, я подкрепился помидорами и пшеничной кашей с сухофруктами и орехами, прибрал в лаборатории, а в шесть часов запер дверь и зашагал по дороге к дому Гарольда Осборна.
Каждое воскресенье в шесть часов мы встречались у него, пропускали по рюмочке и до семи обсуждали события минувшей недели и планы на следующую. Несмотря на свой непредсказуемый, переменчивый нрав, Гарольд был человеком порядка и ненавидел все, что могло помешать нашим «совещаниям в ставке», как он называл их. На протяжении этого часа к телефону подходила только его жена и записывала, что ему передать и куда позвонить. Однажды я присутствовал при жутком скандале: жена Гарольда вбежала в комнату и, плача, сказала, что их собаку задавила машина.
– Ты что, не могла сообщить мне об этом через двадцать минут? – заорал он. – Ты меня перебила, и у меня теперь из головы вылетело все, что я должен был сказать Филипу!
– Но собака… – причитала она.
– К черту собаку! – Он еще несколько минут читал ей нотации, а потом вышел на дорогу и заплакал над изуродованным телом своего друга.
Надо сказать, что Гарольд обладал качествами, которых я был лишен: у него часто менялось настроение, он был эмоционален, эксцентричен, неуравновешен. Он нередко впадал в крайности; ему были одинаково присущи коварство и самоотверженность, вспышки гнева и бесконечная преданность делу. Только в одном мы были схожи: мы оба считали, что работу нужно делать хорошо, и это раз и навсегда сделало нас союзниками. Гарольд мог в бешенстве наорать на меня, но я хорошо знал его и не обижался. Другие жокеи и тренеры, и даже несколько журналистов частенько – кто-то с раздражением, кто-то с юмором – говорили мне одно и то же: «И как ты с ним ладишь, не представляю!», – и я всегда честно отвечал: «Запросто».
В то воскресенье священный час прервался, не успев начаться: у Гарольда был посетитель. Через конюшню я прошел в дом и зашел в гостиную, служившую также и кабинетом. Несмотря на царящий беспорядок, здесь было уютно. В кресле сидел Виктор Бриггс.
– Филип! – воскликнул Гарольд, радушно улыбаясь. – Наливай себе. А мы только собрались посмотреть запись вчерашних скачек. Ну, садись. Готов? Включаю.
Виктор Бриггс несколько раз одобрительно кивнул и неожиданно вяло пожал мне руку. Я впервые видел его без привычного синего пальто, широкополой шляпы и перчаток. Холодные сухие руки; густые блестящие, зачесанные на прямой пробор черные волосы почти касались бровей. На нем был строгий темный костюм. Он держался, как обычно, настороженно и глядел без улыбки, словно боялся, что его мысли прочтут, но вид у него, тем не менее, был довольный.
Я откупорил банку кока-колы и плеснул себе в стакан.
– Вы не пьете? – спросил Виктор Бриггс.
– Он пьет только шампанское, – сказал Гарольд. – Верно, Филип? – Он был в добром расположении духа, голос, усиленный теплыми красновато-коричневыми цветами комнаты, звенел медью.
Буйно вьющиеся темно-рыжие кудри Гарольда были под стать его характеру. Большой, сильный мужчина, в свои пятьдесят два года он выглядел на десять лет моложе, а волевое, мясистое лицо с мягкими чертами говорило о несокрушимом здоровье.
Он включил видеомагнитофон и, усевшись в кресло, стал смотреть падение Рассвета в Сандауне с таким довольным видом, словно тот выиграл Большие Национальные скачки. Чистая работа, комар носа не подточит, подумал я.
На экране я увидел, как мы с Рассветом выходим на старт. Вот жокеи выстроились в линию. Старт! «Ставка на фаворита четыре к одному», – говорит комментатор. Теперь все зависит от того, как Филип Нор проведет его через препятствия. Отлично преодолел два первых забора. Хороший, ровный проход вдоль трибун. Рассвет лидирует, он задает темп, но и остальные пять лошадей идут с минимальным отрывом. Прошел поворот вплотную к ограждению… на спуске прибавил скорость. Подход к третьему забору… все идет гладко… и вдруг – резкий поворот в воздухе, неловкое приземление, и фигурка в красно-синем камзоле перелетает через голову лошади и падает ей под ноги. Толпа ревет. Бесстрастный голос комментатора: «Рассвет падает при приземлении, теперь лидирует Мотылек…»
Финиш не принес никаких неожиданностей, а потом снова показали момент прыжка Рассвета с последующими рассуждениями комментатора: «Вы видите, лошадь делает дополнительный шаг и бросает Филипа Нора вперед… при приземлении лошадь зарывается головой, не оставляя жокею ни единого шанса… бедный Филип Нор крепко вцепился в холку… Но сделать уже ничего нельзя… ни лошадь, ни жокей не пострадали».
Гарольд встал и выключил видеомагнитофон.
– Высший класс, – сказал он, сияя. – Я просмотрел этот ролик раз двадцать. Ничего не заметно.
– Никто ничего не заподозрил, – сказал Виктор Бриггс. – Мне даже один из распорядителей сказал: «Вот не повезло, так не повезло».
Он засмеялся каким-то беззвучным нутряным смехом, отчего его грудь заходила ходуном. Потом он взял большой конверт, лежавший рядом с его джин-тоником, и протянул мне.
– Это моя благодарность вам, Филип.
– Вы очень добры, мистер Бриггс, – сказал я сухо. – Но это ничего не меняет. Я не хочу, чтобы мне платили за проигрыш… И ничего с собой не могу поделать.
Виктор Бриггс молча положил конверт назад, зато Гарольд пришел в ярость.
– Филип! – загремел он, нависая надо мной. – Не будь ты упрямым ослом! В этом конверте уйма денег. Виктор очень щедр. Возьми их, скажи спасибо и замолкни.
– Нет… не могу.
– Плевать я хотел, можешь ты или не можешь! Как на скачках жульничать, так ничего, все нормально! А деньги за это мы брать не можем – как же, тридцать сребреников! Меня просто тошнит. Бери деньги, или я тебе их силой в глотку затолкаю.
– Это единственный выход.
– Какой?
– Затолкать их мне в глотку.
Виктор Бриггс откровенно рассмеялся, но когда я взглянул на него, он плотно сжал губы, словно смех вырвался у него непроизвольно.
– И вот еще что, – медленно сказал я, – я больше этого делать не хочу.
При этих словах Виктор Бриггс встал, и оба они, словно онемев, уставились на меня.
Казалось, прошла вечность. Потом Гарольд сказал тихим голосом, в котором слышалось несравненно больше угрозы, чем когда он кричал:
– Ты будешь делать то, что тебе говорят.
Я тоже встал. Во рту у меня пересохло, но я заставил себя говорить спокойно и ровно, как ни в чем не бывало.
– Пожалуйста… не просите меня повторять вчерашнее.
Виктор Бриггс сузил глаза.
– Вас лошадь ушибла? Она ведь на вас наступила… я видел по видео.
Я покачал головой.
– Дело не в этом. Дело в проигрыше. Вы знаете, я ненавижу жульничать. Я просто… не хочу, чтобы вы снова просили меня…
Молчание.
– Послушайте, – сказал я. – Бывают разные случаи. Конечно, если лошадь в неважной форме, я не стану заставлять ее работать в полную силу, иначе на следующей скачке она сломается. Я придержу лошадь, но ведь в этом есть смысл. Но жульничать, как вчера с Рассветом, я больше не буду.
– Сейчас тебе лучше уйти, Филип, – сказал холодно Гарольд. – А утром мы с тобой поговорим.
Я кивнул и вышел. Теперь уже руки мне никто не подал.
Что они предпримут? Я шагал домой по извилистой темной дороге, как и сотни воскресений прежде, и думал: неужели это конец? Захоти Гарольд, он мог бы прямо с завтрашнего дня посадить на своих лошадей других жокеев. У него не было передо мной никаких обязательств. По жокейской классификации я проходил как «вольнонаемный», поскольку в отличие от других жокеев, которым каждую неделю платили тренеры, получал деньги за каждую скачку от владельца лошади. А вольнонаемные не подпадают под статью о «незаконном увольнении».
Наивно думать, что мне все сойдет с рук. Но, с другой стороны, целых три года Бриггс не жульничал и не заставлял придерживать лошадей. Почему же теперь опять? А если они опять взялись за старое, пусть найдут сосунка, который только начинает карьеру, да и жмут из него соки. Дурацкие мысли! Я сам швырнул им свою работу под ноги, как футбольный мяч, и, возможно, в эту минуту они собираются вывести его за пределы поля.
Какая насмешка судьбы! Я никогда не думал, что смогу это сказать. Слова сами нашли путь наружу, как ручей, пробивший новое русло.
Я и раньше не любил проигрывать по приказу, но все же проигрывал… Что же случилось теперь? Почему теперь мне это так отвратительно, что у меня просто в голове не укладывается, как я снова смогу придержать Рассвета, даже ради карьеры.
Когда я успел измениться… так, что сам не заметил? Не знаю. Я только чувствовал, что зашел слишком далеко и повернуть уже не смогу.
Я поднялся наверх и, чтобы не думать о Бриггсе и Гарольде, прочитал отчеты трех детективов.
Двое из них представляли крупные агентства, третий был частным детективом, работающим в одиночку. Каждый с большой изобретательностью старался оправдать полученные деньги – увы, лишь на бумаге. Скрупулезно, шаг за шагом, отчеты рассказывали, что именно не удалось найти за истекший период; как ни странно, все трое не смогли обнаружить примерно одно и то же.
Во-первых, рождение Аманды не было зарегистрировано ни в одном муниципалитете – обстоятельство, немало озадачившее почтенных детективов, но совершенно естественное для меня.
Я сам в свое время обнаружил, что живу на свете, не имея на то законных оснований, когда пришел получать паспорт для поездки во Францию на скачки. Разбирательство растянулось на много месяцев.
Я знал свое имя, имя матери, дату рождения и место рождения – Лондон. Однако официально меня не существовало. Но на мои возражения – «Вот же я!» – мне отвечали: «А есть у вас свидетельство о рождении, чтобы это подтвердить?». Бюрократическая машина изрыгала тонны и мили письменных показаний под присягой, и к тому времени, как я получил разрешение ехать во Францию, закончился сезон.
Детективы перерыли Сомерсет-Хаус в поисках записей об Аманде Нор, возраст – между десятью и двадцатью пятью годами, предположительно родившейся в Суссексе. Несмотря на довольно необычное имя, им ничего не удалось узнать.
Я прищелкнул языком, подумав, что, пожалуй, о возрасте знаю побольше.
Аманда не могла родиться раньше, чем я начал жить у Данкана и Чарли. Прежде я довольно часто видел маму – пять или шесть раз в год; иногда она оставалась со мной на целую неделю, так что, если бы она ждала ребенка, я бы, конечно, заметил. Люди, у которых мне приходилось бывать, часто говорили о ней, думая, что я не слышу. Потом, много лет спустя, я вспоминал, о чем они говорили, но ни один из них никогда даже и не намекал на то, что мама беременна.
К моменту рождения Аманды мне было не меньше двенадцати, так что она сейчас не старше восемнадцати.
Стало быть, верхний возрастной предел – двадцать пять лет – исключался, но исключался и нижний – десять. Мама умерла где-то между рождеством и моим восемнадцатилетием. К тому времени она, по-видимому, отчаялась настолько, что написала письмо своей матери и послала ей фотографию. На фотографии Аманде три года… значит сейчас – если она еще жива – ей по крайней мере пятнадцать.
Скорее всего, шестнадцать или семнадцать. Она родилась в те три года, когда я жил у Данкана и Чарли и вообще не видел матери.
Я вернулся к отчетам…
Детективы указали последний известный адрес Кэролайн Нор, матери Аманды: Сосновая Сторожка, Миндл Бридж, Суссекс. Все трое ездили туда навести справки и уныло сообщали, что, вопреки своему названию, Сосновая Сторожка вовсе не маленький частный отель, где книга гостей ведется бог знает с какого года и каждое имя сопровождается подробным адресом. Это старый, в георгианском стиле особняк, обветшавший настолько, что скоро его вообще снесут. В бывшем танцзале росли деревья, крыша прохудилась, а в некоторых местах ее не было вовсе.
Сосновая Сторожка принадлежала семейству, вымершему четверть века назад. Дом достался их дальним, родственникам, у которых не было ни желания, ни денег, чтобы привести его в божеский вид. Сначала они сдавали дом различным организациям (прилагался их список, составленный агентами по продаже недвижимости), но в последние годы его населяли бродяги и лица без определенных занятий. Здание стало совершенно непригодным для жилья, и теперь даже эта публика съехала оттуда, а пять акров земли, которые занимал особняк, было решено продать с аукциона, но много получить за него хозяева не рассчитывали, ведь покупателю пришлось бы сносить дом.
Я просмотрел списки арендаторов – никто из них надолго не задерживался. Частная лечебница. Монашеский орден. Художники. Военно-спортивный лагерь бойскаутов. Телевизионная компания. Камерный оркестр. Братство Высшей Благодати. Объединение «Заказы – почтой».
Самый упорный из троих детективов постарался собрать все возможные сведения об обитателях особняка, снабдив их собственными нелестными комментариями.
Врачи – умерщвляли пациентов. Лечебница закрыта по распоряжению муниципалитета.
Монахини – выдворены по причине распутства.
Художники – оставили омерзительные стенные росписи.
Скауты – разбили все, что оставалось.
ТВ – искали развалины для съемок фильма.
Музыканты – устроили короткое замыкание во всем доме.
Братство – религиозные психи.
«Заказы – почтой» – тайные извращенцы.
В отчете не были указаны сроки аренды здания теми или иными жильцами. Возможно, у агентов по продаже недвижимости можно узнать и что-то еще. Например, кто из этих чудаков жил в Сосновой Сторожке, когда мама написала бабушке свое отчаянное письмо.
Я это выясню, конечно, если захочу.
Я вздохнул и продолжал читать.
Витрины газетных киосков в окрестностях маленького городка Миндл Бридж пестрели фотографиями Аманды, но никому не удалось узнать ни ребенка, ни конный двор, ни пони.
В течение шести недель детективы давали объявления в различные периодические издания и одну из британских воскресных газет (счета прилагались). Объявления призывали Аманду Нор откликнуться, если она хочет услышать хорошие новости, и написать в адвокатскую контору Фоука, Лэнгли, Сына и Фоука, в Сент-Олбанс, Херц.
Один из детективов, тот, что наиболее упорно собирал сведения о жильцах, снова проявил инициативу и обратился в «Пони-клуб», однако безрезультатно. Аманда Нор никогда не состояла в этом клубе. Потом он послал запрос в Британскую ассоциацию наездников-любителей. Результат был тот же.
Опрос, проведенный в школах в широком радиусе вокруг Миндл Бридж, окончился ничем: ни в новых, ни в старых списках учеников не было никакой Аманды Нор.
Она никогда не обращалась за помощью в муниципалитет графства Суссекс. Ее имя не значилось ни в одном официальном списке. Она никогда не жаловалась на здоровье и не лечила зубы. Не конфирмовалась, не сочеталась браком, не была похоронена или кремирована в пределах графства.
Все детективы пришли к одному и тому же выводу: девочка росла (или растет) в другом месте, возможно, под другим именем и больше не интересуется верховой ездой.
Я сложил отпечатанные страницы и сунул их назад в конверт. Детективы действительно сделали все, что могли, и выразили готовность продолжать поиск в других графствах страны, что, естественно, потребует больших расходов. Успех, однако, не гарантирован.
Их общий заработок уже, должно быть, составил фантастическую сумму. Вряд ли старуха раскошелится на дополнительные расходы. Уж не потому ли она послала меня на поиски Аманды, что мои услуги обойдутся намного дешевле? – подумал я с издевкой.
Я не мог понять ее запоздалый интерес к внукам, о которых она никогда не вспоминала. У нее есть сын, помню, мать называла его «мой мерзкий братец». Ему было лет десять, когда я появился на свет, значит, теперь около сорока, и у него, наверное, есть дети.
Дядя. Двоюродные братья и сестры. Единоутробная сестра. Бабушка.
Родственнички. Нужны они мне, как же! Какое мне до них дело? Да я их знать не хочу. И Аманду искать не стану. Ни за что.
С этими мыслями я встал и пошел на кухню соорудить что-нибудь из яиц и сыра. Потом, чтобы еще какое-то время не думать о Гарольде, достал из машины оранжевую коробку Джорджа Миллейса и, вывалив ее содержимое на кухонный стол, принялся разглядывать на свету.
Зачем он хранил этот хлам? Типичные ошибки, не представляющие никакого интереса. Зря я тащил их домой.
Я взял светонепроницаемый конверт, в котором обнаружил темный снимок, на нем лишь угадывались нечеткие очертания человека, сидящего за столиком. Довольно странно наклеивать такой передержанный отпечаток на паспарту.
Пожав плечами, я вытряхнул фотографию на ладонь… И понял, что в моих руках клад Джорджа Миллейса.
На первый взгляд, вроде бы ничего особенного.
На задней стороне фотографии клейкой лентой был прилеплен светонепроницаемый конверт. Такие конверты осторожные профессионалы используют для длительного хранения проявленной пленки. В конверте лежал негатив фотографии, ясный и четкий, со множеством деталей и светотеней.
Я положил снимок и негатив рядом и сличил их.
У меня не возникало никаких подозрений или предположений, мною двигало лишь простое любопытство, когда я спокойно, от нечего делать поднялся в фотолабораторию и сделал отпечатки девять на двенадцать, каждый при разной выдержке – от одной до восьми секунд.
Но даже самая длительная выдержка не давала нужного эффекта, поэтому я начал снова с наиболее подходящей выдержки – шесть секунд, и держал фотографию в проявителе до тех пор, пока четкие контуры не почернели и не исчезли, оставив серого человека сидеть за столиком на черном фоне. Тогда я вытащил бумагу из кюветы с проявителем и переложил ее в другую – с фиксажем, и наконец получил почти такой же, как у Джорджа, отпечаток.
Передержанные снимки – одна из самых распространенных ошибок фотографа. Если Джордж отвлекся и случайно допустил промах, он должен был просто выругаться и выбросить испорченную фотографию. Почему же он не только сохранил ее, но даже наклеил на паспарту? И еще приклеил сзади чистый четкий негатив?
Лишь когда я включил верхний свет и еще раз внимательно разглядел лучшие из четырех сделанных мной отпечатков, я понял, почему. В полном молчании я сидел в темной комнате, все еще не веря глазам своим.
Наконец, издав нечто вроде свиста, я сбросил с себя оцепенение. Я выключил свет и, когда глаза привыкли к красному лабораторному фонарю, сделал еще один отпечаток на более контрастной бумаге – чтобы получить максимально четкое изображение.
Потом вновь включил верхний свет и, пропустив готовый отпечаток через аппарат для сушки, смог, наконец, насладиться результатом.
Я увидел двух беседующих друг с другом мужчин. Не так давно оба присягали в суде, что никогда не встречались.
Итак, фотография.
Человек за столиком оказался случайным посетителем летнего кафе где-то во Франции. Усатый француз просто зашел в кафе закусить и выпить: перед ним стояла тарелка, а в руке он держал бокал. Кафе называлось «Лапэн д'Аржан». В полузанавешенное окно заглядывала реклама пива и лотерейных билетов, в дверях стоял официант в фартуке. Рядом с входом в кафе висело зеркало, внутри за кассой лицом к улице сидела женщина. Каждая деталь была четкой, с поразительной глубиной резкости. Мастерская работа Джорджа Миллейса. Он, как всегда, был на высоте.
На улице, за столиком у окна кафе, сидели два человека, оба – лицом к камере – и о чем-то сосредоточенно беседовали. Возле каждого стоял наполовину опорожненный бокал с вином, а посередине – бутылка. Кофейные чашки, пепельница, на краю которой лежала недокуренная сигара, – все говорило о том, что разговор был долгий.
Оба были замешаны в истории, ударом грома поразившей весь конноспортивный мир полтора года назад. Элджину Яксли – слева на фотографии – принадлежали пять дорогих стиплеров. Их тренировали в Ламбурне. В конце скакового сезона лошадей отправили на несколько недель местному фермеру на легкий выпас. В один прекрасный день их, прямо на лугу, застрелили из ружья. Это сделал Теренс О'Три – мужчина, что был на фотографии справа.
Два смышленых мальчугана, родители которых считали, что они спокойно спят, навели полицию на преступника: Теренса О'Три опознали и доставили в суд.
Все пять лошадей были застрахованы на огромную сумму. У страховой компании имелись веские причины заподозрить неладное. Директор из кожи вон лез, стараясь доказать, что Яксли сам нанял О'Три на эту грязную работу, но оба упорно отрицали возможность сговора, и суду так и не удалось доказать, что они знакомы.
О'Три утверждал, что застрелил лошадей потому, что ему хотелось… «немного попрактиковаться в стрельбе по живой мишени, понимаете, ваша честь, а почем мне было знать, что это такие ценные скаковые лошади…». Его приговорили к девяти месяцам тюрьмы и рекомендовали пройти обследование у психиатра.
Элджин Яксли с возмущением отвергал все попытки бросить тень на его честное имя и угрожал возбудить против страховой компании судебное дело за клевету, если она тут же не возместит ему ущерб. Ему удалось выжать из них всю сумму, на которую были застрахованы лошади, после чего он загадочным образом исчез с конноспортивной сцены.
Знай директор страховой компании о существовании фотографии, он бы, конечно, предложил за нее большие деньги. Яксли получил по страховке сто пятьдесят тысяч фунтов – сумма огромная, что, собственно, и взбесило страховщиков, внушив им мысль о возможном мошенничестве. Если бы Джордж освободил компанию от выплаты, то получил бы процентов десять – а это пятнадцать тысяч фунтов.
Почему же он не искал вознаграждения… так старательно прятал негатив… и почему его дом три раза грабили? Я никогда не любил Джорджа Миллейса, а очевидный ответ на эти вопросы отвратил меня от него окончательно.





