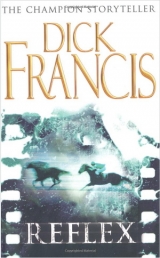
Текст книги "Отражение"
Автор книги: Дик Фрэнсис
Жанр:
Классические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
Глава 13
Каждый, кто занимается цветной фотографией, стремится прежде всего, чтобы люди и предметы на снимках выглядели естественно, а это совсем не так просто, как кажется. Нужная резкость и правильная выдержка – пустяки в сравнении с самим цветом, который почему-то разнится от пленки к пленке, выходит неодинаково на разных типах фотобумаги и даже на бумаге одного типа и места выпуска, но взятой из разных коробок. Дело в том, что четыре сверхтонких эмульсионных слоя, которые наносятся на фотобумагу, слегка варьируются от партии к партии. Опустив в два красильных чана одинаковые куски материи, практически невозможно получить абсолютно одинаковый оттенок – то же и со светочувствительными эмульсиями.
Чтобы сгладить качественную разницу и добиться эффекта «как в жизни», фотограф использует светофильтры – кусочки цветного стекла, которые помещает между яркой лампой увеличителя и негативом. Подобрал светофильтры удачно – и на фотографии голубые глаза выйдут голубыми, а вишневые губы – вишневыми.
К моему увеличителю, как и к большинству ему подобных, прилагалось три светофильтра тех же цветов, что и негативы: желтый, пурпурный и голубой. Смешение ' всех трех давало серый цвет, так что фотографы обычно ограничивались двумя, я, например, всегда работал с желтым и пурпурным. В хорошо рассчитанной пропорции они давали нормальные оттенки: люди на снимках не выглядели слишком желтыми или, наоборот, чересчур розовыми, а по тому, насколько естественным получился цвет человеческой кожи, можно вообще судить о качестве цветной фотографии.
Однако, как ни странно, если наложить пурпурный стеклянный квадратик прямо на желтый стеклянный квадратик и пропустить через них свет, в результате получается красный цвет. А если пропустить свет через желтый и голубой, получится зеленый. А через пурпурный и голубой… яркий лазурный.
Когда Чарли впервые показал мне игру светофильтров, я просто растерялся, потому что от смешения таких же красок получаются совершенно другие оттенки. «Забудь о красках, – говорил мне Чарли. – Ты имеешь дело со светом, а тут совсем иные возможности и цветовые комбинации иные».
И видя, что я все еще сомневаюсь, показал мне шесть цветов света. Он смешивал цвета у меня на глазах, пока их сочетания не отпечатались у меня в памяти навсегда, как буквы алфавита. Только вместо А,В,С в этой азбуке стояли пурпурный, зеленый, голубой.
В то роковое воскресное утро я зашел в темную комнату и надел на головку увеличителя фильтры неслыханного в обычной фотографии сочетания цветов – интенсивный голубой и интенсивный пурпурный, смешав которые, я получил темно-синий.
Пустые цветные негативы Джорджа я собирался печатать на черно-белой бумаге, что, конечно, избавило бы меня от голубого цвета прямоугольников; не исключено, правда, что взамен я получу серые прямоугольники.
Черно-белая бумага чувствительна только к голубым лучам, поэтому можно печатать черно-белые фотографии при красном освещении. Я думал, что если напечатаю негативы через темно-синий светофильтр, то смогу добиться большей контрастности между желтым изображением на негативе и обрамляющей его оранжевой рамкой. Иными словами, требовалось отделить изображение от всего остального.
Я подозревал, что скрывающееся за рамкой изображение в любом случае не черно-белое, потому что иначе я бы увидел его сквозь синее стекло. Проявленные снимки, таким образом, должны были получиться одного из оттенков серого цвета.
Поставив перед собой ванночки с проявителем и фиксажем, я поместил все тридцать шесть чистых негативов в рамку для контактного копирования, которая держала негативы прямо против фотобумаги, когда я пропускал через них свет. Таким образом, проявленные снимки по размерам точно соответствовали негативам и умещались на бумаге размером 20 х 25 см.
Самое трудное – верно определить время выдержки, потому что темно-синий светофильтр приглушает свет гораздо сильнее обычного. Я испортил шесть пробных отпечатков – получились пустые серые или черные снимки, – а маленькие прямоугольники упрямо не хотели раскрывать своей тайны. Что я только ни делал – прямоугольники оставались пустыми.
Вконец раздраженный, я, вопреки всем правилам, сократил время выдержки и получил почти белый отпечаток. Потом, освещенный неяркой красной лампой, он лежал в ванночке проявителя и практически не менялся: только проступили бледные цифры
рамки негатива, а за ним – слабые линии, отделяющие один негатив от другого.
Усталый и подавленный, я оставил его в ванночке проявителя еще на какое-то время – все зря. Тогда, почти отчаявшись, я погрузил снимок в фиксажную ванночку, вытащил и включил свет.
На пяти прямоугольниках из тридцати шести можно было различить бледно-серые геометрические очертания.
Победа! Я нашел то, что искал.
Меня охватила безотчетная глупая радость, и я заулыбался от удовольствия. Вот я и разгадал загадку Джорджа. Почти разгадал. Теперь уж, хочешь – не хочешь, надо довести дело до конца, если я собираюсь занять его место.
Если… Господи, да что это я? Занять место Джорджа вовсе не входило в мои планы – мне и на своем неплохо. Мысль выплыла из подсознания случайной непрошенной гостьей. Не хочу я оставлять скачки. И заниматься фотографией всерьез не хочу.
Уже без улыбки я переписал цифры с рамок пяти проявленных снимков. Потом начал бесцельно бродить по дому, думая, чем бы себя занять, чтобы не переутомиться. Работа нашлась: я прибрал в спальне, вытряс засохшие овощи из корзины, собрал со стола грязную посуду и поставил в мойку. Потом сварил кофе и, попивая его на кухне, решил, что неплохо сходить за воскресной газетой. Но когда я встал из-за стола и сделал несколько шагов, ноги сами привели меня назад, в темную комнату.
Меня влекло туда, как преступника на место преступления.
Теперь я точно знал, какие негативы печатать, и даже догадывался, что предстоит увидеть на готовых фотографиях.
Решив начать с негатива под номером семь, я увеличил его до полного размера бумаги – 20 х 25 см. Пару раз я неверно угадывал время выдержки, и снимки выходили темными и расплывчатыми, но в конце концов добился нужного цвета. Как только изображение достигло наибольшей степени контрастности, я выхватил его из ванночки с проявителем, опустил в закрепитель, снова вынул и, промыв, понес на кухню, чтобы рассмотреть при дневном свете.
Фотография все еще не высохла, но я сразу понял, что именно держу в руках. Это было отпечатанное на машинке письмо. По бледно-серым строчкам можно было предположить, что лента высохла от времени, но буквы вышли все же достаточно четкими, и я без труда прочел:
«Уважаемый мистер Мортон!
Уверен, что вас заинтересуют фотографии, которые я прилагаю к настоящему письму. На первой вы увидите вашу лошадь Янтарь во время скачек в Саутвене, состоявшихся в понедельник двенадцатого мая. Я сфотографировал ее на двухчасовом заезде. Выступила она слабо.
На второй фотографии ваша лошадь Янтарь выигрывает четырехчасовой заезд Фонтуэллских скачек в среду, двадцать седьмого августа.
Присмотревшись, можно заметить, что лошади на фотографиях разные, хотя и очень похожи друг на друга.
Это различие, несомненно, заинтересует членов „Жокей-клуба“, но я могу не торопиться посылать им фотографии, если вы согласитесь на мое предложение.
Ждите звонка.
Искренне ваш,
Джордж Миллейс».
Я прочел письмо раз шесть, не меньше, – не потому, что сразу не понял, в чем тут дело. Просто мне нужно было время опомниться и хорошенько обдумать свое открытие.
Я сделал несколько практических наблюдений,
например, отметил, что письмо без адреса, даты и подписи от руки. Скорее всего, остальные четыре бледно-серых прямоугольника – тоже письма; оставалось только удивляться, как это Джордж додумался хранить переписку в таком виде. Но на этом ясность заканчивалась и начиналась область хаоса. У меня закружилась голова, словно я заглянул в бездонный колодец. Увеличив и прочитав другие письма, я, может статься, не смогу сидеть сложа руки. Помнится, натолкнувшись на фотографию любовников, я почувствовал, что ничего не предпринять – преступная слабость. Ну а если откроются все секреты Джорджа, что тогда? На мою совесть ляжет тяжкий груз. Придется принимать решение… и приводить его в исполнение.
Чтобы как-то потянуть время, я поднялся в гостиную и раскрыл каталоги. Оказалось, что Янтарь выиграл Фонтуэллские скачки двадцать седьмого августа четыре года назад. Я проследил историю лошади от начала до конца. Янтарь выступал в течение четырех лет, обычно дважды в сезон. В незначительных заездах результаты были не блестящие, зато на крупных скачках скакун легко брал первый приз. Последнюю победу Янтарь одержал как раз двадцать седьмого августа, после чего исчез со сцены вовсе.
Порывшись в справочниках, я выяснил, что тренер Янтаря в течение последних четырех лет не фигурировал ни в одном списке, возможно, вообще подыскал себе другую работу. Держал ли «уважаемый мистер Мортон» еще лошадей, и выступали ли они после рокового двадцать седьмого августа, в моих книгах не значилось. Эту информацию можно почерпнуть только из центральных конноспортивных каталогов.
Уважаемый мистер Мортон и его тренер выставляли на скачки двух лошадей: пускали в ход хорошую, когда предстояла крупная игра, а для не слишком выгодных скачек держали про запас лошадь, у которой не было шансов на победу.
Наверное, Джордж заметил подмену и решил сделать фотографии, чтобы потом шантажировать Мортона. А может, и наоборот: сфотографировав лошадь дважды, сличил снимки и заметил разницу.
Самих фотографий я не нашел, так что мне никогда не дознаться, что там было сперва, а что потом.
Я постоял у окна, побродил по дому. Толком не зная, чем заняться, перекладывал предметы с места на место и ждал. Ждал, когда на меня снизойдет приятная уверенность, что я никому ничего не должен. Я кое-что уже узнал сегодня, напечатав остальные негативы, буду знать еще больше – ну и что? Я-то тут при чем?
Я ждал напрасно. И понял: мне не уйти от
ответственности перед самим собой, факты сами плывут мне в руки – стоит только спуститься в фотолабораторию. Я зашел слишком далеко, чтобы остановиться на полпути.
Медленно и нехотя, подгоняемый лишь ощущением неизбежности, я сошел по ступенькам в темную комнату и, напечатав один за другим оставшиеся негативы, снова вышел на кухню и прочел все четыре письма.
Потом фотографии сохли, а я сидел, потеряв счет времени, и глядел в пустоту. Мысли мои путались.
Я думал о том, что, раз попавшись Джорджу на крючок, от него уже невозможно было отвертеться. Каждое письмо внушало жертве страх и отчаяние, тщательно обдуманные и взвешенные слова бледносерых строк изобличали жестокий холодный ум и так явственно, что мне показалось, будто я слышу голос самого Джорджа:
«Уважаемый Баннингтон Форд!
Уверен, вас заинтересует серия фотографий, которые я прилагаю к данному письму. Из них явствует, что по воскресеньям вы у себя на конном дворе регулярно принимаете лицо, „отстраненное от участия в соревнованиях“. Думаю, нет нужды напоминать вам, что руководству подобная продолжительная близость покажется крайне нежелательной и, если это выплывет наружу, ваше право тренировать, скорее всего, будет пересмотрено.
Конечно, я мог бы послать вторые экземпляры фотографий в „Жокей-клуб“, но с этим можно подождать, если вы согласитесь на мое предложение.
Ждите звонка.
Искренне ваш,
Джордж Миллейс.»
Баннингтон Форд, третьеразрядный тренер, которому, как все считали, и дохлой кошки не доверишь, проводил тренировки в низине в Даунсе, и любой из проезжающих мог видеть, что происходит у него на конном дворе. Щелкнуть его по дороге домой, не вылезая из машины, для Джорджа не составляло труда.
Фотографий я не нашел, так что не смог бы ничего предпринять, даже если бы захотел. Джордж не назвал имени дисквалифицированного спортсмена – и слава богу. Это избавляло меня от неприятной обязанности принять решение.
Я начал читать второе письмо:
«Уважаемый Элджин Яксли!
Уверен, что вас заинтересует фотография, которую я прилагаю к данному письму. Как видите, она явно противоречит заявлению, сделанному вами под присягой во время одного судебного разбирательства. Уверен также, что члены „Жокей-клуба“ немало удивятся, когда перед ними ляжет этот снимок; то же могу сказать и о полиции, и о страховой компании. Я мог бы разослать им отпечатки, но с этим можно подождать, если вы согласитесь на мое предложение.
Ждите звонка.
Искренне ваш,
Джордж Миллейс».
В следующем по порядку письме Джордж, видно, решил довести дело до конца. Оно гласило:
«Уважаемый Элджин Яксли!
Рад сообщить, что со вчерашнего дня произошли некоторые события, о которых вам, наверное, будет интересно узнать.
Вчера я посетил фермера, на конюшне у которого вы держали своих злополучных скакунов, и без свидетелей показал ему посланную вам фотографию. Я не скрыл от него, что, скорее всего, будет предпринято новое расследование, где выяснится степень его участия в происшедшей трагедии. Он счел возможным откликнуться на обещание сохранить наш разговор в тайне и снабдил меня увлекательнейшими подробностями дела. Оказывается, лошади живы! А тех, что в назначенном месте в назначенный день пристрелил Теренс О'Три, мой собеседник по
нашей просьбе сам задешево купил на местном аукционе. Теренс О'Три знал о замене.
Ваш друг фермер также подтвердил, что после того, как ветеринар сделал настоящим лошадям укол против сапа и, убедившись, что они совершенно здоровы, отбыл восвояси, вы сами приехали в деревню на автофургоне и лично проследили за тем, как их увозили.
Он считает, что вы переправили-лошадей на Восток, где их уже ждал покупатель.
Прилагаю фотокопию его письменного заявления.
Вскоре я позвоню вам с конкретным предложением.
Искренне ваш,
Джордж Миллейс».
Последний из пяти отпечатков отличался от остальных тем, что заявление фермера было написано от руки, по всей вероятности, карандашом, но буквы вышли того же бледно-серого цвета.
Оно гласило:
«Уважаемый Элджин Яксли!
Я купил лошадей, которых застрелил Теренс О'Три, а настоящих лошадей вы увезли в автофургоне, чтобы переправить на Восток. Заплатили мне за эту услугу хорошо, я не в обиде.
Всегда ваш,
Дэвид Паркер».
Я вспомнил давешнюю самодовольную ухмылку Элджина Яксли… Думал о добре и зле, и справедливости. Об Элджине Яксли – жертве Джорджа Миллейса, и о страховой компании – жертве Элджина Яксли. Думал о Теренсе О'Три, угодившем в тюрьму, и о Дэвиде Паркере, избежавшем наказания.
И не знал, что делать.
Оторвавшись от стула, я на негнущихся ногах вернулся в темную комнату, поместил в рамку оставшиеся негативы и через пурпурный светофильтр сделал почти белый отпечаток. На сей раз на снимке вышло уже не пять маленьких прямоугольников с серым геометрическим рисунком, а пятнадцать.
В ужасе я включил свет, выскочил из темной комнаты и, заперев дверь, отправился на встречу с Гарольдом.
– Ты слушаешь, что я говорю? – рявкнул Гарольд прямо мне в ухо.
Да-да. Что с тобой происходит? Ничего, все в порядке. Что-то не похоже. Ну ладно, повторю еще раз: в среду в Кемптоне ты скачешь на Коралловом Рифе. Коралловый Риф, – прилежно повторил я. – Для Виктора Бриггса. Правильно. Умница. Он что-нибудь говорил о… вчерашнем? Ничего он не говорил, – покачал головой Гарольд. – Мы с ним после скачек пропустили стаканчик. Но ты же знаешь Виктора – не захочет, так из него слова не вытянешь. Все посмеивается, не понятно, с какой радости. Ничего, пока он мне прямо не скажет, что отказывается от твоих услуг, будешь скакать на его лошадях как миленький.
Он протянул мне стакан и банку кока-колы, себе же налил большую порцию виски.
На этой неделе работы немного, – сказал он. – В понедельник и во вторник можешь гулять – Голыш не участвует в соревнованиях в Лисестере: захромал от местного повышения температуры. Остается Коралловый Риф в среду, Ювелир в пятницу и еще два заезда в субботу, если не будет дождя. А как у тебя с другими конюшнями? В субботу еду в Кемптон на скачки для новичков. Черт бы их побрал, этих новичков. Хоть прыгать-то они умеют?
Вернувшись домой, я отпечатал все пятнадцать негативов через голубой светофильтр. Как и на предыдущих фотографиях, пурпурные пятна превратились на белом фоне в серые строчки. К счастью, только первые два письма заканчивались обещанием скорого звонка и интересного предложения. Одно из них, как я и ожидал, предназначалось счастливому любовнику. Прочитав второе, я хохотал до полного изнеможения, а отсмеявшись, подумал, что теперь готов к любым откровениям, – меня уже ничто не удивит.
Остальные тринадцать снимков оказались своеобразной рабочей тетрадью Джорджа. Из нее я узнал, где и когда он делал свои уличающие
фотографии, какую использовал пленку и при какой выдержке; узнал я, и в какие дни Джордж ЛЛиллейс рассылал угрозы. Ему, должно быть, казалось проще и безопаснее хранить взрывоопасный материал в такой форме – не держать же на столе среди бумаг, вдруг кто-нибудь увидит. Записи были чрезвычайно интересны как комментарий к фотографиям и письмам, но ни одна не объясняла, что за предложение делал Джордж своим жертвам и какие суммы ему удавалось извлечь. Я не обнаружил ничего: ни
названия банка, ни номера счета. Джордж мог хотя бы намекнуть на тайник, где прятал деньги, но, видно, оставался скрытным даже наедине с собой.
В тот день я лег поздно и долго не мог заснуть. Утром мне нужно было позвонить в несколько мест. Сперва я набрал номер журнала «Лошадь и Собака», с главным редактором которого был знаком, и, объяснив ситуацию, попросил его поместить фотографию Аманды в ближайшем номере. Он посоветовал привезти снимок в редакцию сегодня же утром, если задержусь – будет поздно, они подписывают номер в печать в первой половине дня.
Буду в течение часа, – пообещал я. – Оставьте место в две колонки шириной, сантиметров семь в длину, и еще на– текст – над и под фотографией… В общем, сантиметров одиннадцать. На следующей за оборотом титула странице, справа, так, чтобы бросалось в глаза. Ну, Филип, это уж чересчур, – запротестовал было он, потом шумно вздохнул, и я понял, что он выполнит мою просьбу. – Да, кстати, Филип, вы ведь занимаетесь фотографией. Если у вас есть снимки скачек – привозите, поглядим. Мне нужны люди, не лошади. Портреты. У вас есть? Да. Отлично. И не тяните с этим делом. Ну, жду.
Узнав от Мари Миллейс телефон лорда Уайта, я
позвонил ему на виллу в Котсуолдс.
Вы хотите поговорить со мной? – удивился Старина Сугроб. – А, собственно, о чем? О Джордже Миллейсе. А, фотограф. Тот, что недавно умер?
Да, сэр. Его жена дружна с леди Уайт. Знаю, знаю, – нетерпеливо проговорил он. – Можем встретиться в Кемптоне, вас устроит?
Я ответил, что мне было бы удобнее зайти к нему домой, надеюсь, он не против. Старина Сугроб восторга не выразил, но все же согласился уделить мне полчаса и сказал, что будет ждать меня завтра в пять.
Покончив с этой тягостной обязанностью, я положил на рычаг липкую от вспотевших ладоней трубку. Противно. Может, лучше перезвонить лорду Уайту и отменить завтрашнюю встречу?
Потом я позвонил Саманте: разговор с ней вышел куда приятней предыдущего. Я спросил, не хотят ли они с Клэр поужинать со мной. Ее сердечный голос еще больше потеплел от удовольствия.
Сегодня? – спросила Саманта. Да. Я не смогу. А вот Клэр пойдет с радостью. Правда? Ну конечно, дурачок. Когда?
Я ответил, что заеду за Клэр около восьми. «Вот и чудненько», – сказала Саманта и спросила, как идут поиски Аманды, удалось ли мне напасть на след? Я начал рассказывать о своих делах запросто, словно знал ее всю жизнь. Да так оно в общем-то и было.
Отведя душу, я поехал в редакцию и передал фотографию и подпись: «ДЕСЯТЬ ФУНТОВ НАЛИЧНЫМИ. Мальчики и девочки! Знаете, где эта конюшня? Первый, кто сообщит Филипу Нору по телефону… получит ДЕСЯТЬ ФУНТОВ НАЛИЧНЫМИ!»
Мальчики и девочки? – удивленно переспросил редактор. – Думаете, они читают наш журнал? Не уверен. Но их мамаши читают.
Ненадежная публика.
Просмотрев папку с моими работами, редактор сказал, что начинает печатать серию портретов «Мир скачек»: нужны новые, нигде не опубликованные
снимки. Мои подходят. Не соглашусь ли я продать несколько фотографий?
Ммм… да. Гонорар получите по стандартным расценкам, – заметил он вскользь, и я согласился, лишь некоторое время спустя решившись спросить, каковы же они, эти стандартные расценки. И тут же устыдился своего вопроса. Стандартные расценки словно зачеркивали радость, которую приносило мне любимое дело, причисляли к определенному клану людей, занимающихся фотографией ради денег. Я с раздражением думал о стандартных расценках. Но от гонорара все же не отказался.
Когда я заехал за Клэр, Саманты дома не было.
Заходи, сперва выпьем немного, – сказала Клэр, широко распахнув передо мной дверь. – Ну и погодка!
Я шагнул через порог из ноябрьской стужи и сырости. Клэр повела меня не вниз, на кухню, а в длинную, мягко освещенную гостиную, занимавшую почти весь первый этаж. Я огляделся: уютная, но незнакомая комната.
Узнаешь? – спросила Клэр.
Я покачал головой.
Ну-ка, скажи, где ванная? На втором этаже, первая дверь направо, голубой кафель, – ответил я без запинки. Прямо из подсознания, – засмеялась она. – Странно, правда?
В дальнем углу горел голубой экран, мелькали чьи-то лица. Клэр выключила телевизор.
Может, хочешь досмотреть? А, – она махнула рукой, – ерунда. Очередная лекция о вреде наркотиков. Горе-специалисты. Несли тут какую-то чушь. Ну что, выпьем? Чего тебе налить? Есть вино…
Она показала на уже открытую бутылку бургундского, и мы решили ее прикончить.
До того, как ты пришел, выступал какой-то дохляк, – сказала Клэр, – и вешал лапшу на уши: дескать, каждая пятая женщина принимает успокоительное, а из мужчин – только каждый десятый. Объяснил это тем, что бедные крошки ну совершенно не приспособлены к жизни – хрупкие беспомощные лапочки. Смех. Почему? Думаю, врачам, выписывающим рецепты, и в голову не приходит, что эти хрупкие беспомощные
лапочки делают с лекарствами, – ухмыльнулась Клэр.
А они, между прочим, премиленько добавляют их мужу в суп, и в котлетки, и в десерт, и тот все проглатывает, когда приходит с работы.
Я расхохотался.
Зря смеешься. Так оно и есть. Ну, например, если у бедной крошки муж – здоровенная тупая скотина и поколачивает ее, или она хочет, чтобы он поменьше приставал к ней с глупостями, – чего проще: подмешиваешь славный, совершенно безвкусный порошок муженьку в компот – и никаких проблем. Какая великолепная теория! Это не теория. Это суровая правда жизни.
Мы сидели друг против друга в обитых бледным бархатом креслах и потягивали холодное вино. Пастельных тонов обои и мебель, приглушенный свет, и на этом фоне ярким живым пятном, в черных брюках и алой шелковой блузке,
Клэр. Девушка, твердо стоящая на земле и знающая, чего хочет. Уверенная в себе. Решительная и умная. Не то что нежные нетребовательные создания, которых мне случалось приводить домой. В субботу смотрела скачки, – сказала она. – Тебя показывали по телевизору. Не думал, что ты интересуешься скачками. С тех пор, как увидела твои фотографии, не пропускаю ни одной. – Она сделала глоток. Послушай, ты жутко рискуешь. Не всегда.
Она спросила, почему, и я, к своему удивлению, рассказал ей все.
Но ведь это нечестно, черт побери, – сказала она, поморщившись. Жизнь – сплошная нечестность. Приходится с этим мириться. Мрачная философия. Не обращай внимания. Немного рисуюсь, вот и все. На самом деле я принимаю жизнь такой, какая она есть. Думаю, что ни делается, все к лучшему.
Клэр покачала головой и, допив до дна, спросила:
А если всерьез расшибешься, что тогда? Смотри, накаркаешь.
Да нет, ты меня не понял. Я хочу спросить, что тобой будет в плане работы? Залижу раны – и снова в седло. Пока болеешь, лучшие лошади достаются другому жокею. Блеск. Ну, а если останешься инвалидом? Тогда плохи мои дела. Ни скачек, ни денег мне больше не видать. Придется искать посильную работу. А если погибнешь? Ну, это вряд ли, – ответил я. Думаешь, ты заговоренный? Конечно.
Она внимательно изучала мое лицо.
Впервые встречаю человека, который так, между прочим, рискует жизнью по пять дней в неделю. Ты преувеличиваешь. Но если действительно не повезет, существует Фонд помощи жокеям-инвалидам. Что это за фонд?
Он в основном складывается из частных пожертвований и занимается всякого рода благотворительностью: поддерживает вдов и сирот по
гибших жокеев, оказывает помощь тем, кто на всю жизнь обречен ходить на костылях или прикован к постели или инвалидной коляске; следит, чтобы на старости лет жокеям-инвалидам не пришлось побираться ради куска хлеба или брикета угля.
Хорошее дело.
Мы допили вино и, немного погодя, поехали в небольшой французский ресторанчик, стилизованный под деревенский трактир: низкие, грубо
сколоченные столы из некрашеных досок, тростник на полу и оплывшие свечи, воткнутые прямо в бутылки. Еда оказалась такой же непритязательной, как и убранство, и, конечно, ничего общего с французской кухней не имела, но Клэр, казалось, что ничуть не смущало. Мы ели телятину под белым соусом и старались не вспоминать, каков он на вкус во Франции, куда Клэр, так же, как и я, часто ездила, правда, не участвовать в скачках, а просто отдыхать.
Поедешь в этом году во Францию? – спросила Клэр. После Рождества. Здесь все замерзает, и тогда
скачки устраивают в Кан-сюрмер – на Южном побережье.
Здорово. Там тоже будет зима, и я еду работать, но в общем-то, действительно, неплохо.
Она снова заговорила о фотографии: хорошо бы заехать ко мне в Ламбурн и еще раз посмотреть «Жизнь жокея».
Не беспокойся, если передумала, я не обижусь. Что значит передумала? – она заметно заволновалась. – Ты ведь никуда не продавал эти фотографии, правда? Ты обещал не продавать. Эти – нет. Что ты имеешь в виду?
Я рассказал ей о «Лошади и Собаке», о Лансе Киншипе, о том, как – вот уж не ожидал – многие заинтересовались моими работами.
И все с моей легкой руки, – заключила Клэр со знанием дела. Покончив с телятиной, она откинулась на спинку стула, лицо приняло серьезное, задумчивое выражение. Тебе нужен агент, – сказала она.
Я ответил, что ищу агента для Мари Миллейс и мог бы сам заодно воспользоваться его услугами, но она и слушать не захотела.
Первый попавшийся агент тебе ни к чему. Я хочу стать твоим агентом. А почему бы и нет? – улыбнулась она, глядя на мое вытянувшееся от удивления лицо. – Ну что особенного делает агент? Изучает рынок и продает товар. Продать твой товар ничего не стоит, это ясно, как день. А конъюнктуру рынка я быстренько изучу, обещаю. Значит так, если тебе через меня предложат проиллюстрировать книгу – неважно, на какую тему – ты согласишься? Да, но… Никаких но, – отрезала Клэр. – Что за смысл делать такие потрясающие снимки, если их никто не видит? Но фотографов тысячи… Откуда такие пораженческие настроения? И тысяча первому место найдется.
Горела свеча, скуластое лицо Клэр казалось смугло-розовым, как персик: пламя бросало палевые отблески на упрямый подбородок, нежные щеки,
шею. Сер;е глаза твердо смотрели в будущее, перед которым я Что-прежнему робел. Практичная головка. Интересно, ^сли я сейчас скажу, что хочу ее поцеловать, чтр она ответит? Думает-то она совсем о другом.
Мне кажётся, у меня получится, должно получиться, – сказала Клэр убежденно. – Хочется попробовать. Ну что, по рукам? Если не справлюсь, сразу скажу, чтобы искал себе другого агента.
«Кого хочешь заставит плясать под свою дудку», – вспомнил я слова Саманты. Ну да ладно, что ни делается, все к лучшему.
Сдаюсь, – сказал я, верный своей философии. Вот и отлично, – обрадовалась Клэр.
Потом я отвез ее домой и таки поцеловал у дверей. По-моему, она была не против.





