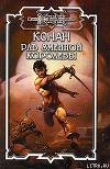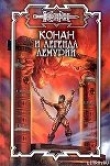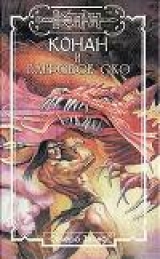
Текст книги "Багровое око"
Автор книги: Дэниел Уолмер
Жанр:
Героическая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 24 страниц)
Шумри не сумел бы потом рассказать, о чем он думал и что чувствовал в те часы и дни. Он просто греб и греб, с рассвета до стремительно падавшей на джунгли ночной темноты, а затем проваливался в короткий, не дававший ни отдыха, ни расслабления, сон. Во сне он снова и снова содрогался от предсмертного крика озерного бога, хохота Конана, умирающих звуков там-тама…
Он был благодарен киммерийцу за то, что тот все время молчал. За исключением самых необходимых фраз, он также не произносил ни слова. Целые дни проходили в молчании, нарушаемые лишь звуками тяжелого дыхания, со свистом рвущегося из груди Шумри, не привыкшего к долгому физическому труду, да всплесками весел.
Грести теперь было необязательно – они плыли вниз по течению, и можно было лишь править веслом, но немедиец напрягал мышцы спины и плеч, стремясь как можно скорее оставить далеко за собой опустевшее селение ушедших вслед за своим богом бесхитростных детей, так любивших танцы, яркие перья и звон костяных колец…
Безымянная речка, по которой он плыл, брала начало в том же озере, что и великий Стикс. Правда, текла она не на юг, а на юго-запад, но Шумри, лишенный выбора, не колеблясь, направил пирогу по ее водам.
В течение пяти дней по берегам не встречалось ни одного признака человеческого жилья. Утром шестого дня, заслышав шорох в кустах на берегу и слабый скрип натягиваемой тетивы, Шумри мгновенно бросил весло, встал во весь рост, едва не перевернув при этом пирогу, и поднял вверх открытые ладони. Он несколько раз прокричал на языке Детей Ба-Лууун: «У меня нет оружия! Я не хочу войны! Я прошу у вас помощи!»
Быстрая реакция и тонкий слух спасли их с Конаном. Увидев беззащитные ладони и услышав слова на знакомом языке, туземцы опустили луки и вышли из своего укрытия. Спустя недолгое время путники обрели временный кров в селении Людей Леопарда, как называло себя это новое, встретившееся на их дороге племя. Люди Леопарда с первого взгляда очень походили на детей озерного бога: такие же низкорослые, буйно курчавые, питавшие слабость к ярким перьям и костяным украшениям. Но, как выяснилось очень скоро, были не в пример суровее и воинственнее. Мужчины почти не расставались с луками и каменными топорами. Глаза их глядели на чужеземцев настороженно и недоверчиво. Впрочем, лед немного растопили монеты Конана – их еще оставалось достаточно в его дорожном мешке. Цену золота туземцы, конечно, знать не могли, но веселый блеск солнечных кружочков, тонко вычеканенный профиль аквилонского короля безмерно их поразили и позабавили. Мужчины тут же бросились сверлить монеты острыми кристаллами кварца, чтобы продеть их в носы, губы и уши.
Вождю племени – высокому (по туземным меркам), с горделиво расправленными плечами и выпяченной грудью, что придавало ему сходство с длинноногой болотной птицей – предусмотрительный немедиец отвалил целую горсть монет. Он объяснил ему, что его спутник – могучий и знаменитый воин северных земель – повредил спину, упав с кокосовой пальмы. Если кто-нибудь среди Людей Леопарда сможет его вылечить, Шумри оставит племени много веселых желтых монет, а также ряд других интересных и полезных вещиц.
Вождь распорядился, чтобы Конана отдали на попечение старухи-знахарки. То была женщина лет под девяносто; сухая морщинистая кожа и почти полное отсутствие плоти придавали ей сходство со стигийской мумией, но мумией живой и подвижной, сохранившей к тому же превосходные зубы и острое зрение. Когда она вскидывала на Шумри маленькие глазки из-под седых, похожих на пучки иссохшего мха, бровей, тому казалось, что в него втыкают короткие, но очень острые лезвия.
В хижине старухи остро, горько и пряно пахло от всевозможных сухих трав и многочисленных мазей и притираний, хранящихся в мешочках из змеиной кожи, отличающихся друг от друга узором и цветом.
Киммерийца устроили в углу, на ворохе мягких шкур. Поскольку никто из членов племени не выразил ему явных знаков гостеприимства, Шумри ночевал в этой же хижине, позаимствовав у неподвижного спутника пару шкур. Дни же он старался проводить подальше от хижины и ее хозяйки, внушавшей ему невольный страх своими пронзительными глазами.
Неожиданно для себя немедиец полюбил то, к чему не вмел склонности прежде: ставить силки на зверя, ловить руками рыбу в ручье, забираться в поисках сладких медовых сот на самые высокие деревья. И получалось у неговсе не хуже, чем у коренных обитателей джунглей. Каждый вечер он приносил женщинам племени то тушу антилопы, то полную корзину рыб, то груду крокодильих яиц – и с полным правом принимал участие в общих трапезах.
Но не только возросли его навыки охотника, добытчика и старателя – он обнаружил в себе и другие новые и странные привычки. Так, прежде чем послать стрелу в зверя, он на миг вкладывал каменный наконечник в рот, словно уже ел пораженную и зажаренную добычу. А когда ему приходилось забираться в особенно густые джунгли, он привязывал себе на одежду кожу лягушки: став скользким, как это животное, он сможет легко впутываться из самых цепких и колючих кустов.
Как-то раз, раскачавшись на длинной и прочной лиане я перелетев с ее помощью через реку, Шумри с удивлением подумал, что еще пол-луны назад совершить такое для него было бы немыслимо. Что произошло с ним, с его телом, со всей натурой?.. Ему вспомнились последние слова девушки из племени озерного бога: «Ты станешь уметь все то, что умела Айя-Ни…» Неужели и впрямь ее нежная душа вошла в него при последнем выдохе, и все ее дикарские навыки, способности и предрассудки перешли теперь к нему?.. В это трудно было поверить. Поразмышляв основательно, немедиец усмехнулся: помнится, девушка сказала еще, что теперь ее дух устами Шумри будет разговаривать с Конаном. На это как раз и не похоже: по-прежнему он говорил с киммерийцем только в случае крайней необходимости. Нет, видимо, все его новые навыки и туземные привычки – результат гибкости и восприимчивости натуры, изменившейся и приспособившейся, чтобы выжить.
Конан на молчание отвечал таким же молчанием. Только в первый вечер того дня, когда четверо дюжих туземцев перенесли его из пироги в хижину старухи, он обратился к немедийцу, с видимым усилием выдавливая из себя слова.
– Пошли кого-нибудь из них в племя Ба-Лууун. Дай им побольше золота. Пусть разыщут Айя-Ни и скажут ей, что я ранен и что я зову ее.
Шумри отвернулся. Он до сих пор не сказал киммерийцу, что племени Ба-Лууун больше не существует. Но когда-то это сделать все равно придется. Не поворачиваясь, он ответил:
– Айя-Ни нет больше Никого из них больше нет. Конан не произнес ни звука, и немедиец, не в силах делить с ним это молчание, бросился вон из хижины и бродил по джунглям до глубокой ночи.
Каждый вечер старуха-знахарка с помощью Шумри и одного из туземцев осторожно приподнимала тело Конана и переворачивала на живот. Она втирала очень вонючую, похожую на деготь, мазь в какие-то видные ей одной точки на шее, плечах и пояснице варвара. Затем плавными движениями, не касаясь тела, водила ладонями вдоль его спины – вверх и вниз, справа налево, по кругу. При этом она пела. Неожиданно звонкий и сильный для ее возраста голос выводил звуки, то быстрые, резкие и яростные, то нежные, похожие на колыбельные напевы, которые поют своим младенцам все матери на свете. В этом заключалось все лечение. После песни и взмахов ладоней киммерийца снова осторожно переворачивали на спину и оставляли с самим собой.
Дня через три, когда знахарка, окончив очередной сеанс лечения, оставила раненого в покое, Конан снова заговорил:
– Дай мне мой кинжал, Шумри.
Немедиец отрицательно покачал головой. Он был готов к такой просьбе. Тело Конана было полностью неподвижно ниже пояса, руками же, шеей и головой он шевелить мог, хотя и с большим трудом. Возможно, для того, чтобы пронзить себе сердце, сил у него не хватит, но перерезать острым туранским лезвием горло – с этим справится и совершенно лишенный сил человек.
Конан прикрыл глаза. Если бы немедиец знал, сколько раз за день он мысленно сжимал в ладони верную, крепкую рукоять и с наслаждением погружал узкое лезвие между ребрами в левой стороне груди! По тысяче раз убивал он себя мысленно и днем, и бессонными ночами.
О Кром! Последнее священное право, которое даровал ты своим детям, право самому уйти из жизни, если нельзя продолжать ее дальше так, как подобает воину, – отнято у него злосчастной судьбой.
Когда-то Конан слышал, что очень далеко на востоке, за загадочным Кхитаем, живет народ юки, чьи воины умеют уходить из жизни при любой ситуации, даже будучи связанными по рукам и ногам. Кажется, они Прокусывают себе языки, сглатывают кровь – так, чтобы ни один мускул на лице не дрогнул и враг ни о чем не смог догадаться – и умирают спустя недолгое время от потери крови. Великое и мужественное искусство! Но обучают ему с ранних лет, путем долгих тренировок на животных…
– Шумри, – заговорил он снова, – я знаю, что ты враг мой. Ты проклял меня. Я никогда ничего не прошу у своих врагов. Но – клянусь Кромом! – протянуть кинжал труд небольшой. Разве жажда мщения в твоем сердце еще не утолена? Взгляни, во что превратилось мое тело! Порадуйся – и дай мне уйти.
Шумри резко вскинул голову. Румянец гнева опалил его лицо. Вот оно что! Значит, Конан считает, что он не дает ему оружие из мести?! Он тащил его по берегу, вез в пироге, умолял о лечении вождя Леопардов – и все это лишь затем, чтобы наслаждаться видом поверженного, беспомощного тела?.. Он едва сдержался, чтобы, отцепив Кинжал от пояса, не бросить его на грудь киммерийцу.
– Конан, – погасив ярость, Шумри заговорил почти спокойно, – я клянусь тебе, что как только старуха скажет, что лечить тебя бесполезно и ты никогда не встанешь, я тут же дам тебе кинжал. Или меч. Или чашу с ядом. Все, что захочешь.
– Старуха скажет! – Конан расхохотался – насколько вего положении эти звуки могли произвести впечатление смеха. – Ты даешь ей один золотой в день за мое лечение, не так ли?
– Да, – подтвердил немедиец.
– Так сделай наоборот, недоумок! Не давай ей ничего, но скажи, что в день, когда я встану на ноги, ты выложишь ей столько золота, сколько она захочет!
– Я так и сделаю, – коротко ответил Шумри. На следующий день он объяснил старухе, что больше не будет давать ей денег, пока больной не поднимется.
Та не выразила ни удивления, ни неудовольствия. Вечерний ритуал был все тот же: растирание, пассы, пение.
– О Кром! – ворчал киммериец. – Объясни ей, что от ее воплей мне не лучше, а гораздо хуже. Пусть лечит молча!
Шумри сказал старухе несколько слов. Язык Ба-Лууун был очень схож с языком Леопардов, и они без труда понимали друг друга. Старуха ответила. Она говорила довольно долго и с большим чувством, а в конце своей речи выразительно фыркнула, взмахнула руками и три раза сплюнула на пол.
– Она говорит, – повернулся Шумри к киммерийцу, – что поет не тебе, но твоему позвоночнику. Если тебе так уж противно, ты можешь заткнуть уши. От звуков ее песни происходит заживление всего, что было насильственно порвано в твоем теле. И еще она говорит, что ты давно мог бы встать, если бы захотел.
– Что?!
– Ты давно мог бы встать, – повторил Шумри, – если бы хотел этого достаточно сильно.
– Так, по-твоему, мне нравится лежать здесь, как тупое бревно, как дохлая туша, как… как… – от ярости Конан поперхнулся и закашлялся.
– Не по-моему, а по ее, – спокойно поправил немедиец, переждав хриплый шторм кашля. – Она сказала, что если еще через несколько дней ты не встанешь, она своими руками вышвырнет тебя из хижины, и плевать ей на все твое золото.
Но Конан все не вставал. Оставшись наедине с собой, когда не на кого было выплеснуть ярость, презрение и сарказм, он не мог не согласиться в глубине души, что старуха права. Он хочет встать, но, видимо, не достаточно сильно. Сильнее – о, гораздо сильнее! – хотел бы он сжать рукоять кинжала и нанести вожделенный удар. «Кром! Позволь мне уйти, суровый владыка! Сколько душ переправил я в прохладный сумрак Серых Равнин, позволь же теперь и мне от одного короткого и точного удара отойти, отлететь, откатиться кубарем, провалиться – неважно как и куда, но – отсюда!..» Пусть скорее старуха вышвырнет его из своей хижины. Возможно, кто-то из ее соплеменников окажется милосерднее немедийского проходимца.
Стоило Конану хоть на мгновение прикрыть веки, как на внутренней их стороне тут же возникало лицо Айя-Ни, огромные глаза ее, то ласковые, то озорные, шевелящиеся от дыхания лазоревые перья, стремительные и нежные руки. Неужели всего этого нет больше?.. Неужели осталась только тень, полупрозрачная, зыбкая, тихо стонущая на бескрайних и однообразных Серых Равнинах? Но отчего тогда в памяти Конана она так полнокровна, так солнечна – до рези в глазах?..
…Вот Айя-Ни встает на колени перед тушей пантеры, которую киммериец только что выпутал из сетей охотничьего паука Шохи. Она что-то горячо объясняет мертвому зверю, то прижимая ладони к левому его боку, то касаясь ими своей груди. Она просит прощения за то, что они лишили пантеру жизни: племени нужна еда, нужна теплая шкура, на которой совсем скоро будет спать маленький будущий вождь. Конан смеется: неужели она всерьез воображает, что холодеющий труп слышит ее? – но девушка косится в его сторону строго и укоризненно и продолжает просить прощения – и за смех киммерийца в том числе…
Вот она показывает ему глубокой ночью на светло-туманную полосу, протянувшуюся через весь небосклон. «Это дорога, по которой души уходят на небо после смерти. Очень много душ уже умерло, поэтому она такая Широкая и утоптанная». – «И куда же они идут?» – спрашивает Конан, просто чтобы подыграть ей. Он-то знает, что после смерти души идут не на небо, но в противоположную сторону. «Они идут каждый на свою звезду. Айя-Ни знает несколько племен: одно в трех днях пути от селения Ба-Лууун, другое в пяти, третье в десяти днях. И все они верят, что звезды, куда они переселяется после смерти, сияют тем ярче, чем больше человеческих глаз съедено ими за время земного существования. Но дети Дверного бога знают, что это не так! Это очень большая тайна. Трое старейшин хранят ее. Айя-Ни ничего не может сказать…»
«О Кром! Справедливый Кром, равнодушный Кром, смеющийся над трусами и слабаками! Я не досаждал тебе просьбами и молитвами. Ни у богов, ни у врагов, ни у женщин я никогда ничего не просил. Но на один миг, всего на один лишь миг верни былую подвижность моей спине! Чтобы я мог дотянуться до кинжала или меча, которые немедиец кладет себе под бок, когда засыпает…»
Глава 9. Честь, оказываемая пленнымГлавное отличие Людей Леопарда от племени Ба-Лууун состояло в том, что у них существовали враги. Похоже, что врагами были все окрестные племена. То и дело чернокожие охотники, возвращаясь из джунглей, вместо туш зверей приносили и с гордостью показывали соплеменникам отрезанные головы несчастных, встретившихся на их пути и оказавшихся менее удачливыми. Случалось и наоборот: уходившие на охоту больше не возвращались, становясь предметами горделивой радости удачливых мужчин из соседних племен. Надо сказать, именно благодаря такому порядку вещей Шумри, отправляясь за добычей либо на прогулку, старался держаться не далее пятиста шагов от селения и чутко прислушивался к шорохам в кустах.
Однажды, вместо отрезанных голов в селение привели с охоты двух живых и невредимых врагов со связанными за спиной руками, Охотники, чьей добычей они оказались, были особенно горды, особенно громко вскрикивали, то и дело в радостном возбуждении втыкая копья в песок возле своих босых ступней с растопыренными пальцами.
Шумри спросил у одной из женщин, показавшейся ему более приветливой и словоохотливой, чем остальные, какая Участь ожидает пленных. Женщина радостно ответила, что их ожидает большая честь – их отдадут Великому Леопарду.
«О Митра! – вздохнул про себя немедиец. – Всюду одно и то же! Стоило забираться в такую даль… В Стигии – Великий Змей, в глуши юга – Великий Леопард, и тот и другой – вечно голодны, набить их великие желудки – большая честь…»
Приготовления к торжеству были возбужденными и спорыми. Довольно быстро все члены племени собрались вместе, образовав тесный крут на главной поляне селения, возле горящего днем и ночью костра.
Шумри разрывался между желанием уйти как можно дальше и тягой остаться и стать свидетелем нового для него зрелища. Его хваленое любопытство, разумеется, пересилило, но все же он пошел на компромисс, пообещав себе, что как только зрелище станет совсем отвратительным, он тут же уйдет. Поэтому и место в кругу зрителей он позаботился занять так, чтобы, с одной стороны, ему были хорошо видны главные действующие лица, но в то же время можно было, не привлекая особого внимания, покинуть поляну в случае необходимости.
Пленников развязали. Одни из них был совсем молод, не больше семнадцати лет. Другому с виду было около тридцати. Они старались не выказывать ни отчаяния, ни испуга, и лишь по оцепенелости их фигур да звериной тоске в глазах было видно, что они догадываются – либо знают точно – о деталях предстоящей им казни.
Больше всего Шумри удивляло, что жертвоприношение Великому Леопарду совершается прямо в центре селения. А если зверю окажется мало двух жертв для насыщения своего голода? Если он захочет увеличить их число, будет ли он отличать своих от чужих?.. Матери не боялись за своих маленьких детей и не прятали их – напротив, Проталкивали в самые первые ряды, поближе к будущим участникам действа.
Загудели большие там-тамы, легко затрещали маленькие барабанчики, величиной чуть больше ладони. Разговоры, шепот, смех, позвякивание колец и продетых в носы и уши золотых монет Конана – все стихло. Наступил священный и торжественный миг. Толпа расступилась, Пропуская кого-то в центр круга. Немедиец ожидал, что это будет леопард – большая пятнистая кошка с круглыми ушами, но с удивлением узрел, что рассек толпу и остановился в четырех шагах от пленных не зверь, но человек. Несомненно, он был одним из членов племени, но, Шумри видеть его до сих пор не приходилось, увидев раз подобное существо, забыть бы его потом он не смог. Это был человек лет пятидесяти, татуированный головы до ног очень странным образом. Рисунок был нанесен белой краской на черную, как деготь, кожу таким образом, что получалось впечатление черных пятен на белой шкуре. Той же краской на лицо были нанесены тонкие полоски в виде кошачьих усов на верхней губе и бровей на лбу. Что самое странное, глаза у незнакомца были не темно-карие, как у остальных туземцев, но желтые, с очень маленькой и жесткой точкой зрачка, что придавало ему еще большее сходство с мордой тотемного зверя.
Под учащающийся ритм барабанов человек-леопард закружился вокруг пленных, обреченно поводящих глазами вслед его движениям. Он то крался на согнутых ногах, опираясь на землю руками с растопыренными пальцами, то замирал, затаивался, выжидая время для прыжка, а затем пятнистой дугой рассекал пространство, Верхняя губа его приоткрылась, сморщилась, показывая очень белые зубы, и сдавленное рычание то и дело перекрывало гул там-тамов.
Его танец по-настоящему завораживал. Шумри следил за ним, не отрывая глаз, ни о чем не думая, став единым целым со всей чернокожей толпой. Он не заметил, не успел отметить в сознании, каким образом человек-леопард стал настоящим леопардом. Он только видел, что по поляне уже крадется, сужая круги вокруг двух застывших жертв, гигантская пятнистая кошка – ощерившаяся, с прижатыми ушами, с голодным и яростным огнем в желтых глазах.
Леопард замер. Присев на задние лапы и задрав морду, он издал грозный рев, от которого сердце немедийца заледенело. Там-тамы смолкли. Толпа, как один человек, затаила дыхание и еще шире – хотя шире, казалось, было уже невозможно – распахнула глаза. Зверь приготовился к прыжку – и на этот раз не ритуальному, а настоящему. Судорога нетерпения прошла по его шерсти от загривка до хвоста, длинный хвост широко раскачивался, взметая белую пыль. Зверь подобрался и прыгнул, выбрав в качестве первой жертвы более старшего пленника…
В тот момент, когда нижние лапы леопарда оторвались от утоптанной глины поляны, Шумри зажмурился, преодолев наваждение. Видеть, что произойдет дальше, он не хотел и не мог. Повернувшись, он стал проталкиваться сквозь жадно дышащую толпу с красными от прилива Крови белками безумных глаз. В ушах его стоял крик пленника, сбитого зверем с ног. Он тут же перешел в хриплый клекот, а затем вовсе угас. Гораздо громче кричала возбужденная толпа – потрясая кулаками, хлопая в ладоши, выбивая пыль крепкими пятками босых ног…
Нервы у Конана сдали не то на восьмой, не то на девятый вечер. Когда старуха подошла к нему, как обычно, готовая переворачивать на живот, поводить руками и петь, киммериец закричал на нее так страшно и дико, как только мог. Он хотел оттолкнуть ее, но руки плохо ему повиновались – зато крик вышел славный, во всю немалую мощь его легких и голосовых связок. Знахарка не испугалась и не удивилась. Она только скривилась презрительно, словно увидела что-то непристойное, и несколько раз, по своей привычке, сплюнула на земляной пол хижины.
– Ты с ума сошел? – спросил видевший все это Шумри. – Она же вышвырнет нас вон! Кроме нее, никто не поставит тебя на ноги, ты что, не понимаешь?!
– Ну и что, – пробормотал киммериец. – Пусть вышвыривает. Я жду этого не дождусь.
«Еще лучше, – подумал он, не сказав вслух, – если она поднесет мне вечером вместо питья туземного яду. Он действует быстро и наверняка».
Но старуха не стала прибегать к яду – она отомстила за оскорбление по-иному.
Утром следующего дня Шумри хотел было отправиться на свою обычную охоту-прогулку. Он был несказанно удивлен, когда двое туземцев, едва он вышел из хижины старухи, преградили ему путь, недвусмысленно поигрывая топорами. На его возмущенные расспросы они ничего не отвечали, лишь на их лице играли загадочные улыбки. Наступая на немедийца и тесня его, они заставили Шумри вернуться в хижину.
Недоумение разрешила старуха. Она охотно объяснила Шумри, что ночью видела сон – как синеглазый воин севера убил озерного бога и увел тем самым из этого мира все племя его детей. Он не падал с кокосовой пальмы – рану свою он получил в этой битве. Точно так же, лишь только встанет на ноги, он хочет уничтожить и племя Леопарда. Поэтому, пока он не встал, его необходимо принести в жертву Великому Леопарду. Вместе с ним, конечно, честь будет оказана и его спутнику, который так ловко болтает на их языке и сорит блестящими желтыми кругляшами. Она говорила бесстрастно, помешивая когтистым пальцем одно из своих снадобий в ореховой скорлупе, но в маленьких пронзительных глазках под пучками седых бровей плясали искры злорадного торжества.
Слышать все это было так дико, особенно после безмятежного времени, проведенного среди детей озерного бога, таких же с виду туземцев, что и эти (даже более страшных, благодаря обезображенной нижней губе), что Шумри не сразу поверил в происходящее. Он попытался снова выйти из хижины, но бдительные стражи снова преградили ему дорогу. Положение казалось полностью безнадежным. Немедиец разыскал хорошо запрятанный в груде вещей кинжал и протянул его Конану.
Тот схватил клинок с такой жадностью, словно был умирающим от жажды в пустыне, которому протянули полный мех воды, Он положил лезвие себе на грудь, острием под левый сосок. По лицу его пробежала тень облегчения.
– Кажется, наши новые друзья что-то затеяли? – спросил Конан спокойным голосом, – Отдельные слова старухи я понял. Да и твой щедрый жест кое о чем говорит.
Шумри лаконично обрисовал ему положение дел.
– Хвала Крому! – пробормотал киммериец. – Наконец-то!..
Шумри почувствовал, как горло ему стиснула обида. Ему захотелось выругаться – громче и грязнее, чем это делал обычно варвар. Проклятье! Тухлая утроба Нергала!!! Если ему не хочется жить, неужели обязательно утаскивать за собой и того, кто рядом?.. Но вместо того, чтобы выругаться, он спросил со слабой надеждой:
– Ты уверен, что совсем не можешь встать? Киммериец отрицательно помотал головой.
– Попробуй захотеть по-настоящему! – настаивал немедиец. – Может быть, тебе захочется покинуть это ложе хотя бы для того, чтобы раскидать десяток-другой наших славных гостеприимных хозяев?..
Конан усмехнулся, но ничего не ответил.
Исчерпав все свое красноречие, Шумри затих. Спустя недолгое время, словно вспомнив что-то, он порылся в вещах и вытащил свою цитру. Давно он не прикасался к ее струнам… Пусть прозвучит под его пальцами ее нежная, меланхоличная душа – в последний раз.
– О Кром… – заворчал киммериец. – Мало мне пения безумной старухи, теперь еще ты!.. Пощади, не порти последних мгновений на этой земле.
Но прозвучало это совсем не зло, и Шумри, улыбнувшись, покладисто кивнул.
– Хорошо, не буду петь. Расскажу одну немедийскую балладу, как помню, своими словами. Буду наигрывать, но совсем тихонько…
И он начал:
«Знатен и доблестен был юный рыцарь Роальд, и хорош собой, как первый луч на восходе солнца, и отважен, как молния, разбивающая в щепки тысячелетние дубы.
Любил он прекрасную Эльбет, дочь грозного рыцаря Гранибэра, и Эльбет любила его. Минуло ей шестнадцатьлет, и приближался день свадьбы Роальда и прекрасной Эльбет, который ждали они с нетерпением не один год, ибо полюбили друг друга, когда еще были детьми. Но всего за неделю до свадьбы, когда гуляла прекрасная Эльбет в саду при замке своего отца, налетел среди ясного дня вихрь, серая кружащаяся воронка прямо с неба, со стороны запада, и втянула в себя девушку, закружила, подняла в воздух и в мгновение ока унесла прочь.
Великим трауром облекся рыцарь Гранибэр, и все домашние его, и все вассалы, и слуги, и рабы. Только рыцарь Роальд не менял одежд, не посыпал голову пеплом и не рвал на груди бронзовые и золотые цепи, содрогаясь в горе. Но накинул походный плащ, выбрал из оружейной своего отца самый звонкий, прочно и ладно держащийся в ладони меч, оседлал любимого скакуна доказавшего свою преданность не в одной битве, отправился на запад, на поиски своей невесты. Маг и звездочет Сцивилиус, живший в замке грозного Гранибэра, поведал ему, что невесту его украл Харрок, человек-полудемон, живущий в замке на берегу океана, где глухие пиктские пустоши переходят в тундры Ванахейма. Долог и опасен путь туба. Лежит он через суровые леса, высокие норы, бурные реки и снежные равнины.
Долго ехал рыцарь Роальд.
…Ехал он зелеными аквилонскими дубравами. Прекрасен собой и строен был молодой рыцарь, и дриады – девы деревьев – провожали его глазами. В полупрозрачных, зеленых – под цвет листьев – одеждах девы выглядывали из-за ветвей. Свисали живыми орхидеями с высоты. Их распущенные волосы шуршали, смешиваясь с листвой.
– О рыцарь, рыцарь! – звали дриады приглушенно-птичьими голосами. Они обкусывали длинные лепестки цветов, сжимали в ладонях тела зрелых плодов, орошая их соком дорогу и волосы спешащего по ней Роальда. – Замедли свой шаг, рыцарь! Оглянись, удивись, останься…
Но Роальд лишь дерзко улыбался, не замедляя хода коня.
Одна из дриад неосторожно низко наклонилась над землей, и он, шутя, ухватил рукой за ее ступню. Испуганно охнув, дева выдернула ножку, но, потеряв равновесие, чуть не упала и долго раскачивалась, уцепившись за ветвь, гневно вращая большими глазами, похожими на зеленоватые мыльные пузыри…
Все дальше и дальше спешил Роальд.
…Путь его пролегал вдоль порожистой быстрой речки, берущей исток в снежных вершинах вздыбленных вдали гор. В лепет струй, перепрыгивающих через камни, вплетались голоса дев с белыми волосами из пены.
– Рыцарь, рыцарь! – манили наяды чистыми, как хрусталь, голосами с интонацией томно-капризной. – Наши струи обнимут и заласкают, наше течение унесет, ледяные прикосновения наши утолят боль, и порывы, и память…
Девы перекатывались в потоке, играя, словно форель на нересте. Вслед Роальду они посылали каскады брызг, от которых он отряхивался, смеясь, и живых рыб, ртутью блещущих на солнце.
Особенно настойчивым Роальд посылал воздушные поцелуи и безостановочно спешил дальше.
В одном месте ему пришлось, сойдя с коня, вброд перебираться на другой берег, шагая по скользким камням. Одна из наяд, подплывшая совсем близко, протянула ему тонкую руку. Благодарно улыбнувшись, рыцарь принял ее ладонь – но рука его, не ощутив опоры, скользнула сквозь струистую водяную плоть.
Наяды вспыхнули переливчатым смехом…
Все ближе и ближе был рыцарь к своей цели.
…Гряду суровых киммерийских гор предстояло ему преодолеть. У подножья их ему пришлось расстаться со своим верным конем: по узким карнизам, нависающим над пропастью, проехать верхом было невозможно. Умное животное осталось ждать его на лугу у ручья, в тени последнего дерева.
Роальд карабкался по склону горы, голому, поросшему лишь белесым лишайником да верблюжьей колючкой Суровые скалиды обитали в этих пустынных местах.
Девы с окаменелыми, мертвенно-серыми лицами выглядывали из трещин в скалах, застывали, словно статуи, на карнизах и выступах. Их скулы были резко обточены, словно грани драгоценных камней, одежда прямыми тяжелыми складками вбивалась в землю, подобно каменному водопаду.
– Рыцарь, рыцарь, – гулко вещали девы, – останься, если ты мужествен. Здесь, высоко под небом, остаются только отважные и крепкие духом. Звонкие духом, словно высокая, одинокая струна…
Заглядевшись на одну из них, Роальд оступился и покатился по склону. Уцепившись в последний момент за выступ камня, он завис над расщелиной.
Скалиды, затихнув, бесстрастно наблюдали, как он напрягает мускулы, пытаясь подтянуться и выкарабкаться…
Преодолев все тяготы и соблазны пути, Роальд добрался-таки до замка Харрока.
Ровно в полночь с помощью кинжала и крепкой веревки рыцарь преодолел ограду замка и очутился в саду. В ту ночь было полнолуние. От неистового света луны все вокруг было белым, словно припорошенным инеем. Он был удивлен, что ни стражники с алебардами, ни хищные звери не охраняли подход к обиталищу полудемона.
Деревья в саду росли на значительном расстоянии друг от друга. Они были очень ровные и прямые, будто взметнувшиеся вверх тонкие цилиндры. Роальд крался, перебеляя от одного ствола к другому, но в ярком свете луны было прекрасно видно.
Порой он запинался обо что-то мягкое – то были большие птицы, спящие в траве. Спросонок они коротко вскрикивали и вновь погружались в сон.
Замок из светло-серого ноздреватого камня, облитый луной, казался призрачно-белым. Задрав голову, Роальд пробирался вдоль его стен, внимательно вглядываясь в узкие окна. Одни окна были темны, другие светились мертвенным синеватым светом, в третьих мерцали гроздья свечей. Ни в одном не промелькнуло ни силуэта, ни тени, словно замок был необитаем.


![Книга Конан и расколотый идол [Зло Валузии • Расколотый идол] автора Гидеон Эйлат](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-konan-i-raskolotyy-idol-zlo-valuzii-raskolotyy-idol-256822.jpg)