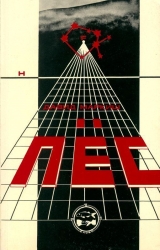
Текст книги "Пёс (Роман)"
Автор книги: Давид Маркиш
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц)
– Зачем вы меня вызвали? – спросил, наконец, Вадим.
– А то вы сами не знаете! – ухмыльнулся Зачес. – Ну, подумайте, подумайте…
Вадим послушно подумал, пожал плечами:
– Я, правда, не знаю.
– Ну, как же так – не знаете! – не поверил Зачес. – Расскажите-ка о себе: как работается? Написали что-нибудь новенькое? Я, знаете ли, читал эту вашу вещицу о мощах. Интересная вещица.
Вадим продолжал разглядывать сукно. Ему вдруг стало жарко, он вспотел.
– Что ж это вы молчите? – продолжал напирать Зачес. – Мы ведь с вами тут не в молчанку играем, у нас дел много… Говорите!
Вадим вдруг почувствовал мерзкую неловкость оттого, что вот он опоздал, а теперь отнимает время у этого загруженного какими-то разбойными делами начальника, и он сейчас, наверно, начнет орать и стучать кулаками по столу.
– Да я пишу… – выдавил из себя Вадим. – Так, в машинке все… Незаконченное…
Ему было противно и дико говорить с Зачесом о своей работе, а молчать, не отвечать было страшно.
– Да, не с теми людьми вы связались, молодой человек, – без всякого перехода сказал Зачес. – Расскажите-ка о своих друзьях!
– Нет у меня друзей, – подавшись назад, сказал Вадим Соловьев.
– Как же нет! – снова ухмыльнулся Зачес. – А у меня вот тут записано, что есть. – Он вытянул из ящика стола лист бумаги и поднес его к лицу. – Вот, вот… Кто к вам только не приходит!
– Приходить приходят, – неохотно согласился Вадим. – Так это знакомые… – Он хотел было добавить «и незнакомые тоже» – но передумал, промолчал: Зачес, пожалуй, не так поймет, опять прицепится, а потом разматывай.
– С друзьями тоже сначала знакомятся, – назидательно заметил Зачес, – а потом уже знакомство становится дружбой… Просто знакомому человеку ведь душу не откроешь, а?
Почуяв подвох, Вадим на этот раз промолчал, вздохнул только, выражая тем самым как бы согласие с Зачесом, но согласие косвенное, ни к чему не обязывающее.
– Не хотите, значит, говорить, – Зачес ладонью подвел черту, а потом, подняв руку, взглянул на часы. – Ну, ладно, дело ваше… Когда и где вы в последний раз встречались с Голубем?
– С каким Голубем? – переспросил Вадим Соловьев. – Фамилия, вроде, знакомая…
– Ну, довольно! – Зачес несильно шлепнул ладонью по столу. – Хватит дурака валять! Голубя он не знает!
– Это поэт, что ли? – искренне пытался вспомнить Вадим. – Миша Голубь? Да я с ним еле знаком.
– Не поэт, а тунеядец, – строго поправил Зачес. – Он у вас ночевал. Не отрицаете?
– Да у меня много людей ночует… – сказал Вадим.
Все наставления бывалых приятелей о поведении на Лубянке вымело у него из головы, он боялся этого крикливого мужчину за столом, боялся этой тяжелой мебели, этих стен, этого затянутого занавеской окна. Он боялся молчать, боялся спрашивать. Он вдруг почувствовал себя как бы опущенным в воду: движения скованы, рубашка противно мокра и холодна. Перед глазами его маячил молоденький солдат с прыщавым подбородком, зацепивший багром собаку и тянущий ее в узкую щель ворот.
– Когда он у вас ночевал? Сколько раз? С кем?
– Я не помню… – еле шевеля губами, сказал Вадим. – С девушкой какой-то.
– Как звали девушку? – глухо рокотал Зачес.
– Да я ее не знаю… А что с ним случилось?
– Он у нас, – сухо объявил Зачес и, видя, что Вадим не понимает, добавил: – Арестован ваш Голубь. И он рассказывает о вас куда более подробно, чем вы о нем.
Значит, Миша Голубь арестован. Но за что? И как он, вообще, выглядит? Маленький, рыжий? Нет, рыжий – это Решетовский, он, кажется, и привел этого Голубя ночевать. Но какая связь между Голубем и им, Вадимом Соловьевым? Какая связь! Дадут три года, вот и вся связь. И ведь невозможно ничего доказать этому страшилищу, они тут все заранее решили.
– За что его арестовали? – тихонько спросил Вадим.
– За распространение слухов, порочащих советский государственный строй, – отчеканил Зачес. – Теперь вам ясно, зачем вас сюда вызвали? – Он глядел на Вадима не грозно и не прожигающе, а как-то обыденно-безразлично, и это было еще хуже, еще страшней. – А как, кстати, поживает ваша тетка? – наглядевшись вволю, спросил Зачес.
– Какая тетка? – подавленно удивился Вадим.
– Ну, как же, – Зачес отодвинулся от стола и закинул ногу на ногу. – У вас есть тетка в Израиле, в Тель-Авиве.
– Нет, – не понимая еще, куда клонит Зачес и радуясь очевидности его ошибки, сказал Вадим. – Вы ошибаетесь. Нет у меня никакой тетки. Я русский.
– Некрасиво скрывать национальность, – укорил Зачес. – Вот я, например, русский и этого никогда не скрывал… А ваша бабушка…
– У меня нет никакой бабушки, – сказал Вадим Соловьев.
– Нет – но была, – нахмурился Зачес. – По линии вашей матери, Веры Семеновны Нечипоренко.
– Ах, Софья Львовна! – спохватился Вадим Соловьев. – Она пропала без вести во время войны.
– Не Софья Львовна, а Сара Лейбовна, – назидательно, с удовольствием поправил Зачес. – А без вести у нас даже муха не пропадает, не то что человек… Ваша бабушка, вместе с другими советскими гражданами еврейской национальности, была расстреляна немецко-фашистскими оккупантами в Бабьем яру, в Киеве… Так что есть у вас тетка в Тель-Авиве. Ясно? И я, молодой человек, дам вам один совет: уезжайте-ка вы в Израиль, или куда хотите. А то неприятностей не оберетесь, между нами говоря. Вон мы Голубю тоже советовали в свое время добром, а он нас не послушался… Ясно?
– Но я об этом никогда даже не думал! – воскликнул Вадим. – И нет у меня никакой тетки в Тель-Авиве!
– Тетка есть, – настойчиво поправил Зачес. – Вот она вам вызов прислала, на постоянное жительство. – Открыв ящик стола, Зачес достал оттуда плотный почтовый конверт.
Значит, не сажают. Какая там бабушка, какая, к черту, тетка! Откуда они взяли этот вызов? Сами, что ли, напечатали? Боятся они, вот оно что. Боятся «Мощей», боятся «Вида из подвала». Высылают! Высылают, как Солженицына, как Некрасова, как Максимова! Насолил ты им, Вадим Соловьев, ах, как насолил! Согласиться, что ли? А что еще остается – в тюрьму идти? Ну, нет. Поеду в Вермонт, к Александру Исаичу, покажу ему наброски «Москвиады». Но какие сволочи! Испугались! Значит, стоишь ты чего-то, Вадим Соловьев, даже большего, чем сам ты думал. Высылаете? Хорошо. Я вам покажу, что я могу. Настоящая правда – она пострашней ваших лагерей. А я расскажу правду, будьте спокойны… Эйфелева башня, Палата лордов. Биг-Бен. Статуя Свободы.
– Я вспомнил, – поигрывая желваками, мстительно сказал Вадим. – Тетя – есть. В Тель-Авиве.
– Ну, вот и замечательно. – Зачес припечатал вызов ладонью. – Заполните-ка эту анкету. Фотографии с собой нет? Ну, ничего, в порядке исключения обойдемся без фотографии. Квартиру вам сдавать не надо, пианино отгружать не надо. Тетя уж как-нибудь побеспокоится. – Он откинулся вместе со стулом к стене и подмигнул. – Пишите, пишите!
Не вдумываясь, машинально заполнял Вадим анкетный вопросник, небрежно путал события и даты. Что б он тут ни написал – все равно ведь высылают! Да напиши он даже, что он, Вадим Соловьев – чукотский шаман, – это тоже дела не изменит. «Гражданин чукотский шаман Вадим Соловьев, пройдите в зал для отлетающих пассажиров!» Москва-Вена – приятная перемена. Вена-Рим – по-римски поговорим. А Россия? «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ». Не он, Вадим, первый, не он и последний. Высылают. Кому-то, все-таки, надо освещать мир. Из лагеря особо не поосвещаешь.
– Число вот здесь поставьте, – указал пальцем Зачес. – И подпишитесь.
– Какое сегодня? – спросил Вадим.
– 24 декабря 1976 года, – помог Зачес.
– Только у меня денег нет, – расписавшись и отодвинув анкету, вспомнил Вадим. – Один билет сколько стоит…
– Ай-яй-яй! – упрекнул Зачес. – Общественно-полезным трудом, значит, не заработали. Но мы не такие, как бы это сказать, бессердечные, как вы о нас пишете. – Он опять запустил руку в ящик, вытянул оттуда другой конверт, поменьше. – Вот ваш билет, вот виза. Смотрите, не потеряйте… Распишитесь в получении.
– Нет, – твердо сказал Вадим. – Не распишусь. В ваших ведомостях моя подпись стоять не будет. Вот я в анкете расписался.
Зачес взглянул озабоченно.
– Да это ж просто формальность! – сказал он. – Для отчетности.
– Я-то тут при чем, – пожал плечами Вадим. – Я подписываю мою прозу, а не вашу отчетность.
Облокотившись о стол, Зачес поморщился кисло.
– Ну, ладно, ладно… – пробурчал он. – Прозу он подписывает… Пушкин… Гражданин Соловьев, вам объявлено, что вы должны покинуть пределы Советского Союза не позже 31 декабря 1976 года. Ясно? Можете идти!
Значит, не сажают. Страх прошел. Вадим глядел на Зачеса задумчиво, даже как бы с сочувствием. Вот сейчас он делает русскую историю – высылает за границу, в эмиграцию, русского писателя. Да разве он понимает, что делает? Да разве понимает он, что в эту минуту отверзает уста немому? Освобождает руки связанному? Ничегошеньки он не понимает, этот тупой чурбан, которому случайно выпало счастье войти в историю как палачу-освободителю Вадима Соловьева. Да разве сейчас это его волнует? Другое его волнует, этого несчастного: как бы без осложнений получить подпись высылаемого, как бы службу закончить без взысканий в звании майора или там полковника, и садовый участок получить, и по блату дерьмо для удобрения клубники, и чтоб клубника эта шла на базаре по пяти рублей кило.
Сам того не зная, Вадим был прав. Так оно и будет с майором Середюком. Он выйдет на пенсию полковником, получит участок на Клязьме, и дерьмо, и клубнику. Он доживет до старости и умрет на семьдесят четвертом году жизни от сердечной недостаточности, окруженный вниманием взрослых внуков.
О Вадиме Соловьеве он вспомнит через год, а потом забудет о нем навсегда.
Дойдя до метро, он подумал о Наташе. Как же это он забыл, как упустил из виду в разговоре с этим дубиной Зачесом, у которого он, кстати сказать, не спросил по рассеянности даже его имени! Надо было сказать: «Или вы высылаете меня с Наташей, или я остаюсь!» Выслали ведь вот так года полтора назад одного демократа, так он вывез с собой в Америку жену с братом и любовницу с мужем и с родителями. Сказал: «Или так, или – никак! И еще сухую голодовку объявлю!» И – выпустили. Наташа! Какая же это теперь будет морока – все объяснять, и оправдываться, и не оправдаться. Все это из-за проклятой собаки – как ее затаскивали крюком, и ворота медленно и бесшумно закрывались. Тут обо всем на свете забудешь, о маме с папой забудешь.
Потоптавшись у входа в метро, он зашагал обратно к Лубянке. Пересекая площадь, он представил себе родителей, в их сдобном киевском благополучии, и усмехнулся. В последний раз смотреть на Днепр с бугра он, конечно, не поедет, но открытку, все-таки, послать старикам надо. С границы. Или, лучше, уже с видом Вены. Электрификация дачки – это отцу понятно, а освещение мира правдой ему не по плечу. Когда он солженицынское «Жить не по лжи» прочитал, он только и нашел, что сказать: «Идеалист этот Солженицын! Опасный идеалист!» Будут теперь неприятности у знатока марксизма-ленинизма. Сколько же это ему еще до пенсии осталось?
Поравнявшись с подъездом, Вадим прошагал мимо: надо обдумать, как вести разговор с этим Зачесом. Это ведь сразу хорошо было выпалить: «Либо – так, либо – никак». Теперь надо по-другому действовать. Не просить, конечно, – а вот, например, так: «Я обдумал ваше предложение…» Нет, не годится – какое же это предложение! Не надо же, все-таки, с ними дурака валять! Войти, сесть, сказать: «Я передумал…» Нет, тоже глупо… Надо было сразу все говорить, сразу! Это все из-за проклятой собаки, прямо знак какой-то, проклятие!
Часовой в подъезде осмотрел его вдумчиво.
– К кому? – спросил часовой.
– Да вот я был тут, – пустился в разъяснения Вадим. – На втором этаже, кажется. Комнату не помню. У высокого такого, в черном костюме. С зачесом.
– Фамилия? – спросил часовой, не сводя глаз с Вадима.
– Соловьев…
– Не значитесь, – полистав пачечку пропусков на столике, вновь выпрямился часовой.
– Да мне надо… – сказал Вадим. – Я же был только что.
– Выйдите, гражданин! – погрознел часовой. – Нельзя!
Вадим вышел вон и в обход площади поплелся к метро. Страх перед часовым медленно, медленно отпускал его.
Покачиваясь в вагоне метро, он уже смеялся над своими страхами. Ему было легко, летуче – как будто вместе со страхом оставляла его изнурительная болезнь, и он возвращался в привычную, но как бы обновленную жизнь с ее запахами, дождями, тьмой и светом. Зачес – страшный? Да, еще как! А часовой в подъезде? Страшный, как расстрельщик, как стальное дуло. Но теперь страх прошел, как горячий смерч над полем. Да, он боялся, Вадим, он взмок от страха – и в этом нет ничего постыдного. Все на свете чего-то боятся, боятся постоянно, до самой смерти, и только пытаются самим себе заморочить голову от страха: я смелый, я ничего не боюсь! Боитесь, милые, еще как боитесь! Сначала – родителей, потом учителя в школе, потом начальника на работе. И зубного врача, и постового милиционера, и венерической болезни. И ночного леса, и грома. И рака. И смерти. И, в серьезных случаях – Бога. Вся жизнь, от начала до конца – это столкновение со страхом. Страх направляет человека поступать так, а не иначе. Смелость – это бунт против вечного страха, бунт, обреченный на подавление. Смелость – это опьянение собственным страхом; а по пьянке чего только ни натворишь… Слава Богу, что человек все забывает до поры, тем и держится…
Вот и Вадим, разглядывая свою визу, забыл о только что пережитом страхе, и майка даже вроде бы просохла. Через несколько дней он будет в Вене! Венские булочки, кофе по-венски. А этот часовой с осьминожьим взглядом останется торчать в своем проклятом подъезде… Потом – Париж. Мансарда с грубым столом, в окно видны сиреневые крыши. Париж, «Праздник, который всегда с тобой». А Зачес пусть подавится своей дерьмовой клубникой. Какое это дивное облегчение – выйти из его кабинета и больше никогда в жизни с ним не встретиться. Прощай, Зачес, будь ты проклят! Вот я тебя и не боюсь. И вообще никого и ничего больше я не боюсь. Меня ждет Запад, Свободный мир добрых людей с врожденным чувством справедливости и юмора. В парижских кафе меня ждет цвет опальной русской интеллигенции. Меня ждет свободное творчество и свободная печать. В свободном от страха мире, освобожденный, – я, наконец, напишу правду. Мир вспыхнет, как электрическая лампочка, от прикосновения к обнаженному проводу правды. Ради этого стоит бросить Наташу, которая, кстати сказать, в последнее время ведет себя в Конуре слишком по-хозяйски. Ей нужно выйти замуж, как Тане, родить писклявого младенчика и найти счастье в пеленочно-кастрюльном царстве. Да минует ее длинная рука очередей за зеленым горошком в банках! Бог с тобой, Наташа, я отпускаю тебе все твои грехи, а ты не мешай мне идти к правде. Прощай и будь, пожалуй, благословенна! Прощайте и вы, мои случайные родители. Я прощаю вас, если хотите. И ты, Днепр под бугром, прощай, хрен с тобой! И вы, приятели, прощайте, будьте здоровы и не кашляйте! Я больше ничего не боюсь, потому что я свободен.
Прощайте все.
Лошадей! Вадим Соловьев высылается!

2
ЗИМНИЙ ВАЛЬС. ВЕНА
Серьезность минуты приземления на Западе была нарушена: как только в иллюминаторе качнулся венский аэродром, в памяти Вадима Соловьева возникла прозрачная мелодия Штраусовского вальса. Это было несерьезно, или недостаточно серьезно, – но Вадим ничего не мог с собой поделать. Тра-ля-ля-ля!.. И рессорная коляска, запряженная четверкой лошадей, плавно катится по аллее Венского леса. Тра-ля! Мелькают древесные стволы, кружатся кроны, меж их ветвями развешаны, как носовые платки для просушки, обрывки наивно голубого доброго неба. Покачивается шелковый цилиндр симпатичного кучера, знающего толк в пиве, сосисках и духовой музыке. Боже мой, это Вена! Видение вальсирующего леса подчеркивает неправдоподобность происходящего: три часа тому назад – стылое, заваленное грязно-желтыми сугробами Шереметьево, востроглазые и наглые агенты в штатском, обыск перед посадкой в самолет. И потом этот прыжок, этот перепрыг из сырого, крытого серым низким небом мира в мир воздушного вальса в солнечном лесу. Какие аккуратные домики там, внизу, какой чистый и славный аэродром!
А Наташа – что ж Наташа! В конце концов, в комбинации из двух человек одному всегда хуже, чем другому. Наташа поплакала и осталась. Будет другая Наташа. Ясно ведь и ребенку, что нельзя связывать себе руки в этой новой жизни там, внизу, – в жизни, в которую и ринулся-то ради, действительно, великой задачи. Не перед Наташей следует теперь оправдываться, а перед этой новой жизнью – талантливо и дерзко. Надо атаковать с первого же шага, прямо с аэродрома. И есть уже, как говорится, плацдарм: газета «Орор» напечатала заметку, что Вадима Соловьева выслали. Правда, назван он там Владимиром и сказано про него – диссидент и поэт, вместо Вадима и прозаика, – но это ведь не более, чем досадное недоразумение. Надо будет дать в Париже интервью, объяснить все толком. А то эти западные люди относятся к русским проблемам немного поверхностно.
Самолет вошел в тучу, люди вцепились в подлокотники кресел: трясло. Вадим отвернулся от иллюминатора, огляделся. Полтора десятка московских евреев сидели в хвосте, кучкой. Гордые, мужественные люди! Он-то, Вадим, выслан. А они? Они по собственной воле едут в маленькую воюющую страну, где каждый день бомбы рвутся на улицах. Их, говорят, назавтра же по приезде забирают в армию, они могут погибнуть. И все же – едут! Вот этот парень с длинным подвижным лицом – он, наверняка, ученый, может, даже кандидат наук. Теперь ему придется сидеть в окопе. «Иван воюет в окопе, Абрам торгует в рабкопе». Нет, не так все просто! Если б Вадим был евреем, он, может быть, тоже поехал бы воевать в Израиль.
Самолет, притормаживая, уже катился по посадочной полосе. Гомонили пассажиры, отстегивая привязные ремни. Гладкосерое здание аэропорта уверенно возвышалось на краю поля. По фасаду здания, на высоких флагштоках, туго полоскались и стреляли на ветру флаги.
Автобус подъехал к самому трапу. Вадим с внезапной признательностью рассматривал чистый, просторный, сверкающий никелем, пластиком и фальшивой кожей салон автобуса. Непыльно они, как видно, здесь живут, на Западе! Монголов на них нет, между нами говоря, или вот хотя бы наших русаков. Пролетариев пилы и топора из какого-нибудь Храповецкого леспромхоза Архангельской области. Они б им тут показали чистоту и порядок. Шоферюга-то один чего стоит! Профессор! Фуражка адмиральская!
У входа в аэропорт расхаживал взад-вперед высокий лысоватый мужчина со стриженой бородкой, в теплом плаще. Лысач, как видно, расхаживал здесь недолго и не успел еще продрогнуть: плащ его был расстегнут, кашне болталось на шее.
– Пожалуйста, господа! – сказал Лысач по-русски, с приятным акцентом, когда автобус остановился. – Проходите в зал и садитесь.
Но садиться никто не стал, все толпились и глазели по сторонам, хотя ни стены зала, ни пол, ни потолок ничем не были украшены.
– Подходите ко мне по одному, с визами! – пригласил Лысач, устраиваясь у маленького столика, рядом с колонной.
Никто, однако, не двинулся из толпы. Люди глядели на Лысача недоверчиво и с опаской. Наконец, кто-то спросил:
– А вы – кто?
– Я – представитель Сохнута – Еврейского агентства, – терпеливо объяснил Лысач. Его, как видно, нисколько не удивила и не покоробила такая недоверчивость московских евреев. – Я оформлю здесь ваш багаж и отправлю вас в гостиницы… Вот вы, – он поманил длиннолицего кандидата наук, – подойдите, пожалуйста! Дайте мне вашу визу!
– Зачем? – рявкнул Кандидат. – Я еду в Штаты. Как это – отдать визу! А я с чем поеду!
– Не кричите так! – Лысач невесело усмехнулся. – Здесь не принято кричать на аэродроме. Вы поедете, куда хотите, и визу у вас никто не отбирает… Господин Бернандинер? Хорошо… У вас есть родственники в Израиле?
– Я не еду ни в какой Израиль! – подавшись назад, к толпе, объявил Бернандинер. – Я законы знаю! Вы не имеете права!
– А я вас и не везу, – усмехаясь уже скорбно, сказал Лысач. – Я вас только спрашиваю о родственниках.
– Нет у меня родственников, – отрезал Бернандинер. – Тетя у меня есть в Чикаго, родная тетя.
– Когда она уехала из России? – спросил Лысач, отмечая что-то в блокноте. – По израильскому вызову?
– Нет-нет, – сказал Бернандинер, снова подходя поближе. – Она уехала после революции, точно не знаю когда. У меня даже фотография есть.
– Не надо! – отмахнулся Лысач. – Берегите фотографию, а то тетю не признаете… Следующий, пожалуйста! Куда вы направляетесь?
– В Штаты… У меня, видите ли, все друзья в Штатах, все великолепно устроены… – аккуратный старичок в синей беретке услужливо протягивал визу Лысачу. – Я сам преподаватель английского языка, всю жизнь проработал в школе. Я вот с сыном, жена осталась в Москве. Сыну семнадцать лет, я его еле увез от той армии… Вы ведь сами понимаете… На моем месте…
– Следующий!
– В Австралию. Всю жизнь мечтал об Австралии, даже сам не знаю, почему. Мечтал – и все. Динго, кенгуру. Голубая мечта, можно сказать.
– Сколько вам лет?
– А что? Двадцать восемь. Я с семьей: жена, пацан. У нас в Москве отдельная квартира была, в Жеребково.
– Ваша профессия?
– Рубильщик мяса. Тоже могу на мотоцикле ездить. Я-то устроюсь, я за это спокоен… Вопросик можно задать?
– Ну?
– В Австралии дом сколько стоит? Чтоб с газоном, с гаражом.
– Следующий…
Следующим был Вадим. Он подошел с неловкостью, ему хотелось сказать Лысачу: «Я не рубщик мяса. Я – в Израиль, в окопы».
Лысач глядел вопросительно.
– Я – русский… – сказал Вадим совсем тихо, как бы извиняясь.
– Ну, ничего, – сказал Лысач и подмигнул дружелюбно. – Бывает… Налево проходите, пожалуйста.
Вадим шагнул к Рубильщику и к старику в беретке.
– У тебя, папаша, водка есть? – спросил Рубильщик, наклонясь к старику в беретке.
– А я не пью, – приветливо осведомил Беретка.
– Так я тебе пять бутылок дам – пронесешь? – попросил Рубильщик. – А то у меня десять, а они тут норму установили, гады. Свобода называется!
– Какую норму? – заинтересовался Беретка.
– Такую! – объяснил Рубильщик. – Очень даже простую: три бутылки на рыло населения. А водка тут идет по сто шиллингов бутылка, вот и считай сам. Коммель называется… Ты не сомневайся, дед, я тебе двадцатничек тоже подкину! Ну, берешь?
Беретка склонен был согласиться – то ли по доброте душевной, то ли для того, чтоб отделаться от напористого Рубильщика.
Длиннолицый Бернандинер поглядывал на договаривающихся снисходительно; он, казалось, был не вовсе чужд венско-водочной проблемы, но ставил себя выше ее: поближе к икре, которая шла по две сотни этих самых шиллингов.
Подавшись в сторону, Вадим старался держаться независимо: ему было неприятно, что в его спортивном бауле, составлявшем весь его багаж, находилась, наряду с другим имуществом, принесенная одним из приятелей на прощание бутылка «Столичной». Он с радостью подарил бы эту бутылку симпатичному Лысачу с грустной бородкой.
А сортировка эмигрантов тем временем продолжалась. «Налево, налево, налево» терпеливо указывал Лысач. К Рубильщику и Беретке присоединилась молодая пара с двумя детьми, брякающий медалями хромой старик в потертой пыжиковой шапке, женщина средних лет с эмалированным ведром, стайка озабоченных молодых парней с раздутыми портфелями и девушка с красивым, чистым лбом под гладкозачесанными на прямой пробор блестящими черными волосами.
– Ну, вот и все, – закончил свою работу Лысач из Еврейского агентства и сунул в карман плаща стопку советских выездных виз. На столике перед ним осталась лежать раскрытой одна виза. Ее обладатели – старик лет семидесяти пяти и его старуха, грузная женщина в залосненном на груди черном зимнем пальто – ехали в Израиль. Оттертые шустрыми эмигрантами, они оказались в самом хвосте очереди и теперь вот стояли, терпеливо и молча, глядя на беспокойную левую группу без осуждения и без грусти, и без всякого иного чувства в старых глазах. Так они смотрели бы, наверно, на пожар синагоги или на депортацию в концлагерь – не в силах помочь, не в силах противодействовать.
– Вы все идите к багажному отделению и ждите меня там, – сказал Лысач, повернувшись к левой группе, и люди пошли, как стояли – плотной кучкой, толпясь и толкаясь. Только Вадим со своим баулом шагал чуть в стороне. – Теперь вы… – Лысач наклонился над стариковской визой. – Кто у вас в Израиле?
– Никого, – выпростав шею из вязаного шарфа, сказал старик. – У нас нигде никого нет.
– Сейчас я отправлю вас на нашу базу, – сказал Лысач, складывая визу и опуская ее в другой карман плаща. – Завтра вы будете в Израиле… Пойдемте!
Держась друг за друга, старик со старухой двинулись к выходу. Медленно и осторожно передвигая ноги по сверкающему мраморному полу, они шли сквозь высокий, светлый и пустой зал аэропорта.
У багажного отделения озирались уже почти весело.
– Вот и вырвались…
– Смотри, какие коляски! Для чемоданов, что ли? У нас бы в два счета сперли.
– Не лупи глаза-то! Заграница, все же.
– Вон киоск. Почем, интересно, тут курево?
– А вон там шнапс продают. Гляди-ка, и колбаса копченая! И сардельки! Пошли, поглядим?
Но разбредаться по залу робели, держались кучей.
Лысач явился скоро, оглядел толпу, сказал:
– Вы поедете в гостиницу на три-четыре дня. Возьмите с собой самые необходимые вещи. У кого есть водка – по две бутылки на человека, и по бутылке шампанского. У кого икра – по одной маленькой баночке.
Толпа загудела недовольно.
– А почему, собственно говоря? – выступил на полшага Бернандинер. – Мы, в конце концов, свободные люди. Даже русские не ограничивали нас двумя бутылками. Это просто произвол!
– При чем тут русские! – терпеливо усмехаясь, объяснил Лысач. – У австрийцев свои законы. Вы, скажем, не пойдете – а другой пойдет спекулировать беспошлинной водкой или икрой. Понятно?
– А если у меня день рождения? – предположил Рубильщик. – Я, может, день рождения хочу устроить! Гости придут – что будем пить?
– День рождения? – поморщившись, переспросил Лысач. – Где ваш багаж?
Рубильщик указал на два чемодана и картонный ящик.
– Откройте-ка ящик! – потребовал Лысач.
Рубильщик споро распутал веревку. В ящике, переложенные бумагой, посверкивали водочные бутылки.
– Вот, – сказал Рубильщик. – Нет у меня шампанского.
– Сколько тут? – спросил Лысач.
– Двадцать поллитров, – удостоверил Рубильщик.
– И вы все это хотите тут выпить? – наклонив голову к плечу, спросил Лысач.
– А чего тут пить-то? – махнул рукой Рубильщик. – Еще не хватит…
В толпе поощрительно засмеялись.
– Вы успеете продать вашу водку в Риме, – подвел черту Лысач. – Возьмите две бутылки, все остальное сдайте в камеру хранения. Целее будет. Икра есть?
– Мечу я ее, что ли? – бурчал Рубильщик, увязывая ящик. – Тоже, свобода называется: выпить нельзя!
Икра обнаружилась в чемодане Рубильщика. Баночки были бережно упакованы в шерстяные носки.
– Теща подбросила, – нашелся Рубильщик. – Под каруселю меня хотела подвести, сучья хрычовка! – И, разогнувшись над чемоданом, добавил, мстительно глядя на Лысача: – Ни пить, ни кушать не дают. Вот тебе и Запад! Я брату напишу в Кишинев, чтоб сюда не ехал, сидел бы дома.
– Пишите, пишите, – не огорчился Лысач. – Пускай сидит… Пойдемте, господа, в автобус!
Вадим к разговорам этим прислушивался вполуха. Стоя у стеночки, он придирчиво и жадно разглядывал людей в зале – кто они: австрийцы ли, американцы или французы. Хорошие, наверно, люди – спокойные, уверенные в себе. А как свободно держатся в международном аэропорту, на границе! Жаль только, что ничего они не знают про него, про Вадима, и нет им покамест до него никакого дела. Ну, ничего. Пройдет месяц-другой – и узнают. Да прочти они даже его «Желтую палатку», – и то не стали бы тут разгуливать так беспечно! Надо, пожалуй, сначала напечатать ранние вещи, а потом уже грохнуть «Мощами». Главное – не забывать ни на миг о том, что предшествовало этому самому перелету Москва-Вена: вызов в КГБ, смерть собаки у ворот. Высылка. Розовый московский дворик сегодня утром, перед тем, как сесть в такси и ехать в Шереметьево. Впрочем, он был серым, этот дворик. Ну, конечно, серым. Не прошло и дня – и уже розовый. Просто смешно! Не хватало только вспомнить про березки и прочую пошлятину.
За широкими – шире обхвата – окнами автобуса мелькали в уютных сумерках приземистые дома. Улицы были чисты и малолюдны.
– А у нас в Черкизове улицы шире, – услышал за спиной Вадим. Говорила, обращаясь то ли к соседу, то ли к самой себе, молодая брюнетка с блестящими волосами. – И фонарей больше – светло.
Вадим отвернулся, нахохлился, уткнулся в стекло. Фонари! Это какие-то другие евреи. То они про водку с икрой, теперь вот про черкизовские фонари. Не хватает только березок да горелок. Что дались им эти березки, если ему, русскому писателю Вадиму Соловьеву, они представляются не более чем расхожим деревом, годным разве что на табуретки да на топку!.. Он, Вадим, знал других евреев там, в Союзе. Водку они пили, икру не ели, потому что она была очень дорогая или вовсе ее не было. То были умные и начитанные люди, и это в какой-то степени даже определяло их национальную принадлежность: раз еврей – значит, начитанный и умный, не в пример какому-нибудь Ванюхе черкизовскому. И вот, пожалуйста! Эта гладковолосая еврейка готова, кажется, расплакаться, вспоминая свое Черкизово! Вадим вспомнил Днепр, текущий под бугром, и грустно ухмыльнулся в воротник куртки. Свет, вода. Символы, черт их подери. Человеку надо чему-нибудь поклоняться – хоть куску дерьма, надо над чем-то лить слезы и за что-то умирать. «За родную березку я пойду умирать». «Да здравствует вождь и учитель товарищ Сталин». А поклоняться идее просто невозможно – у нее нет запоминающихся с первого взгляда сталинских усов. А вот товарищ Брежнев, загони он обратно в лагеря миллиончиков десять, мог бы, пожалуй, стать замечательным вождем – у него для этого подходящие брови. «За родимые брови я пойду умирать». Символы для кретиноидов. Впрочем, ведь все дети рождаются гениальными, за исключением клинических случаев. Значит, символы для окретиненных. Интересно, есть у австрийского президента, как его там, выдающиеся брови? Или усы? Человек без особых примет не может стать вождем. Ликующие массы народа не примут его всерьез, если он не будет знаменито носатым или даже кривым. Ну, на худой конец можно распустить слух, что диктатор обладает титаническими гениталиями – это, несомненно, сразу делает его героем в глазах соотечественников. И вот такой псевдогенитальный вождь и герой может объявить и выиграть войну, перекроить географическую карту, заставить народ поверить в то, что земля не круглая, а квадратная и, в конце концов, въехать в историю на танке, в белом спортивном автомобиле или на орловском рысаке в яблоках. Кто же делает эту самую залистанную, замызганную Историю в золоченом кожаном переплете? Вождь? Народ? Или случай?








