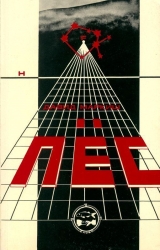
Текст книги "Пёс (Роман)"
Автор книги: Давид Маркиш
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
Вадим Соловьев долго рассматривал табличку, а потом огляделся по-новому, и ничего нового не обнаружил в торговой улице и в толпе людей, похожих на узбеков или армян. Вот по этим, значит, камням, политым нечистотами, вели на казнь Иисуса, и крылья креста задевали за эти стены, может быть, и за стену мясной лавки. И вот так же, облокотись о черный от крови прилавок, глядел на приговоренного мясник в белой вязаной шапочке. А Иисус тащился, волоча свои высокие журавлиные ноги, и не было у него сил говорить к торговцам, ненавидящим его, да и смысла никакого не было. Он все уже сказал, что успел, и лишь горстка ненадежных мужчин да преданных женщин слушала его вдумчиво; а прочие, как малые дети, ждали от него фокусов… И, тащась по вонючим камням, не о скорой смерти думал Иисус, а о страшной бессмысленности содеянного: вот его Божий народ, народ торговый, глядит на него со злобой и безжалостным детским любопытством. Глядит из-за туш и подносов мясник, спекулирующий мясом жертвенных животных, глядит меняла с камнем в руке – бросить его в нарушителя священной и прибыльной храмовой торговли. Опасный человек Иисус из Назарета, фокусник и фантазер, хотя и забавный; сегодня он по воде пройдет, как посуху, а завтра в карман залезет к почтенному торговцу так, что тот ничего не заметит, и украдет кошелек. Такие люди долго не живут: им не надо, и нам не надо.
Церковь с надстроенной колокольней стояла в конце улицы, по соседству с минаретом, который был чуть выше колокольни. На вырубленной в камне площадке перед церковью сидели и расхаживали люди, приехавшие сюда с разных концов мира: были тут и желтоволосые северяне, и негры с широкими носами, и японцы, и монахи в рясах черных, белых, розовых и коричневых. Несколько монахинь сидели у желтоватой, цвета старой слоновой кости каменной стены. На фоне черной просторной одежды, покрывающей их с головы до ног, тускло-желто светились их лица да кисти рук, сведенные и сложенные на коленях. Прямо высвеченные сильным солнцем, фигуры монахинь казались необъемными, плоскими, как на иконе, на золотистой доске.
В центре полутемной церкви помещалась каменная островерхая часовенка. Перед низким входом в нее стояло в очереди десятка три людей, мужчин и женщин. Люди стояли скорбно, переговаривались друг с другом шепотом, как перед открытой могилой… Сюда, значит, приволокся по смрадной улице назаретский Иисус, здесь принял он казнь и смерть, и над его каменным гробом поставили потом часовню. Здесь, на окраине базара, кружили и жужжали синие мухи над мертвым телом фантазера и чудака, взявшегося улучшить торговое племя людей.
Очередь подвигалась быстро. Нагнув голову и плечи, Вадим Соловьев шагнул в низкую дверцу. Крохотная комнатка была словно пристроена к каменному саркофагу, вмурованному в правую стену, во всю ее длину. Но прежде саркофага Вадим увидел прямо перед собой седобородого краснощекого монаха, с доброй улыбкой протягивавшего ему длинную коричневую свечку. Толстая пачка таких свечей лежала на табурете, у изголовья гроба.
Не ожидавший встретить здесь служащего, Вадим Соловьев, не беря свечу, отстранился немного от доброго человека и жадно повернулся вправо, к гробу. С каменной розовой крышки глядели на него Герцль и Ленин, Вашингтон и Делакруа и латиноамериканские генералы в парадных мундирах. Ассигнации были насыпаны густо, над головой Иисуса.
– Уан доллар, – не убирая руки со свечой, ласковым голосом сказал монах. – Онли уан доллар.
Вадим Соловьев попятился.
На церковном дворе монахини все так же сидели вдоль желтоватой стены, подставив солнцу лица и ладони. Сбоку от них опустился на строительный каменный обрубок Вадим Соловьев и прислонился спиной к прохладно-теплой стене; глубинный холод камня сочился из недр древней стены и охлаждал нагретую ее поверхность.
Вот и конец истории об Иисусе из Назарета. Вот, значит, и все. Он умер, и люди приспособили его гроб под торговый прилавок. Он, нищий, разогнал храмовых торгашей – кто вышвырнет из его могильной часовни свечного торговца с ласковым голосом? Ведь и у тех менял, наверно, голоса были ласковые: «Уан доллар. Онли уан доллар». Кто вышвырнет – того, наверно, не распнут, а засадят в сумасшедший дом. Иисуса тоже считали безумцем, только в его время вместо смирительной рубашки на инакомыслящего сразу надевали погребальный саван… Ну, хорошо, здесь это, кажется, не принято, подумал Вадим Соловьев, это у нас в России все просто: аминазин, смирительная рубашка, семь лет лагеря. «Фома Пухов на гробе жены вареную колбасу резал, проголодавшись вследствие отсутствия хозяйки». Это у нас возможно, а торговать свечами или селедками на Христовом гробе едва ли кому пришло бы в голову. Вот возьми и выгони, Вадим, выгони, Вадик, этого свечника! Христиане тебя за это проклянут как святотатца, а евреи посадят в тюрьму как нарушителя общественного порядка. Ну, пройди по знакомой дороге, по Виа Долороза, ворвись в Храм, выгони! Слабо тебе, Вадик, да и неловко как-то. В России не слабо было правду писать, хоть Лубянка пострашней местного суда. А здесь правды и не скажешь, а и скажешь – не поймут: привыкли, неинтересно. Да и на каком языке сказать: на русском? Кто станет слушать? Это в России слушали, спасибо говорили за правду. И, как высшую награду, давали лагерный срок. А оставленные до поры на свободе бросали цветы под колеса тюремного фургона… Здесь и передач носить не надо: попробуй, недодай какому-нибудь бандиту кусок курицы – он всю тюрьму разнесет, до Президента допишется.
В сухом, прокаленном воздухе жужжала синяя муха. И Вадим вдруг вспомнил, ощутил: желтая тропинка через сосняк, густой, настоенный на хвое лесной воздух, и вот ты входишь в легкое облачко толкунцов, норовящих удалить, облепляющих лицо, и ты машешь руками, и шлепаешь себя по щекам и ругаешься, и прибавляешь шагу, и звенящее облачко остается позади… Сюда бы, сюда, во двор храма Иисусова гроба, хотя бы это российское лесное облачко, хотя бы его!
Вечером этого дня он сказал Нелли Цветковой:
– Здесь все разбито на квадратики, и в каждом квадратике сидит свой паук за прилавком. А в России – трясина, ужас, все перемешано, хлябь. Но Бога, мне кажется, надо искать там, где совсем плохо. Там люди слушают.
Они сидели за столом, за бутылкой водки. В консервных жестянках серебрились генисаретские сардины, алел маринованный перец. Нелли Цветкова не любила переводить время на хозяйство.
– Да, верно это, – сказала Нелли. – Но мы из России уехали сами, и все разговоры о ней – чистая теория. О ней только стихи осталось писать…
– Я не сам уехал, – перебил Вадим Соловьев. – Меня выслали. Один гад выслал, а другой, может, обратно впустит… Отсюда люди в Россию возвращались, были такие случаи?
– Редко, – подумав, сказала Нелли. – Несколько человек вернулось. Но они все ехали сначала в Вену, а там уже добивались.
– В Вену… – легонько постукивая ногтем по краешку рюмки, повторил Вадим. – В Вену…
– Оставайся лучше в Иерусалиме, – едва слышно сказала Нелли Цветкова. – Вот у меня тут жить можно… Я тебя с нашими познакомлю, с христианами. А, Вадим?
– Если я даже на самой Виа Долороза поселюсь, – усмехаясь, сказал Вадим, – в мясной лавке там буду ночевать – что, я от этого стану ближе к Христу? Да я и не верю ни в какие эти дела с непорочным зачатием, с ангелами – это все чудеса в решете… Просто, был Иисус, и он хотел, чтобы люди стали немного лучше, и ничего у него из этого не вышло. Вот тебе и все.
– Да что ты такое говоришь! – Нелли прижала ладони к щекам, глядела ясно. – А Церковь!
– Я сегодня был в церкви, – поморщился Вадим Соловьев. – Больше не пойду: музыку я не люблю, и людей там, как в театре. Не пойду. – Рассказывать о том, что он видел в могильной часовне, у него не повернулся бы язык.
– Но ты в Иисуса Христа веришь? – не отнимая ладоней от щек, спросила Нелли.
– Да, – сказал Вадим Соловьев. – Я ж тебе сказал. Он был, наверно, необыкновенный человек. А люди сделали из него Бога, а из его намерений – самую настоящую контору, со справочным бюро, с отделом кадров, с кассой. Если б он все это видел, он бы во второй раз умер.
– Но ведь как же по другому-то… – жалобно сказала Нелли. – Ведь другого-то нет ничего…
Вадим молча налил водки, чокнулся, выпил. Ему надоел этот разговор, он боялся сказать Нелли то, чего говорить ей не хотел. Мыше – той бы он сказал.
– Так ты говоришь, были все же случаи, чтоб в Россию обратно впускали? – спросил Вадим.
– Тут на это смотрят, как на предательство, – сказала Нелли. – Глупо, конечно. Кому какое дело?
– Пусть смотрят, – махнул рукой Вадим. – Я ни у кого прощения просить не собираюсь… Просто я сегодня вот почувствовал, что хочу обратно. И не потому, – обороняясь, отбиваясь от чего-то, он повысил голос, – что и здесь, и там – одно и то же дерьмо! Здесь свобода, это верно. Но я не знаю, что с этой свободой делать. А там знал, что делать с несвободой: писать. И писал. А здесь – не могу.
– Ты даже не представляешь себе, как я тебя хорошо понимаю, – не глядя на Вадима Соловьева, сказала Нелли. – Я ведь полукровка, иначе говоря – русская. Это здесь большое неудобство. – Она улыбнулась, как бы ожидая Вадимова подтверждения. – Я тебе во всем помогу, во всем! Ты только скажи, чего б ты хотел…
– Как ты мне поможешь! – почти грубо сказал Вадим Соловьев. – Ты поможешь мне вернуться в Москву? Или чтоб одна женщина в Вене согласилась со мной жить?
– Если тебе никто не поможет, – сказала Нелли, – ты отсюда никуда не уедешь. Справки нужны всякие, паспорт, билет… Привезти тебя Сохнут привез, а увозить не станет.
Вадим молчал, смотрел на Нелли с вопросом; она хотела еще что-то сказать, недоговаривала.
– Христиане наши тебе могут помочь, – продолжала Нелли. – Только…
– Только – что? – поторопил, подтолкнул Вадим Соловьев. Нужно уходить от зарезанной книги, от умершего полтыщи лет назад рабби Абоаба. От денег на Иисусовом гробе. От свадебного нищего, который был, но которого не было. От ссуды, полученной в Министерстве абсорбции под обещание написать повесть о еврее-отказнике. Хватит! Надо уходить, как из горящего леса. Надо добираться до Вены всеми правдами и неправдами – через христиан или через буддистов, все равно – и потом искать дорогу в Москву, в Конуру, к сотне читающих его, Вадима Соловьева, мальчиков и девочек, которых он не нашел ни в Европе, ни в Америке, ни на Божьей земле, да еще к сотне скупых на похвалы его прозе, но думающих московских стариков и старух, которых он тоже нигде не нашел. Надо уходить, чтоб не свихнуться окончательно и не залезть в петлю в каком-нибудь историческом подвале.
– Так что – «только»? – повторил Вадим.
– Ты некрещеный? – спросила Нелли.
– Какой там крещеный! – усмехнулся Вадим Соловьев, вспомнив Киев, родительский дом, отца в расшитой украинской сорочке.
– Тогда тебе надо будет креститься, – сказала Нелли.
Слух о крещении Вадима Соловьева приполз в Тель-Авив с иерусалимских гор скоро и вызвал приглушенный скандал. Чиновники из отдела абсорбции деятелей культуры поджимали губы, Сема Рубин сокрушенно покачивал головой и вздыхал. Славка Кулеш сел в свою «Альфа-Ромео» и поехал в Иерусалим.
– Ну, поздравляю! – сказал он Вадиму, кося глазом на Нелли Цветкову и выставляя на стол бутылку коньяку. – Выпить надо по этому поводу, мы ж, все-таки, не мусульмане, а бывшие русские люди… Нелли, есть селедочка закусить?
– Нет селедочки, – сухо сказала Нелли. – А хочешь, чтоб я вышла – ну, так и скажи.
– Ну да, – беспечально подтвердил Славка Кулеш. – Только за селедочкой.
Нелли вышла, и Славка свинтил крышку с бутылки.
– Ну, давай, – сказал Славка Кулеш. – За тебя. У нас там в Тель-Авиве все чуть с ума не сошли… Ты, правда – того? Перешел?
– Перешел, перешел, – сказал Вадим Соловьев. – Знаешь, Славка, я хочу уехать отсюда.
– В Америку? – спросил Славка с интересом.
– В Москву.
– О-го! – сказал Славка Кулеш. – Пустят, думаешь? Там ведь не праздник.
– А где праздник? – спросил Вадим. – Ты его видал, праздник? Я, когда к Вене подлетал из Москвы, думал: «Вот, сейчас спущусь с самолета и всю правду расскажу свободным людям, и напишу все, что в России не написал». А кому она здесь нужна, наша правда? Свободным европейским людям? Плевали они на нее, у них своя правда есть. Старым русским эмигрантам? Так они ведь считают, что мы никакого отношения к России не имеем: либо мы жиды, либо – просто советские. Еще скажут тебе так, снисходительно: «А вы неплохо говорите по-русски, молодой человек!» Это же просто и смех, и грех! Как будто они тут живей по-русски говорят, чем ты, или я, или Ванька какой-нибудь рязанский.
– Это все верно, – помолчав, сказал Славка. – Да не только в том дело… А дело, видишь ли, в том, что русский писатель должен жить в России. И ни Бунин тут не пример, ни Набоков: времена были другие, и люди они были другие. А тебе хорошо нигде не будет, Вадик; но там все же будет лучше, чем здесь.
– А тебе? – спросил Вадим Соловьев.
– А я не русский писатель, – сказал Славка Кулеш. – Я – «русскоязычный», бывшая жидовская морда. Я отсюда двинусь – мне евреи скажут: «сволочь!», а в Россию приеду, русские скажут: «предатель, сначала нас предал, а потом своих же евреев». А в Париж или в Нью-Йорк ехать сидеть – так какой же в этом смысл, это ни два, ни полтора, только что мясо там сочней, и в армию не берут… Грустно все это, между нами говоря.
– Так ты, значит, считаешь, что я предатель… – полувопросительно сказал Вадим.
– Ты что! – сказал Славка Кулеш. – Ты – русский писатель, я ж тебе говорю. И если тебе здесь кто чего скажет – плюнь: дурья повсюду хватает… Ну, давай еще по одной!
Они выпили, зажевали хлебом.
– А Ешу из Нацерета был дивный человек, – сказал Славка и с размаху двинул Вадима Соловьева по плечу. – Жалко, наши его никак не хотят признавать: упрямые, черти! Ну, да хрен с ними… Я вот еще что: мне тут деньги подсыпали, аванс английский. Давай по-честному поделим, пополам. Тебе деньги нужны: билет, то да се. Давай, бери, может, увидимся еще когда-нибудь, кто его знает.
Когда Нелли Цветкова явилась с селедочкой, коньяка в бутылке оставалось на донышке.
– Где здесь лавка-то? – спросил Славка Кулеш, подымаясь из-за стола. – Дай-ка я теперь за бутылкой сбегаю: дорого яичко да ко Христову дню… Уезжает, все-таки, человек…
Вадим Соловьев улетал ранним дождливым утром. Не доезжая аэродрома, его маршрутное такси сбило на дороге собаку – крупного, костлявого бродячего пса. Шофер, ругаясь, остановил машину на обочине и вышел поглядеть на помятое крыло и разбитый подфарник. Собаку отбросило ударом в кювет, и она лежала там неподвижно. Глядя с отвращением то на шофера, ощупывавшего крыло, то на убитую собаку, Вадим дивился тому, что удар вышел таким сильным; ему никогда в голову не приходило, что большая машина может пострадать от наезда на собаку. Потом он вдруг вспомнил, как собаку, сбитую черной «Волгой» на Лубянской площади, затаскивали, закогтив пожарным багром, в ворота тюрьмы… Вадим поспешно отвел взгляд от собаки и от шофера, досадливо скривил лицо: «Что это меня тянет в последнее время на воспоминания, да еще на такие гнусные!»
В верхнем зале аэропорта, глядя сквозь стеклянную стену на самолеты с красивыми знаками на хвостах, Вадим Соловьев не ощутил ни предотъездного облегчения, ни предотъездного беспокойства. Только стоя у сувенирного киоска и покупая дешевенький крестик из кипарисового дерева, он почувствовал нетерпение: скорей, скорей, ведь через несколько часов он отдаст этот крестик Мыше.

10
ВЕНА. ЛЮБОВЬ
Всю дорогу от аэродрома к Мышиному дому Вадима Соловьева донимали воспоминания. Он противился им, как мог – да, видно, не мог: неопрятно заснеженные улицы предместья были точно такими же, как год тому назад, когда он бродил здесь с Захаром, рассуждая о счастье, о чуде, о вкусе вина. В трамвае, на который пересели с автобуса, все так же приятно были нагреты сиденья – как тогда, когда они ехали с Захаром в Грюнциг. Здесь, несомненно, ничего не изменилось со смертью Захара, со смертью тысяч и тысяч людей этого города, перевезенных за этот год из домов на кладбища.
Изменился Вадим Соловьев.
Изменилась ли Мыша – этого Вадим не знал и не хотел об этом думать: а вдруг изменилась.
Мыша сидела рядом с Вадимом на теплом трамвайном сиденье, и ему неловко было все время поворачивать голову и глядеть на нее: ведь она, как и он, думала сейчас о Захаре, и Вадимовы взгляды могли быть ей неприятны и тягостны. И Вадим Соловьев досадовал, что не нашлось другого места и что Мыша не села против него; тогда можно было бы глядеть на нее беспрепятственно, не поворачивая головы.
С самого аэродрома, когда Вадим осторожно обнял ее и поцеловал куда-то в воротник пальтишка, они почти и не разговаривали: бессмысленно было говорить о чем-либо, минуя Захара и его смерть. А расспрашивать о Захаре у Вадима Соловьева недоставало смелости. Он ждал, пока она заговорит сама; но молчала и Мыша.
Чем ближе подъезжали они к дому, тем тревожней и мучительней размышлял Вадим Соловьев над тем, что скажет он, переступив порог, войдя в кухню или в комнату. Ведь нельзя же будет молча сидеть за столом и глядеть на Мышу, хотя именно это было бы всего лучше. Сидеть, молчать без неловкости – а слова придут потом… В том-то и дело, что никуда не убежишь от этой проклятой неловкости.
От неловкости не убежать, и не убежать от того, что было здесь год назад. Да что ж это за беда, Господи, Боже мой! Все, все в жизни обращено назад, все упирается в прошлое, вершинами торчащее в памяти, далекими и близкими вершинами. И ни о чем невозможно думать, не оглядываясь назад, и нельзя говорить, не чувствуя спиной эти вершины. С какого же времени, с какого возраста начинается для человека прошлое? С семи лет, с тринадцати? С самого рождения? И что есть у него, кроме прошлого? Все, все умещается в памяти, в этой черной коробке, обклеенной изнутри голубым бархатом. Память – это и есть человеческая жизнь, и никто не знает, почему до самого конца сохраняется в памяти и блестит, как стеклышко на солнце, пустячное какое-нибудь событие – а иные глыбы и горы рядом с этой искрящейся песчинкой выветриваются и разрушаются. Не знает себя человек, никак не может прочитать себя до точки и выучить наизусть – только прошлое свое знает, выложенное цветными камушками в черной коробке.
– Нам сходить, Вадим, – сказала Мыша, касаясь вытянутым тонким пальцем его локтя. – Забыл?
– Нет-нет, что ты!.. – пробормотал Вадим Соловьев, вскакивая поспешно.
В кухне было тепло, светло, стол покрывала клетчатая скатерка, и «Спидола» стояла на холодильнике.
– Ты в этой куртке совсем окоченел, – сказала Мыша. – Чай сам заваришь, или я? Вон там, цейлонский.
– А, ты помнишь… – сказал Вадим. – Жуткое это дело – память. Я всю дорогу об этом думал, когда мы ехали.
– Вот и приехали, – сказала Мыша. – Так я сама?
– Если тебе не трудно, – сказал Вадим и вдруг почувствовал, как сладко, пьяно закружилась у него голова: вот сейчас она, как тогда, подойдет к стенному шкафчику, и привстанет на цыпочки, и, немного откинувшись назад, потянется рукой к высокой полке, за заваркой.
Она и подошла, и потянулась, и вместо того, чтобы смотреть на нее, на ее ноги и высокие плотные бедра и падающие волосы, он вскочил и бросился к ней – помогать.
– Сиди, сиди, – сказала Мыша. – Тебе еще сколько рассказывать.
– А в Ленинграде какая погода? – спросил Вадим, кивая на «Спидолу». – Холод?
– Мороз, – сказала Мыша, подсаживаясь к столу против Вадима Соловьева. – Сегодня послушаем… Помнишь, как слушали?
– Помню, – сказал Вадим. – Ты тогда включила приемник и села вот сюда, а я здесь сидел…
И оба они поглядели на третий стул у стола, свободный, а потом взглянули друг на друга.
– Ты рассказывай, – сказала Мыша.
– Да, – сказал Вадим Соловьев. – Даже не знаю, с чего начать – столько всего случилось.
– А ты давай по порядку, – сказала Мыша.
Но он начал с конца: с зарезанной книги, с Израиля, с рабби Абоаба и денег на Иисусовом гробе. Она слушала молча, внимательно, перебив только раз: спросила, какого числа прилетел он в Израиль. Но Вадим не помнил числа, назвал примерно и ошибся. И Мыша то ли разочарованно, то ли облегченно покивала головой: получалось так, что Захар погиб за неделю до прилета Вадима в Тель-Авив.
Известие о том, что Вадим решил добиваться возвращения в Россию, Мыша приняла без удивления. А Вадим боялся, что она станет отговаривать его, переубеждать.
– Может, ты и прав, – сказала Мыша. – Особенно, если ты не хочешь или не можешь жить просто так.
– А ты? – спросил Вадим Соловьев.
– Могу, – сказала Мыша. – И Захар жил просто так, легко.
Она впервые за этот вечер назвала имя Захара.
Степан Петрович Удалов любил роскошь. Он ездил в роскошном автомобиле, в его доме помещалась роскошная мебель карельской березы, внутренний карман его пиджака оттягивал роскошный золотой «Ватерман», он был привязан к роскошной домашней собачке редкой тибетской породы, и ангорский кот в зеленом ошейничке, которого он терпеть не мог, тоже был роскошным. Жена Степана Петровича, по всеобщему мнению, была женщиной роскошной, и именно это обстоятельство кое-как примиряло Удалова с его дородной половиной и не давало распасться семье. Сам же Удалов, после двадцати лет совместной жизни, видел в Татьяне Николаевне лишь втиснутое в роскошное белье и одежду беспредельно надоевшее ему тело, мерзко храпевшее по ночам. О мирном же разводе с женой Степан Петрович не думал никогда: это решительно затормозило бы его медленное, но зато верное восхождение по служебной дипломатической лестнице, столь богатой крутыми поворотами. Второй советник посла СССР в Австрии Степан Петрович Удалов был человек оглядчивый, ловкий и отнюдь не дурак. Он был почти уверен, что, при его связях в Большом доме, через два-три года его ждет назначение послом в какую-нибудь маленькую африканскую страну. В своей роскошной венской квартире он терпеливо ждал этого назначения.
В не слишком широкий круг служебных обязанностей Степана Петровича входил, по договоренности с начальником Еврейского отдела КГБ генерал-майором Лукомцевым, догляд за тремя сотнями евреев, эмигрировавших в разное время из Советского Союза и просящихся теперь обратно. Людей этих, обивавших порог советского посольства, следовало держать, по указанию Лукомцева, в постоянном напряжении, не говоря им ни «да», ни «нет», а и говоря «нет» оставлять, все же, малую надежду на грядущее «да». Их судьба целиком зависела, разумеется, от Москвы, но они желали видеть верховную власть в Степане Петровиче Удалове, и он с ними на этот предмет не спорил и снисходительно их не разубеждал. Все три сотни были послушны и преданы Степану Петровичу чрезвычайно. За один лишь туманный намек на получение въездной визы в СССР каждый из них готов был по указанию Степана Петровича совершить героический поступок: устроить общественный скандал, украсть, убить. Ради этого, собственно, их и держали на коротком поводке в Вене, под рукой. Из десятка оперативных планов по их использованию, разработанных ведомством Лукомцева, Степану Петровичу больше всего нравился вот какой: евреи с женами и детишками захватывают американский культурный Центр, берут заложников и направляют Президенту послание с просьбой походатайствовать перед Брежневым, чтоб он учел их искреннее раскаяние, простил ошибки и пустил обратно в Россию. Текст обращения хранился в личном сейфе Удалова, в папке под кодовым названием «Маятник».
Подшефные евреи Удалова были в прошлом людьми торговыми, либо без определенных занятий, перебивавшимися в Вене с хлеба на воду. О каждом из них Степан Петрович посылал запрос в Москву, и через месяц-другой получал подробное досье, из которого можно было узнать о ходатае многое или почти все: где, чем и как торговал в СССР, имел ли судимости, состоял ли на психиатрическом учете, чем занимался после эмиграции – в Израиле или в Америке, не позволял ли себе там высказываний или действий, направленных против Советской власти. Оперативные донесения из стран иммиграции были многочисленны и подробны: Лукомцев с аппаратом не зря занимал целый этаж в Большом доме.
Досье Вадима Михайловича Соловьева, полученное с последней диппочтой, занимало Степана Петровича. «Без определенных занятий, – читал Степан Петрович, – распространялся в Самиздате ограниченно, повторной проверкой в активных связях с врагами народа, порочащими советский государственный строй, не уличен. Отец – русский, мать – полуеврейка. В Риме и Нью-Йорке не проявлялся. В донесении кинорежиссера Кирилла Волоха (Ефима Рабиновича) из Парижа охарактеризован как „умеренный“. В Иерусалиме крестился. Высылка из СССР с использованием израильского канала осуществлена по ошибке следователя второго ранга майора Середюка». К досье была приложена машинописная копия повести Соловьева «Мощи», которую Степан Петрович пролистал безо всякого интереса, не обнаружил там ничего увлекательного и был этим даже несколько разочарован: он ожидал от самиздатчика большего.
Самиздатчик, однако, требовал особого подхода – иного, чем торговцы пивом и мануфактурой, изрядно надоевшие Степану Петровичу. Удалов не сказать, чтоб специально готовился к встрече, назначенной им Вадиму Соловьеву, – но продумал все же несколько вариантов разговора с писателем без определенных занятий. Предстоящая беседа с ошибочно высланным Соловьевым, не придумавшим ничего лучшего, как креститься в жидовском Израиле, обещала быть занимательной. Что же касается майора Середюка – Степан Петрович был уверен, что следователь второго ранга предпримет все от него зависящее, чтобы не допустить возвращения Вадима Соловьева в СССР. Ну, ошибся следователь, это со всяким может случиться! Но репатриационная виза Соловьеву означала нежелательное шевеление старого дела, возможные служебные осложнения и даже выговор, скорее всего устный… Степан Петрович Удалов никогда прежде не встречал человека, высланного из СССР по ошибке, и даже не слышал о таком забавном курьезе.
Однако, и возможность положительного решения не следовало отметать категорически. Кто он такой, собственно, этот Середюк? Кто его поддерживает? Найдется, наверняка, какой-нибудь капитан, метящий на его место. А если вся эта дурацкая история дойдет до Лукомцева – тут уж вовсе неизвестно, как обернется дело: вдруг там, наверху, решат, что выгодно козырнуть перед американцами либерализмом по отношению к творческой интеллигенции.
Поразмыслив, Степан Петрович решил встретиться с Вадимом Соловьевым у себя дома и потолковать с ним, так сказать, по-свойски, по-отечески.
Вадим явился точно в назначенное время – худой, длинный, в холодной, не по сезону, куртке. Раздевшись и тщательно вытерев ноги в передней, украшенной оленьими рогами и гравюрами с изображением охотничьих сцен, он по блестящему паркету прошел в хозяйский кабинет.
– Присаживайтесь, Вадим Михайлович! – Удалов указал на массивное кожаное кресло перед письменным столом. – Заявление ваше я получил, навел кое-какие справки. Вы, значит, хотите вернуться на родину… Чаю, кофе? Рюмку коньяку? – он энергично потряс старинным настольным колокольчиком, вызывая служанку.
– Я хотел бы вернуться, если это возможно, – сказал Вадим Соловьев, старательно подбирая слова. – Я не по собственной воле уехал. Мне рассказывали, что несколько человек получили разрешения.
– Я понимаю вас… – Удалов наклонил голову к плечу, и Вадим Соловьев увидел на его макушке аккуратно причесанные рыжеватые волосы. – Конечно, писатель должен жить среди своего народа. Я читал ваши «Мощи» – очень своеобразная вещь.
Вадим Соловьев быстро, остро взглянул на Удалова – не подлавливает ли его хозяин, не издевается ли. До озноба, до онемения пальцев страшно было слышать такие приятные вещи от советского начальника, держащего в руках его, Вадима Соловьева, судьбу.
– Спасибо… – выдавил, наконец, Вадим. – Я, вообще-то, пишу психологическую прозу, характеры…
– Да-да! – с подъемом поддержал Удалов. – Мы знаем, что вы не антисоветчик, Вадим… Можно просто «Вадим»? Не обидитесь? Ну и прекрасно.
– Вы думаете, мне разрешат вернуться? – спросил Вадим Соловьев, стараясь говорить ровным голосом.
– Мне потребуется проверить еще кое-какие факты, – поглаживая подбородок, неопределенно сказал Удалов, – навести дополнительные справки. За ошибки, разумеется, следует расплачиваться. – Вспомнив майора Середюка, он чуть заметно улыбнулся. – Но вы, сколько нам известно, уже хлебнули горя… Вы ведь много ездили, много видели, не так ли?
– Да, – вздохнув, согласился Вадим Соловьев. – Это было…
– Ну, вот видите! – оживился Удалов. – Ваша история многим, многим может послужить примером. – Он снова вспомнил незадачливого Середюка и улыбнулся уже открыто. – Я бы на вашем месте написал статейку для газеты, для «Известий», скажем, о вашем горьком опыте.
– Это обязательно? – поморщился Вадим Соловьев. – Мне бы не хотелось…
– Это существенно облегчит ваше положение, – твердо сказал Удалов. – И кому ж писать, если не вам, писателю? – он протянул Вадиму хрустальную вазочку с круглыми конфетами, завернутыми в золотую бумажку.
– Знаете, – сказал Вадим Соловьев, беря конфету, – все то, что случилось – это, скорее, материал для рассказа, чем для газетной статьи.
– Может быть, может быть, – сказал Удалов. – Вам видней… Но мы, – он подчеркнул мы, – заинтересованы в том, чтобы такая статья появилась. Допустим, вам трудно ее написать или, вернее, вы боитесь, – теперь он подчеркнул боитесь, – что ваши московские друзья вас за нее осудят. Но, если Париж, как говорится, стоит обедни, то и Москва стоит такой статьи. Или давайте сделаем так: я вам дам готовый текст, а вы его только подправите, отредактируете. А?
Вадим Соловьев молчал, уставившись на свое заявление, лежавшее на столе перед Удаловым.
– Вы ведь вот крестились в Иерусалиме, – журчливо продолжал Степан Петрович. – Вы ж не будете меня убеждать, что никак не могли обойтись без купели и всего этого реквизита! Верите в Бога – ну и верьте на здоровье: не вы первый, не вы последний… Нет, Вадим, вы мне не говорите: вы крестились потому, что вам нужна была помощь, – и вам помогли. Верно? Ну, вот. – Удалов не спеша и с видимым наслаждением отхлебнул кофе из чашечки и продолжал: – Оттого, что вас обрызгали водой, ваша вера стала крепче? Вряд ли. Вы ведь умный человек, так мне и из Москвы о вас сообщили. Значит, вы там, в Иерусалиме, трезво оценили создавшееся положение и пошли на маленькую уступку – нет-нет, не совести, это ни в коем случае, совесть здесь не при чем – а реальной действительности. А если б евреи предложили вам сделать обрезание и за это помочь в вашем деле – вы на это пошли бы? А? Если б у вас не было другого выхода?








