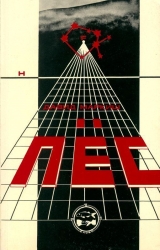
Текст книги "Пёс (Роман)"
Автор книги: Давид Маркиш
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц)
Автобус мощно, без толчка затормозил у старого трехэтажного дома. Дверь была заперта, и шофер, подойдя первым, нажал кнопку звонка, а потом нетерпеливо постучал в стекло согнутым пальцем. Загремела задвижка, клацнул замок и дверь отворилась в зябкую полутьму вестибюля. В дверях стояла женщина лет сорока, малого роста, полная сытой здоровой полнотой. Круглое, еще красивое южной базарной красотой лицо портили золотые зубы, выглядывавшие из-под верхней, вздернутой губы, густо и сочно намазанной помадной краской. В одной руке эта женщина держала длинную коричневую сигарету, в другой – связку ключей на веревочном кольце.
– Заходите, мои дорогие, – сказала она, отступив в вестибюль. – Меня зовут мадам Маня. Если тут есть кто из Одессы, так они, может, меня знают.
Эмигранты толпились в вестибюле, разглядывая мадам Маню. В распахнутой кацавейке, со связкой ключей, в нетопленном вестибюле грязной гостиницы она более всего была похожа на бандершу.
– Что ж вы тут стоите, как неродные! – мадам Маня всплеснула руками, а потом прижала их к груди, вразлет распиравшей кацавейку. – Проходите ж в коридор, там стулья и можно посидеть! А я вас пока перепишу.
В коридор выходила кухня, к ее двери было пришпилено рукописное объявление: «В кухне курей не варить, а только кашу для детей».
– А если у меня нет детей? – пожав плечами, хмуро спросил Бернардинер, обращая, однако, свой вопрос не к мадам Мане, а к Рубильщику.
– Родина прикажет – настругаем! – подмигнул Рубильщик. – А насчет курей, так ты не бойся: мы с этой мадамой поладим. Были б только куры…
Устроившись вдоль стеночки коридора, эмигранты не без тревоги наблюдали за мадам Маней, пытливо, шаг за шагом оглядывавшей Новосельцев. В этом новом мире, где почему-то нельзя было варить кур, она представлялась им начальницей, от которой в определенной степени зависела их дальнейшая судьба. С лысоватым сохнутчиком на аэродроме можно было безбоязненно ругаться, можно было на него кричать – потому что он был явно лишним на их пути и следовало от него поскорей освободиться, как от досадного препятствия, от него и от его Израиля – и перейти в другие руки, в руки вот этой мадам Мани. Ни в коем случае нельзя ее раздражать, нельзя с ней ссориться. Наоборот, желательно ей понравиться с самого порога, быть может, подарить ей что-нибудь – бутылку водки, янтарные запонки, расписную матрешку или льняную простыню. С начальством надо уметь ладить, и это дело непростое, требующее сноровки и опыта. Но вот поладили же с сердитым начальником на русской таможне – кто колечком, кто бутылкой водки или красненькой. И с поляком в белых перчатках поладили, хотя он кричал и требовал доллары, а на рубли сначала и глядеть не хотел. Ну, сохнутчик не в счет, Бог с ним – какой он им начальник! А теперь вот мадам Маня, хозяйка. Захочет – даст комнату, захочет – поселит в коридоре. А, может, и с Америкой посодействует, чтоб поскорей в Штаты попасть: известно ведь, что одни год сидят ждут, а другие только месяц один. А – почему? Потому что всякий человек хорошее отношение любит, хоть мадам Маня, хоть американский консул в кабинете. Ну, до консула высоко, а и большая-то машина на маленьких винтиках держится, вот на таких вот мадам Манях. И они смазки требуют перво-наперво… Нет, с мадам Маней портить отношения нельзя, даже если совсем в кухню не ходить и грызть по своим углам сырую картошку.
Это было ясно и Рубильщику, и Бернандинеру, и той гладковолосой девушке из Черкизова.
Понимал это и Вадим Соловьев, державшийся особняком от кучи, между коридором и вестибюлем, словно бы делая тем самым намек, что пребывание его здесь – случайное и кратковременное.
Меж тем мадам Маня, переписав эмигрантов, отперла ключом из связки большую комнату в конце коридора и объявила:
– Теперь будет беседа…
Комната для бесед была нежилой; там стоял низкий журнальный столик, три кресла, диван с высокой спинкой и старый радиоприемник «Филиппс».
Первым мадам Маня вызвала Бернандинера.
– Ну, как доехали? – ласково глядя на Бернандинера, осведомилась мадам Маня. – Что у вас есть на продажу?
Как бы припоминая, Бернандинер морщил широкий желтоватый лоб.
– А что бы вас интересовало? – спросил Бернандинер.
– Ну, камушки, – объяснила мадам Маня. Может, колечко какое от мамы осталось. Янтарь тоже можно. Шампанское, икра. Сигареты американские взяли в самолете? Так я куплю.
Бернандинер знал очень хорошо, когда следует спешить, а когда – проявлять выдержку. Янтарь он намеревался придержать для римского базара, камушков у него не было, колечко носила оставшаяся в Москве мама, а американские сигареты он хотел выкурить сам. Поэтому мадам Маня, получив по дешевке коробку кубинских сигар, потеряла интерес к Бернандинеру.
Зато с гладковолосой девушкой ей повезло больше: не возражая и не торгуясь, девушка сняла с тонких розовых мочек коралловые сережки.
– Брошки нет, деточка? – пряча сережки в карман кацавейки, спросила мадам Маня. – Такая красивенькая деточка, прямо удовольствие посмотреть.
Брошки не было, и девушка, казалось, готова была попросить за это прощения у мадам Мани.
– Ну, ничего, – утешила мадам Маня. – Я тебя познакомлю с роскошным кавалером, он сам тоже бывший русский. У него магазин в Берлине, он поведет тебя в ресторан. Все хотят немножко повеселиться за свои деньги, запомни это, деточка!
Вадим вошел в комнату третьим. Мадам Мане не понадобилось много времени, чтобы определить, что у него нет ничего: ни янтаря, ни американских сигарет. Узнав, что Вадим – русский, мадам Маня очень обрадовалась:
– Лично я люблю русских, – сказала мадам Маня, – что бы мне там ни говорили. С вами можно делать дела. А что вы пьете – так сейчас все пьют. Мой муж, чтоб он сгорел, тоже пьет. А у него, между прочим, язва желудка и ему нельзя.
– А где тут Толстовский фонд? – тоскливо спросил Вадим. – Мне, наверно, туда нужно…
– Это завтра, деточка, – сказала мадам Маня. – Я дам тебе койку, и завтра ты пойдешь себе… Позови мне следующего!
После беседы с мадам Маней слегка облегченные эмигранты разошлись по отведенным им комнатам. Вадиму – человеку несемейному – досталась коечка в тупике коридора на втором этаже, за занавеской. Он спал беспокойно и проснулся до света.
Мадам Маня, напротив, спала без сновидений до восьми утра. Она спала под китайским пуховым одеялом, крытым лазоревым шелком, в тесной комнатушке на первом этаже, загроможденной выторгованным у эмигрантов ходовым товаром. В комнатушке было тепло и пахло жирной таллинской килькой пряного посола.
Мадам Маня считала себя удачливой женщиной, не обойденной счастьем. Ей, действительно, будет житься легко еще четыре с половиной года – до дня помещения в тюрьму города Гонконга, где она умрет от последствий сифилиса на пятьдесят втором году жизни.

3
МИР СЧАСТЬЯ ЗАХАРА АРТЕМЬЕВА
Горячие каштаны грели пальцы сквозь бумажный кулек, и это было необыкновенно приятно, если вдуматься. Захар Артемьев не спеша очистил каштан и опустил скорлупу в карман старого плаща цвета сырого песка. Плащ был изношен, висел мешком и грел слабо, а, вернее, и вовсе не грел – зато длинный вязаный шарф можно было обернуть вокруг шей и спрятать в него лицо до самого носа; носовое дыхание, направленное в складки шерстяного шарфа, давало дополнительное тепло. Не было, правда, перчаток – но, купленные даже на Картнерштрассе, перчатки за пятьсот шиллингов не дали бы такого приятного ощущения домашнего тепла, как вот этот кулек с каштанами.
Размышляя таким образом и жуя горячий мучнистый каштан, Захар был счастлив. Прежде чем отвлечься от своего счастья и обратить внимание на Вадима Соловьева, разыскивавшего вход в контору Толстовского фонда, Захар успел подумать о том, что клиенту перчаточного магазина на Картнерштрассе ведомы, наверно, иные радости – удачливая биржевая игра или урчание нового мерседеса, и что он, постоянно теплорукий, никак не притязает на мир его, Захарова, счастья. Бог с ним, игроком и автомобилистом.
– А вам сюда, – сказал Захар, увидев озирающегося по сторонам Вадима Соловьева со спортивным баулом. – Берите каштан, он теплый.
– Вы тоже – оттуда? – спросил Вадим, опуская баул на землю.
– Из Ленинграда.
– А я – из Москвы, – сказал Вадим. – Вчера прилетел.
Захар не удивился. Ну, вчера – так вчера.
– Я здесь уже полгода, – сказал Захар. – У нас на втором этаже комната сдается, можно снять. Сейчас здесь оформитесь – и можно поехать посмотреть. Ехать, правда, далеко: на трамвае, потом на автобусе.
Оформление заняло не более получаса, но и эта проволочка показалась Вадиму чрезмерной: ему хотелось шагать по улице в редакцию толстого журнала, или говорить с понимающими приятелями о Кафке и Джойсе. Жаль было времени, Вадиму просто не стоялось на месте. Доброжелательные расспросы фондовского чиновника о родителях и о нехватке продовольствия в Москве только раздражали его… Захар, напротив, сидел в углу комнаты совершенно спокойно; время, казалось, вовсе не существовало для него, он никуда не спешил и не имел никаких планов. Положа крупные, костлявые кисти рук на колени, он вдумчиво глядел на предметы случайной конторской мебели, словно бы дружески упрекая их за молчание.
В трамвае, в уютной тесноте вагона, Захар разговорился. Он рассказывал о каком-то своем приятеле, родом из Вышнего Волочка, художнике-самоучке, составляющем рельефные картины из печеного хлеба. Преследуемый властями за любовь к свободе и правде, художник поселился теперь в глухой приозерной деревне и живет там в брошеной баньке, на птичьих правах. Он мечтает эмигрировать и присоединиться к Захару в Вене, но вызовы из Израиля не доходят до него в его захолустье. С фотографии, которую показал Захар, глядел симпатичный длиннорукий парень, прислонившийся к стене кособокой баньки. Рядом с парнем стояла, улыбаясь и щурясь от солнца, молодая простоволосая женщина с ребенком на руках.
– Я у них там был с Мышей, – сказал Захар, убирая фотографию во внутренний карман плаща. – Перед самым отъездом. Очень хорошие они люди, им в Совдепии тяжко приходится.
Он потом еще несколько раз упомянул женщину по имени, то ли по прозвищу Мыша, – скорее, по прозвищу. Вадим знал ребят, называвших своих женщин – Мыша, Мышка. То были хорошие, добрые ребята. Сам Вадим не стал бы, пожалуй, так называть своих подруг.
Выехали за город, когда Захар определил, что едут они не в ту сторону. Это его не огорчило, а как бы позабавило: вот, мол, интересно-то – не в ту сторону! Но он тут же осек себя, участливо потянулся к Вадиму верхней частью длинного плоского туловища:
– Вы ведь, наверно, устали! Как же это я так…
– Давай уж на «ты», – сказал Вадим, ухмыляясь неизвестно чему. – Успеем, сегодня все равно день пропал…
– Нет-нет! – живо возразил Захар, слезая с подножки на перрон. – Ничего не пропал! Слышишь, как лесом пахнет и снегом? Это – Грюндиг, вот мы, оказывается, куда заехали. А так бы, может, и не пришлось бы побывать. Смотри, какие кабачки! Давай постоим здесь немного.
– Давай… – без подъема согласился Вадим и опустил сумку в снег. – Правда, хорошо.
– Да и у нас хорошо, где я живу, – сообщил Захар, пряча подбородок в шарф.
– А куда вы едете? – спросил Вадим с интересом. – В Штаты?
– Да я и сам не знаю, – пожал плечами Захар. – Мне все равно. Нам с Мышей здесь тоже очень нравится.
– Так вы здесь хотите остаться? – уточнил Вадим.
– Вряд ли выйдет, – без печали сказал Захар. – Австрийцы эмигрантов почти не берут, тем более если профессии нет никакой.
– Да, без профессии, конечно, тяжко, – машинально согласился Вадим, думая о своем. Его немного познабливало. – А ты, значит, без профессии?
– Без, – сказал Захар беспечально. – Но это ведь как взглянуть: быть, скажем, стукачом – профессия? А – Эйнштейном? Или Папой Римским?
– А если ты, скажем, писатель? – вскользь поинтересовался Вадим.
– Писатель – это надпрофессия, – убежденно сказал Захар. – Хороший писатель.
– Ну, так… – согласился Вадим. – Слушай, Захар, тут в трамваях печки, что ли, в сиденьях стоят? Как ехали – задницу здорово пекло.
– Да, – сказал Захар. – Печки.
– Ну, молодцы австрийцы! – одобрил Вадим. – Надо же было придумать!
– А ты замерз, – озаботился Захар. – Ехать надо.
– Знаешь что, – сказал Вадим, – давай-ка зайдем вот сюда. У меня доллары есть. Ты по-немецки умеешь?
– Чего там уметь! – уклонился Захар. – Закажем сосиски и по стакану вина.
В кабачке оказалось шумно, пьяновато. Поблескивали отшлифованные локтями коричневые дощатые столешницы.
– А я, знаешь, писатель, – усевшись за стол, сказал Вадим и взглянул на Захара как бы выжидающе.
Захар с удовольствием потянул носом – остро пахло соленьями, сушеным мясом цвета красного дерева, сухим вином.
– Хорошо… – сказал Захар и улыбнулся улыбкой мгновенно счастливого человека. – Так ты, наверно, понимаешь, что такое чудо.
– Я в чудеса не верю, – сухо сказал Вадим, ожидавший более горячей реакции на свое сообщение. Странный, все-таки, парень этот Захар. Фамилию спросил бы, что ли.
– Можно и не верить, – охотно поддержал Захар. – Главное, это понимать: вот чудо, и вот – чудо.
– Ну, например, – сказал Вадим. – Пример можешь привести?
– Жизнь! – доверчиво и охотно объяснил Захар. – Мы живем, и это чудо… Капля слизи в мешочке – это глаз, он видит. Косточки какой-то огрызок в черной дырке – слышит! И вот смотри-ка: «Не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием» И не обязательно человека бить палкой, чтоб ему стало больно, и не обязательно дать ему кусок сахару, чтоб ему стало сладко, и сладость и боль внутри нас, и другие всякие вещи, какие ты только хочешь. Вот это и есть – чудо!
– Да никто и не спорит – сказал Вадим, тихонько двигая по столу высокий стакан. – Я тоже не верю, что обезьяна слезла с дерева без поддержки Господа Бога… Скажи им, чтоб они горчицу дали.
– Здесь горчица слабая, – Захар помахал рукой официанту. – А вино – просто прелесть.
– Чудо? – спросил Вадим не без ехидства. – Маленькое чудо? – его злило, что Захар так и не спросил, как его, Вадима, фамилия и что он в жизни пишет.
– Чудо нельзя измерить, – облепив стакан длинными, гибкими пальцами, Захар плавно покачивал в нем медового цвета, с искринками вино. – Я, во всяком случае, не умею. Да и зачем это надо?.. А вино – нет, пожалуй, не чудо. Просто, когда пьешь такое вино, тебе хорошо и приятно.
– Как же, как же? – вдруг загорячился Вадим. – Ты же сам себе противоречишь. Ты сказал, что не обязательно человека сахаром сладить, есть в нем врожденная, вечная, что ли, и сладость, и горечь…
– Ну да, – сказал Захар и, взглянув на Вадима покойно, медленно прижмурился. – Так ведь человек потому и человек, а не волк, что противоречив. Будь мы не противоречивы, мы и чудо приладились бы сантиметром замерять, как ситчик на прилавке.
– М-да… – неопределенно протянул Вадим. – Меня вот не посадили, а выпустили сюда, и это, пожалуй, чудо.
– Не чудо, – уверенно определил Захар, и качнул рукой, и вино чуть ни пролилось. – Сочетание обстоятельств, расчет – но только не чудо. Чудо – это дело духовное, не внешнее.
– А! – досадливо свел брови и отмахнулся Вадим. – Сошлись славяне в Вене, за стаканом вина, и сразу – о чудесах и о духе.
– При чем тут славяне? – тихонько поправил Захар. – Христиане!
– Ну, ладно, – устало согласился Вадим. – Христиане. Я, вообще-то, неверующий.
– Все дело в том, – словно бы не слыша, продолжал Захар, – как человек себя понимает, кто он: отблеск Бога и вселенная – или ничтожный червь.
– Червь, – сказал Вадим убежденно. – Ничтожный червь, состоящий из мяса, из костей и из дерьма. Червь, по глупости вообразивший себя вселенной.
– А как же душа? – живо, как бы делая удачный, подготовленный ход, возразил Захар.
– Да ладно, – Вадим нахохлился над стаканом, глядел тяжело. – Душа… Что мы знаем о душе? А об этом, о червяке – что знаем? Мы даже не знаем, кто он такой – червяк или отблеск Бога. – Вадиму вдруг сделалось сонно, одиноко и почти страшно, ему захотелось в свою берлогу – московскую или какую другую, – чтоб можно было запереть дверь, заварить покрепче цейлонского и сесть за машинку. – Ты прав, прав, – сказал он Захару, едва ворочая языком. – Я просто устал. Ведь первый день.
– Да, поедем, – сказал Захар. – Я думал, тебе интересно будет здесь.
– Возьмем такси, – сказал Вадим.
– Очень дорого, – сказал Захар. – Но давай возьмем, если хочешь.
Ехали долго, молча. Окраинная Вена сделалась как бы уже и не Веной, а сырым каким-то, случайным и скучным городом, пересадочным пунктом без вальса и кучера в цилиндре. Глядя в окно, в экономно подсвеченные фонарями тяжелые сумерки, Вадим злобно усмехнулся: праздник первого дня свободы не получился. С самолета, с птичьего полета все это выглядело как-то иначе. Все это скопление домов, людей, трамваев и лотков умещалось в одно короткое, катящееся, как обруч по склону, слово свобода. И не было ничего, кроме легкого и звонкого бега этого самого обруча, его бега по зеленым дорожкам парка и по серебряному аэродромному полю, по тысячам голубых жилок сделавшегося вдруг свободным Вадимова тела. А вот этого сырого сумрака за окном не было и в помине. И уж, тем более, не было знобящего, как этот сумрак, страха одиночества среди людей, необъяснимого страха человека в ночном лесу. Страха стать через полгода таким, как симпатичный Захар, верящий в чудеса.
– Это наша улица, – сказал Захар. – Вот отсюда она начинается, от моста. А в этом доме тоже эмигранты живут, из Москвы. Художник Гурарий – может, слыхал?
– Гурарий? Миша?
– Ну да, – подтвердил Захар. – Мы с ним хорошие приятели, и Мыша…
– Когда ж он уехал? – требовал Вадим, почти привалившись к Захару. – Я ж его видел на Кузнецком…
– Ну, с месяц, – прикинул Захар. – Да, с месяц уже. Я его тоже в Фонде встретил и квартиру эту нашел.
– В Фонде? – переспросил Вадим. – Но ведь он же еврей.
– Он христианин, – мягко поправил Захар.
– А, – сказал Вадим. – А я и не знал.
– Мы к нему зайдем попозже, если хочешь, – сказал Захар. – Он любит, когда к нему приходят… А вот это наш дом, вон наши окна и балкон. Видишь?
Мыша открыла перед ними дверь – молодая, лет двадцати двух женщина с узкой гибкой спиной, с круглой и нежной линией подбородка, белевшего между двух пластов тяжелых прямых волос, светло-коричневых, свободно падавших, когда она наклоняла голову. Узкие, прямые плечи, вся верхняя часть туловища, утлая, с едва заметными торчащими грудями, была посажена на неожиданно плотные бедра, туго и кругло обтянутые тонкой клетчатой юбкой, ниже которой смугло светились длинные, с тяжелыми икрами и тонкими щиколотками ноги. Домашние туфли на сбитых низких каблуках, опушеные жалким грязно-розовым искусственным мехом, не шли к этим ногам. Хотелось, чтобы эта женщина, Мыша, ступала босиком по чистому линолеуму передней, как по траве или песку пляжа.
Не задержавшись взглядом на хозяйке, Вадим шагнул через порожец.
– Идите сразу на кухню, мальчики, – открыто оглядывая гостя, сказала Мыша. – Чайник как раз вскипел… Или, может, чего покрепче?
– Покрепче, – сказал Захар. – Сыро так на улице.
– Ноги промочил? – спросила Мыша, доставая чашки с высокой полки. – Я сейчас носки дам теплые. – Она тянулась за чашками, привстав на цыпочки и чуть изломившись в поясе, подавшись чуть назад, – так что короткая кофточка, уйдя вверх, открыла поясок светлой кожи над юбкой и начало острого хребтика в голубой ложбинке. – Кислая капуста есть, – перечисляла Мыша, – редиски пучок, сальце. Шнапс в холодильнике – достань, Захар, а? Заварка вот…
– Можно, я сам заварю, – попросил Вадим, цепко разглядывая незнакомую синюю коробку с чаем. – В железном чайнике не годится, лучше прямо в чашках.
– А мы с Мышей от чая отвыкли уже, – с початой бутылкой водки в руке оборачиваясь от холодильника, сказал Захар. – Все кофе да кофе… Но и чаек хорошо попить с холода. Только мне не очень крепкий!
Заливая заварку кипятком, вдыхая сочный аромат английского чая, Вадим почувствовал вдруг медленный, головокружащий прилив покоя, – и с ленивым раздражением подумал о том, что вот придется уходить из этой чистой и светлой кухни, из-за этого стола, покрытого скатеркой в сине-белую клеточку. Он мельком взглянул в окно, в синюю темень – там под ветром щелкали сырыми ветвями голые платаны, черные в свете неблизкого фонаря… Вадим Соловьев отвел глаза от окна и словно бы сразу вернулся в теплую капсулу кухни, в безопасное, защищенное толстыми стенами пространство посреди ночи и посреди мира. Тесная капсула в кровеносных сосудах проводов и труб. Захар и Мыша. Вадим Соловьев.
– Ну, давайте выпьем, – сказал Захар. – Мыша, бери, здесь чуть-чуть.
Мыша выпила свою водку одним глотком, озорно запрокинув назад голову на хрупкой шее. Волосы, упав слоисто, открыли, как что-то недозволенное, мелкие, тонкой и рельефной лепки, какие-то звериные уши.
Не спеша выпил до дна и Захар, и накрутил на вилку моточек кислой капусты.
– Вадим Гурария знает, – сказал Захар. – Еще по Москве.
– Правда? – то ли удивилась, то ли обрадовалась Мыша. – А он звонил как раз, звал зайти. Гости у него.
– Я и не знал, что он христианин, – сказал Вадим, вспоминая Захарово сообщение. – Странно, все-таки: еврей…
– Я тоже еврейка, – сказала Мыша как бы с вызовом. – По рождению… Какая разница? Ведь не только Иуда был еврей, но, в конце-то концов, и Иисус.
Это такое домашнее, произнесенное с такой сопричастностью «в конце-то концов» как бы оживило, приблизило вплотную ту давнюю иерусалимскую трагедию, словно бы произошла она вчера или третьего дня, все видели ее по телевизору, в Новостях, и теперь вот обсуждают, сидя за вечерним столом, за чашкой чая.
Откинувшись на плетеную спинку стула, прислушиваясь, как медленно разливается в груди тепло от выпитой водки, Вадим представил себе: каменный переулок, сладко пахнущий жареными в меду орешками. Люди – двести, а, может, и все двести пятьдесят человек, – толпились в переулке и доброжелательно переговаривались, перебрасывались вежливыми и ни к чему не обязывающими репликами о приятной погоде и о растущих ценах на дрова.
Эти бедно одетые базарные люди, похожие на узбеков и армян, толпились и, не приближаясь, глазели на небрежно щеголеватых операторов телевидения, устанавливающих свои камеры по всему переулку, из конца в конец, в двенадцати его точках. Отточенные действия операторов и то, как они уверенно хозяйничали, словно бы уже побывали здесь, в переулке, сотни и тысячи раз, и их серебристые и голубые камеры – все это приковывало внимание толпы и держало ее в неослабном и утомительном напряжении, как перед чудом, которое должно вот-вот здесь свершиться и ради которого и прибыли сюда эти занятые своим делом мужчины в дорогой европейской одежде… И люди вдоль всего переулка, вдоль его лавок и обжорок, толпились и переговаривались вполголоса, и с охотой ждали чуда, ради которого стоило тащиться сюда с другого края земли, с тяжелыми аппаратами.
Группка, не без усилия втиснувшаяся в переулок, в его исток, вызвала лишь мгновенный интерес: нет, не этого ради. В центре тихо голосящей и воющей группки шагал, таща на спине крест, средних лет рыжеволосый сухопарый человек, на журавлиных ногах. Он шагал неровно, согнувшись в поясе, и крылья креста бились о каменные стены домов переулка. Несколько человек тащились за ним, провожая его, да трое конвоиров лениво теснили народ с дороги. Люди недовольно расступались, отряхали одежду: этот рыжеволосый внес своим появлением некую сумятицу и неудобства, мешал ждать, и многие из толпы испытали неловкость перед приезжими операторами…
Вадим придвинулся к столу, взял с блюдечка лепесток розового сала.
– А я вот – неверующий, – сказал Вадим. – Это жалко, наверно. – Он взглянул на Захара, потом на Мышу. – Я просто русский. Русак. А, может, хохол. Москвич, одним словом. – Он усмехнулся, полуприкрыв глаза, глядя на блюдечко с салом. – Какое это, вообще, имеет значение?
– Вообще-то, никакого, – согласился Захар, и Мыша кивнула с готовностью. – Это все спесь одна.
– Смешно даже, – вставила Мыша. – Вот Гурарий Миша…
Вадим вдруг почувствовал неприязнь к Гурарию Мише.
– В каждом человеке столько кровей по намешано, – продолжал Захар. – Ну, чукчи какие-нибудь, может, одни и сохранились. Так что, они от этого лучше или хуже, что чистокровней? Даже, наверно, и физически-то не здоровей.
– Чукчи, – сказал Вадим. – Снег. Переходящее красное знамя за отстрел нерпы… Господи, как все это осточертело!
– А мы уже забыли, – сказала Мыша. – Как будто и не было ничего. И белых ночей – тоже.
– Белые ночи! – с горечью, с болью повторил Захар. – Грибной дождь, грибы, грибной супчик… Ностальгия, – поставив, как стакан на стакан, кулак на кулак, Захар говорил теперь резко, почти зло, – ностальгия – это прикованность животного к своей норе, это страх перед открытым миром. Что может быть общего у человека с деревом или кучей камней?.. Белые ночи!
Он будет зарезан, Захар, через год и восемь дней, за четверть часа до полуночи, в уборной Тель-Авивского аэропорта.
В кухне установилась чуткая кладбищенская тишина, которую не хотелось нарушить голосом или суетливым, шумным движением; только похрипывал, качаясь, маятник старых настенных часов в тусклом деревянном футляре.
– Мыш… – тихонько позвал Захар. – Ты что ж…
Мыша поднялась проворно, сняла с холодильника «Спидолу», включила. Видно, это была ее работа – снимать и включать «Спидолу» в положенное время. Приемник был настроен.
«Передаем сводку погоды, – сообщил диктор. – По сообщению Главного Управления Метеорологической службы, ожидается дальнейшее похолодание. Возможны снеговые осадки, ветер умеренный до сильного. Температура в Москве – минус девятнадцать-двадцать градусов, в Ленинграде – минус семнадцать градусов мороза».
– Ну и холодина, – сказала Мыша и выключила приемник.
Вадим ухмыльнулся.
– Нет-нет, – сказал Захар, отводя внимательный взгляд от динамика. – Ты не думай, это просто так. Интересно, все же – как там погода…
Вадим собрался что-то сказать, но потом раздумал, промолчал. Хотят слушать сводку погоды – что ж, их дело. Сегодня сводка, завтра – супчик этот самый, грибной. Ай-яй-яй, Захар.
– Пойдемте, что ли, к Гурарию, – сказала Мыша и поднялась из-за стола.
Миша Гурарий с женой Верой и маленькой дочкой занимал трехкомнатную квартиру на последнем этаже шестиэтажного дома. Полчаса назад дочка вышла к гостям попрощаться – розовая после ванны, в длинной, до полу, ночной рубашке. «Покойной ночи! – сказала девочка. – Гуте нахт!» Теперь она спит на своем диванчике, она не встретится нам больше никогда, и нет нужды называть ее по имени.
А гости, растроганно подивившись розовой чистоте ребенка, тут же о нем забыли. Их волновали проблемы собственного будущего, такого покамест неопределенного. А девочка – что ж девочка! Можно ей только позавидовать: она выучит немецкий язык, или какой другой, она выйдет замуж за какого-нибудь местного человека и ей плевать будет на все эти варварские, бессовестные правила, по которым российским беженцам нельзя сидеть в Вене, а нужно обязательно ехать в Рим – хотят они того или не хотят.
Гостей было четверо, две пары: киевляне Ира и Сеня Повольские и Мещеркины Андрей с Катей, москвичи. Размещались гости в просторной полутемной гостиной, по желтому паркету которой расставлены были вокруг низкого журнального столика тяжелые и громоздкие кресла. Мягкое освещение скрывало потертость и засаленность кресельной обивки.
Вадим с Мишей Гурарием обнимались в передней, гулко хлопали друг друга по спинам: тесен мир, черт дери, кто бы подумал! Да-да, на Кузнецком, против магазина «Овощи», как будто вчера это было… Вера стояла тут же, дожидалась своей порции объятий. В Москве ни с Мишей, ни, тем более, с Верой Вадим не обнимался никогда. Ему это пришло в голову, когда он обнимал мягкую и теплую Веру; и ему вдруг стало тоскливо, как будто он сам себя обнимал, безвозвратно куда-то отправляясь, в неведомые края.
Гости отнеслись к Вадиму с разным интересом: Мещеркины – со сдержанным дружелюбием, а киевлянин Сеня Повольский – взыскующе, как будто Вадим должен был ему, Сене, нечто весьма существенное, и теперь вот представился неповторимый случай ему, Сене, это нечто получить, хотя бы и с применением буйной силы. Уперев аккуратно причесанную голову в ладонь – большой палец заведен под подбородок, указательный и средний вытянуты рогаткой вверх, к носу, и вжаты в розовые губы, в жесткие рыжеватые усы – Семен Повольский весь нетерпеливо был устремлен вперед, и только эта прижатая к лицу ладонь словно бы удерживала его от рывка и последующего захвата мирного пространства перед ним. Жена его Ира, напротив, сидела в кресле расслабленно и совершенно безмятежно. Она была по-киевски плотно сбита и темные ее, выпуклые глаза имели выражение довольства.
– Знакомьтесь: Вадим, – представил Миша Гурарий. – Вчера только оттуда.
– Киевлянин? – на миг отведя пальцы от губ, отрывисто осведомился Сеня и еще подался вперед.
– Венец, – за Вадима ответил Андрей Мещеркин и медленно взмахнул рукой. – Уже венец. В Вене мы должны чувствовать себя венцами, это самое главное. Так-то, господа.
– Эмигрант ты, – отведя пальцы на самую малость, определил положение Мещеркина Сеня. – Чего выпендриваешься?
– Ах, оставь! – сказала Катя Мещеркина, поворачивая в кресле длинное плоское тело, затянутое в серебристое, из каких-то блестящих чешуек платье. – Выбирай, пожалуйста, выражения!
Андрей молчал, снисходительно полуприкрыв глаза и поглаживая пальцем складку тщательно отутюженных брюк.
– Я москвич, – сказал Вадим, прикидывая, где бы сесть – у стола или в углу, на одиноком стуле. – А родился, кстати, в Киеве.
– Кстати, кстати, – утвердил Сеня. – Я на улице Седьмого ноября жил.
– Боже, Днепр! – колыхнулась в кресле Ира.
Она сказала это так, как будто открыла неведомую дотоле никому прекрасную правду: по Киеву протекает река Днепр, а не Енисей и не Миссисипи.
– Река как река! – пожал плечами Вадим и решительно направился в угол. – Даже хуже. Не люблю.
– Ну, что вы! – обиделась за Днепр Ира. – А пляж!
– А что пляж? – буркнул с одинокого стула Вадим. – Грязный песок, пустые бутылки… Редкая птица долетит до середины Днепра – если не от вони подохнет, так от тоски. Знаете?
– Боже! – скрипнула креслом Ира. – Какой вы… – она не нашлась, что сказать и молчала укоризненно, вертя на пальце тяжелое обручальное кольцо темного золота.
– Правильно, – несколько нараспев сказал Мещеркин и поглядел на Вадима с новой симпатией. – Совершенно правильно! Прошлое следует отрезать, как кусок колбасы. Прошлое – враг будущего, для нас, разумеется, в нашем положении.








