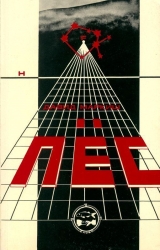
Текст книги "Пёс (Роман)"
Автор книги: Давид Маркиш
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
А Жокей тем временем все более увлекался, он вертелся, как заведенный, и посылал по всем направлениям одиночные выстрелы и целые очереди. И поглядывал на толстячка поощрительно, как на ловкого партнера.
– Пускай мальчик перестанет! – перегнувшись через стол к матери толстячка, сказал Вадим. – А то этот тип в кепке, кажется, сбесился.
– Ну, это его дело, – сказала женщина. – Тут много таких, вы просто еще не привыкли.
Руки Жокея тряслись, как будто он удерживал работающий пулемет, лицо его выражало ярость и злобу; стол перед ним ходил ходуном. Вадим незаметно отодвинулся вместе со стулом, чтоб можно было побыстрее вскочить на ноги в случае необходимости.
Миг спустя мягким, кошачьим движением Жокей выудил из внутреннего кармана плаща большой наган и, не целясь, выстрелил в экран игрального аппарата. Ошарашенные дети, не сообразившие, впрочем, в чем дело, отхлынули к родительскому столу. Тесня и толкая детей, родители бросились к двери и вывалились на улицу, к поджидавшему их там Вадиму Соловьеву со сведенными кулаками. Более всего Вадиму хотелось дать по шее толстячку, только сейчас взявшемуся кричать и плакать.
– Бежим! – приказал Володя Бромберг, и вся стайка переместилась на угол квартала.
– Может, полицию вызвать? – предложил Вадим.
– Не надо! – решительно воспротивился Володя Бромберг. – Это здесь не принято. Сами пусть разбираются.
Они и разбирались: двое плечистых молодых людей с круглыми черными глазами, неизвестно откуда взявшиеся, стукнули Жокея короткой кожаной палкой по голове и потащили его из зала кафе в подвал. А в Итальянском квартале никто не реагировал ни на стрельбу, ни на насилие, учиненное над Жокеем.
После этого случая Вадим Соловьев потерял охоту бродить по Нью-Йорку, наблюдая жизнь этого города.
На Брайтон-бич он попал лишь за полчаса до начала своего вечера. Володя Бромберг провез его по набережной, мимо магазинов под русскими вывесками, мимо русских киосков и ресторанов, мимо горстки пожилых одесситов, танцующих прямо на мостовой танго под патефон. Вадим подивился такому проявлению веселья, но тут же забыл о нем. Он волновался, нервничал: как пройдет вечер, как будут слушать? Рассказ он выбрал непростой, с горчинкой – о московской девчонке, работающей посудомойкой в кафе «Синяя птица» и безответно влюбленной в ослепительного трубача из оркестра. Так вот, этот трубач, женатый человек, не имеющий, однако же, постоянной привязанности, крадет деньги из кассы кафе. Ему грозит тюрьма. И тогда посудомойка – девушка в изначальном понимании этого слова – пересыпает за стопочку мелких купюр с отвратительным и старым гардеробщиком кафе, а потом всю ночь до утра занимается проституцией то в такси, то в подъездах. К утру, растерзанная, еле живая, она приносит деньги трубачу. А трубач к этому времени уже не нуждается ни в каких деньгах – он выплакал у нелюбимой жены цигейковую шубу для продажи и, не разобравшись в чем дело, просто-напросто выталкивает посудомойку за дверь… В рассказе Вадим вкусно написал посудомойку и ее несчастную ночь, а трубач получился, пожалуй, слишком ослепительным. Впрочем, и трубач, и посудомойка были лишь фоном, а речь шла об идиотизме нравственного подвига. К обсуждению этой темы Вадим Соловьев и хотел свести разговор с читателями.
Прочитав на двери магазина писаный от руки плакат «Встреча с писателем Вадимом Соловьевым», Вадим еще более разнервничался. Ах, как жаль, что старик Лир не поехал с ним сюда, отказался под каким-то пустячным предлогом! Ничего у него не болело более, чем обычно, – просто он боялся, что Вадима ждет провал, и не желал присутствовать при нем. А Вадим, напротив, был уверен, что тема идиотизма нравственного подвига близка вчерашним русским людям, тем более евреям. Над этой темой надо думать, рассматривать ее и так, и эдак, поворачивать разными гранями к свету.
Магазин был заперт, войти в него было нельзя. Прижавшись лбом к дверному стеклу, Вадим Соловьев рассматривал случайное помещение, полки, на которых можно было бы с тем же успехом расставить банки с огурцами или разложить рулоны мануфактуры. За десять минут до начала прикатил на видавшем виды «Мустанге» хозяин магазина – молодой человек в кепке, похожий на кого угодно, только не на книгопродавца, каким представлял его себе Вадим Соловьев.
– Ну давай! – сказал торговец, отпирая магазин. – Поехали! Сейчас наша кавалерия подтянется. Сказали им – в семь, в полвосьмого придут к финишу.
То ли он раньше играл на скачках, этот парень, то ли сам бегал.
– Они всегда так опаздывают? – сурово справился Вадим Соловьев.
– Евреи же! – беззаботно пожал плечами торговец. – Придут, куда денутся. А чего им еще делать?
Вадим не стал рассказывать торговцу, что он ждет на свой вечер вовсе не тех людей, которым нечего делать. Хорошо, что Лир не поехал – он, Вадим Соловьев, провалился бы под землю со стыда, если б дядя Саша послушал проклятого торговца и увидел эту дрянную лавку, именуемую «книжный магазин».
В магазине было сыро и сумрачно, пахло то ли мышами, то ли хозяйственным мылом; очевидно, совсем недавно здесь, действительно, торговали отнюдь не книгами. Посреди помещения расставлено было десятка полтора складных алюминиевых стульев.
– Ангар что надо! – похвалил свою лавку торговец, и Вадим усомнился: а скакал ли он? Может, служил в армии, в авиации? Вадиму вдруг, неизвестно зачем, захотелось узнать, чем занимался этот парень раньше, в России. Скакал, летал? Спекулировал чем-нибудь?
– Овес почем? – сказал Вадим Соловьев, словно бы обращаясь к самому себе. Он плохо разбирался в конском деле.
Торговец посмотрел на Вадима с интересом.
– Толя меня зовут, – сказал торговец. – Толя Гриншпун. Так что будем знакомы.
Стоять у двери магазина, на фоне плакатика, возвещающего о литературном вечере, было тягостно, и Вадим пошел в кафе напротив, попить водички. Через окно кафе он видел, как какой-то старичок, изучив плакатик, вошел в магазин, потом появилась пожилая пара. Вадим отвернулся от окна, уткнулся в свой стакан: смотреть на то, как никто не приходит, было страшно.
Четверть часа спустя, переходя улицу от кафе к книжному магазину, Вадим Соловьев гадал: может, пришли, когда он сидел, отвернувшись от окна, над своим стаканом?
На складных алюминиевых стульях помещалось семеро стариков и старух и молодой человек лет двадцати пяти с плоскими голубыми глазами и розовым лепестком рта в пучине широкой черной бороды. Молодой человек глядел на Вадима доброжелательно, старики и старухи – с любопытством.
– Ну, вот, я же говорил – прискачут, – сказал торговец и снял кепку, приготовившись слушать Вадима Соловьева. – И Шмулик вот пришел.
Отметив про себя, что единственного молодого любителя русской литературы зовут Шмулик, Вадим подошел к прилавку и оперся о него спиной. Перед ним сидели восемь человек, ради которых он приехал из Парижа сюда, в Америку, и с которыми он намеревался рассуждать об идиотизме нравственного подвига. Одна из старух дремала, уронив большое складчатое лицо на плечо, старик – тот, что изучал плакатик, – не доверяя, очевидно, кнопочному слуховому аппарату, подался со стула вперед и приставил ладошку к уху… Более всего Вадиму Соловьеву хотелось сейчас повернуться и бежать в Москву, или обратно в Париж, или даже в проклятый город Рим.
– Я покажу вам рассказ, – сказал Вадим ровным, мутным голосом. – Разбудите, пожалуйста, эту бабушку.
Во время чтения старики сидели тихо, некоторые дремали. Краем глаза Вадим ловил склонившиеся старческие головы, приоткрытые рты. Он читал машинально: произнося слова, не вдумывался в их смысл. Если бы его сейчас прервали, он не знал бы, с какого места продолжать.
Но его никто и не думал прерывать ни гневным ропотом, ни возгласами восторга. С тем же результатом он мог бы, казалось ему, читать чужую вещь: «Войну и мир», Кафку или Марксов «Капитал». Произнося как бы чужими губами чужие, взятые напрокат на этот вечер слова, он мечтал о собственном подвиге: прекратить это никому ненужное губошевеление, выйти и бежать, не оглядываясь. Но он продолжал читать, холодно отмечая, как еще одна отвратительная голова неряшливым узлом упала на чью-то грудь, из еще одного рта вырвался немощный, прерывистый храпок… Потом он утратил ощущение времени и так стоял, говоря.
Когда он закончил, спящие проснулись от наступившей тишины, и все потянулись к выходу. Уже от двери глухой старик вернулся и проковылял к одиноко стоявшему Вадиму. Сладкая боль сжала сердце Вадима: вот плетется к нему этот старик, его последний слушатель, последняя соломинка, к которой он, литератор Вадим Соловьев, плача и смеясь над самим собою, протягивает руки.
– Молодой человек, – поморгав и поперхав, сказал старик. – Вы не знаете Исроэля Карпа из Одессы? Ах, вы сами не из Одессы? Ну, извините.
И соломинка поплыла, покачиваясь, к двери.
Теперь можно было бежать куда угодно, в любую сторону, но не стало для этого ни сил, ни азарта.
У дверей, на улице, Вадима Соловьева поджидал Шмулик.
– Пойдемте выпьем кофе, – глядя в Вадима своими плоскими глазами, сказал Шмулик. – За счет еврейского народа. Я, знаете ли, работаю в Сохнуте.
Вадим вспомнил симпатичного Лысача в Вене и взглянул на Шмулика осмысленно.
– Я не еврей, – сказал Вадим. – Я русский, москвич.
– Все в этом мире, если разобраться, евреи. – Шмулик развел руками, подчеркивая тем, что он ничего не может поделать с таким положением вещей. – В большей или меньшей степени… Вы не волнуйтесь, я вас потом отвезу, куда вам надо.
– Отвезете? – переспросил Вадим, соображая, к кому б ему поехать; к Лиру не хотелось: что угодно – только не рассказывать ему по свежим следам о сегодняшнем.
– Отвезу! – подтвердил Шмулик. Плоские голубые глаза, черная борода и розовый рот в ней – все вместе это производило впечатление забавное и тревожное.
– В Москву отвезете? – спросил Вадим Соловьев как бы мимоходом.
– В Москву – никак, – так же легко ответил Шмулик. – В Израиль…
Вадим невесело улыбнулся шутке Шмулика.
В темном и нечистом кафе сели в уголок, повертели стертые по углам, в пятнах карточки меню. Шмулик заказал кофе.
– Не расстраивайтесь! – вкусно прихлебывая, сказал Шмулик. – Здесь всегда так. Вот с полгода назад устраивали встречу с Пирожковым – было то же самое.
Вадим угрюмо молчал, уставясь в стынущее кофе.
– Может, хотите съесть что-нибудь? – спросил Шмулик. – Гамбургер?
– Не хочу грабить еврейский народ, – сказал Вадим.
– Значит, гамбургер? – уточнил Шмулик. – С чипсами?
– Вот вы сказали – «здесь всегда так», – Вадим кивнул за окно, на улицу. – Где «здесь»? На Брайтон-бич?
– Ну, я беру шире, – повел рукою с чашкой Шмулик. – Вообще в Штатах. Есть, конечно, люди, которые читают. Но сколько их, сами посудите? Раз-два, и обчелся. Книги дорогие, выбор почти нулевой – я имею в виду эмигрантских писателей. Ну, Пирожков, ну, вот еще Грибов недавно приехал – он, между прочим, в Союзе назывался Кригер. Писатели эти тут перегрызлись, как собаки, они в Москве чаще виделись, чем здесь. Там все были пришибленные, и все одинаково – а тут каждый по-своему. Книжку издать – мечта, а денег-то где взять на эту мечту? У нас, между прочим, первую книжку издают за счет государства.
– Где это? – не понял Вадим Соловьев.
– У нас, в Израиле, – пояснил Шмулик. – Хотите, брошюру вам покажу, там все про это написано.
– Послушайте, – терпеливо возразил Вадим, – зачем мне эта ваша брошюра? Я русский, чувствую себя русским эмигрантом. Понимаете? Это, правда, замечательно, что у вас в Израиле печатают первую книгу – но я-то тут при чем? – Ему снова вспомнился Лысач на венском аэродроме, толпа эмигрантов и пара стариков, ехавших в Израиль. – Если б я был евреем, я с вами тут бы не сидел, а сидел бы где-нибудь в Иерусалиме или даже в армии.
– Вот! – слюдяно блеснув глазами, воскликнул Шмулик. – А вы знаете, что в вас есть что-то еврейское? Вам этого никогда не говорили? Кто ваши родители? Вы в них уверены?
Вадим Соловьев смеялся, покачивая головой. В ком он был уверен – так это в своих родителях. Впрочем, эта тема никогда его не волновала и он над ней не задумывался.
– А вы не смейтесь! – с жаром убеждал Шмулик. – У евреев все бывает. У нас есть один раввин, так его во время войны прятали поляки от немцев, и он даже не знал что он еврей, пока его оттуда не вытащили и не привезли в Израиль… Вы, например, знаете точно, кто была ваша бабушка?
– Какая? – посерьезнел Вадим. – И зачем?
– А вот вы скажите! – настаивал Шмулик. – По линии матери, я имею в виду!
– Мне этот вопрос один раз уже задавали, – сказал Вадим Соловьев. – На Лубянке, в КГБ.
– Ну! – пропустил мимо ушей это сообщение Шмулик. – Так кто она была?
– Ее немцы убили в Киеве в 41 году, – сказал Вадим. – Я и сам этого не знал, мне в ГБ сказали.
– Они-то знают, будьте уверены, – сказал Шмулик. – Так вот, по нашим законам вы имеете право на возвращение в Израиль и на получение гражданства.
– Но это просто чушь! – пожав плечами, сказал Вадим. – Даже если мою бабушку убили немцы, какое отношение я имею к евреям? Чушь!
– Не чушь, а закон, – строго сказал Шмулик. – Вы не думайте, что я такой дурак. Просто у нас все, как бы вам сказать, отличается от других, и законы тоже. Две тысячи лет мы жили врозь, сегодня у нас есть государство, дом. И еврейское государство должно для себя определить, кого собирать со всего света по зернышку: кто еврей, а кто нееврей. И вот решили по такому принципу – по материнской линии. Если оба евреи – и отец, и мать – это, конечно, еще лучше, хотя, понимаете ли, национальность отца вообще не имеет значения… Это, я вам говорю, для государства, а вас лично это ни к чему не обязывает: вы хотите – вы едете в Израиль, не хотите – сидите здесь.
– Почему по материнской-то? – с любопытством спросил Вадим. – А если отец у меня, скажем, еврей, а мама – русская?
– Ну, это-то понятно, – как бы бездосадно подивился непонятливости Вадима Шмулик. – Рожает-то вас мать, женщина, а мужчина только пришел, «спасибо» сказал – и все. Кто он такой, откуда взялся? А насильники, я уж не говорю обо всяких там левых ночных делах? Насильники! Это, знаете ли, довольно страшно. На той же Украине гайдамаки кого из нас не убили, того изнасиловали. И не только на Украине… В таком деле, знаете ли, за девять месяцев можно все карты спутать, не то что за две тысячи лет. Вот мы и говорим: принадлежность к еврейству передается по линии матери.
– Вообще-то логично, – согласился Вадим Соловьев. – Получается, стало быть, что по вашему закону я – еврей?
– Так получается, – подтвердил Шмулик. – Но закон на вас не давит, в том-то все и дело. Для нас вы – еврей, а кто вы для самого себя – это вы сами решаете.
– Интересная история… – несколько потерянно молвил Вадим, принимаясь за гамбургер.
Откинувшись на спинку стула и редко мигая, Шмулик наблюдал за тем, как Вадим ест. Шмулику было интересно наблюдать за человеком, вдруг узнавшим, что он еврей.
А Вадим Соловьев, жуя, вспоминал о тех, о ком почти забыл за эти полгода, да к которым и в Москве редко обращался мыслями: о родителях. Что они, как? Сняли ли отца с работы или только понизили? Почему они, черт возьми, никогда ни словом не обмолвились о том, что бабушку расстреляли немцы в Бабьем яру? Для того, чтоб ему сказали об этом в ГБ? Или вот этот Шмулик рассказал?
– Это, знаете, не новость, – полуприкрыв глаза, Шмулик глядел на него с сочувствием. – В Союзе это бывает: родители скрывают от ребенка, что он немножко еврей. Так спокойней: не знать, и все. Но потом это иногда всплывает, и начинаются проблемы. Поверьте мне, я не расист, для меня что черный, что желтый – одно и то же. Но мы, евреи, и тут стоим особняком, с самого краю. Вот, как говорится, ты полукровка и тебе надо выбрать, кто ты: еврей или нееврей. Казалось бы, не о чем спорить: нееврею куда лучше. Так нет, ты хочешь стать евреем! Назло родителям! Назло всем! Вот это и есть голос крови, голос упрямой еврейской крови.
– Я как-то над этим не задумывался, – промямлил Вадим. – Какая, в сущности, разница? Еврей, нееврей… Что, на лбу, что ли, должно быть это напечатано?
– Есть разница! – упрямо сказал Шмулик. – Есть! Может, это и плохо, но это не самое худшее, что есть в мире… Возьмите вот мою карточку, здесь адрес конторы и рабочий и домашний телефоны. Я вас не буду смущать тем, что мы издаем первую книгу, хотя и в этом есть свой смысл и расчет для писателя. Мы никого этой книгой не покупаем – ни вас, никого. Но если в вас перевесит ваша еврейская половина и вы захотите стать евреем и израильтянином – позвоните мне. Договорились?
– Вы хотите сказать, что пошлете меня в Израиль? – спросил Вадим Соловьев.
– Именно, – подтвердил Шмулик. – Я здесь для этого и сижу. У нас в Израиле двести тысяч таких, как вы и я, бывших русских. Даже свой Союз русских писателей есть. И тоже грызутся.
– А вы откуда? – спросил Вадим. – Не москвич?
– Родился в Ленинграде, живу в Иерусалиме, – сказал Шмулик. – Я вообще-то инженер-строитель, меня сюда на два года послали. Еще полгода осталось.
– И… – Вадим запнулся на миг. – Хочется домой? Вы, действительно, чувствуете, что там – ваш дом?
– Ну, конечно! – Шмулик улыбнулся, его розовые губы поползли по черной стене бороды. – А здесь – командировка. Я даже подарки всем уже купил… Между прочим, там это не так чувствуется; живешь, как все. Ругаешься: то плохо, это плохо, и жарко. А уезжаешь – начинаешь скучать, хочется домой… Кофе будете еще?
– Нет, спасибо, – сказал Вадим. – Я, все-таки, еврей только по бабушке. Мне так много не полагается.
– Я, знаете, должен двигаться, – Шмулик взглянул на часы. – Отправляю в Израиль одного маляра, он здесь устроился шить трусики в какую-то мастерскую. Ну, ему это здорово надоело и он решил ехать в Израиль, там маляры нужны.
– Значит, вы покупаете его этой возможностью? – оживился Вадим. – Если б маляры были не нужны, он бы здесь остался трусики шить?
– Ну, как вам сказать… – немного задержался с ответом Шмулик. – Он хочет попробовать стать израильтянином, ну и малярничать тоже. Или, если хотите, наоборот… Вы куда едете?
Вадим и сам не знал, куда. Только не к Лиру. Хорошо бы к кому-нибудь, вовсе непричастному к сегодняшнему позору. Приехать, сидеть, может, пить… Вадим назвал адрес вдовы рентгенотехника, который дала ему в Париже Ксения Князева.
Утром, пока хозяйка готовила завтрак и из кухни доносился фабричный гул электроприборов откупоривающих, подсушивающих, сбивающих и поджаривающих, Вадим разглядывал свое лицо в большом зеркале, прикрепленном к стене во всю ее длину, сбоку от кровати, в спальне. Высокое окно спальни было затянуто плотными, но не вовсе глухими занавесями цвета сливочного масла, и притемненный свет позднего утра сглаженно освещал комнату, кровать с Вадимом в ней, две тумбочки по бокам кровати, туалетный стол с леском флаконов и коробок и круглый мягкий пуф с паутинным клубком одежды. Перегнувшись через пуф, Вадим приблизил лицо к зеркалу и вглядывался. В несомненной роскоши спальни он казался себе чужим, случайным человеком, и его лицо было случайным в этом зеркале. Пытливо вглядываясь, Вадим с внезапной нежностью к себе вспомнил, как много лет назад, мальчишкой, вот так же вглядывался в зеркало, представляя себе свои будущие морщины, так красящие настоящего взрослого мужчину. Скорей бы они появлялись! – молил мальчик и старательно морщил лоб. Если долго морщить лоб, то должны ведь остаться хотя бы следы от морщин… Вот они – никакие не следы, а самые настоящие морщины над бровями, вдоль лба, в углах глаз. Зря ты так гнал картину, Вадим Соловьев! Все приходит в свое время: морщины, спальня с зеркалом, хозяйка спальни в паутинных трусиках, позор и слава, смерть. Было бы славно, если б все это явилось чуть позже назначенного срока. Ах, дурачок, а ты отчаянно морщил лобишко перед маминым зеркалом, не видя Того, Кто за зеркалом, за стеной и за горизонтом. Ты готов был пинать кулачками время, потому что оно тянулось для тебя так медленно. Ты спешил, спешил. Ну, вот, получай теперь свои морщины, чужую спальню и убийственный позор, пришедший точно в срок.
Вадим поднялся с кровати, оделся и наскоро ополоснул лицо в ванной, смежной со спальней. Потом он вернулся в спальню и, сбросив вещи с пуфа, сел на него и стал терпеливо ждать, пока его позовут. Непристально глядя в зеркало, он спрашивал у себя и у Того, Кто за зеркалом и за стеной, куда ему теперь идти и что делать. И, не получая ответа, поджимал губы и тихонько покачивал головой.
Он не пошел к Лиру – сначала было стыдно за этот позорный вечер на Брайтон-бич, потом стало стыдно, что трусливо не пошел к старику ни сразу после вечера, ни назавтра, ни на третий день. И чем больше проходило дней, тем невозможней казалось ему возвращение к Лиру. Будь что будет, в конце концов! Старик, наверно, обижен до посинения, и он прав. А Вадим Соловьев мерзавец, верно. И все же мир собран из трагедий куда более существенных, чем эта обида, совершенно справедливая… Машинка вот пишущая осталась у Лира на бильярдном столе – но и это, впрочем, не большая беда: она Вадиму Соловьеву, литератору, в ближайшее время не понадобится. Неизвестно, когда понадобится.
Наутро, уйдя из спальни с зеркалом, Вадим туда больше не возвращался. Он не хотел видеть никого из своих знакомых, ни от кого не хотел слышать студенистых слов утешения, не хотел ничьей помощи. Он бесцельно бродил по улицам, питался хлебом, ночевал в подозрительных скверах, добрыми людьми обходимых за версту и дальше. Он был не против, чтоб на него напали бандиты или безумцы, отняли последнее и убили, если тому пришел срок. Он даже искал встречи с лихими людьми – но, как видно, все не там, где надо. К исходу второй недели деньги у него кончились, а лошадь, которую можно было бы съесть, ниоткуда не взялась. Тогда он нанялся зазывалой в турецкие бани, в глубине которых, за мелким бассейном, действовал круглые сутки бардак с восточными, на первый взгляд, девками. В обязанности Вадима Соловьева входила раздача на углу квартала буклетов, где были изображены в цвете купающиеся в бассейне девки, а также рекламировалась какая-то турецкая курительная смола, придающая мужчинам игривую силу для купания в бассейне и дальнейших радостей жизни.
За работу хозяин бань, пожилой человек по имени Джерри Шапиро, платил Вадиму пятнадцать долларов в сутки и разрешал спать на берегу бассейна, но обязательно нагишом.
– Для рекламы, – коротко объяснил Шапиро равнодушному Вадиму Соловьеву.
Через неделю Вадим научился спать под градом брызг из бассейна, где, накурившись смолы, играли с девками веселые клиенты. Отдохнув, он отправлялся с вышибалой Эбби в соседний кошерный ресторанчик и ел там фаршированную рыбу с хреном. Потом с пачкой буклетов выходил на угол квартала.
Туда, к углу, и подрулил как-то под вечер Володя Бромберг на своем старом шевролете.
– Хорошо, что я тебя встретил, – сказал Володя Бромберг. – Куда ты пропал? Работаешь? – он одобрительно кивнул на веер буклетов в руках Вадима. – Знаешь, Лир вчера умер. Сегодня хоронят. Ты бы подъехал…
– Лир умер… – повторил Вадим. – Да, конечно, приеду. Когда?
– Хоть сейчас, – сказал Володя Бромберг. – Его еврейская община хоронит, они там с этим не тянут: раз-два. Хочешь, подброшу? Я, примерно, в том направлении.
Вадим молча сунул буклеты в карман куртки и сел в машину.
– А почему община хоронит? – спросил Вадим Соловьев долгое время спустя.
– Он же еврей был, – сказал Володя Бромберг. – Кому ж еще хоронить – китайцам, что ли! – И вдруг добавил с торжественной гордостью: – Мы всегда своих хороним – хоть нищий, хоть кто.
Они поспели к выносу тела. Сутулый еврей в черном, в черной шляпе распоряжался, напевая что-то заунывно-беспечальное себе под нос. Еще двое, тоже в черном, несуетливо, споро помогали ему.
– Посмотреть нельзя на него? – шепотом спросил Вадим, глядя на белый мешок, в который было завернуто тело.
– Не полагается у нас, – так же шепотом ответил Володя Бромберг. – Умер человек, и нечего на него смотреть.
Носилки с телом накрыли черным бархатным покрывалом с серебряной вышивкой и, спустив вниз, вдвинули в похоронную машину.
– Ну, все… – сказал Володя Бромберг, глядя вслед отъехавшей машине. – Никого у него здесь нет. На кладбище не поедешь? Ребята там будут.
– Нет, – сказал Вадим.
– Ну-ну, – сказал Володя. – Загляни как-нибудь. Бай!
Вадим поднялся наверх, отпер дверь. В комнате Лира мало что изменилось – разве что часть мебели исчезла, замененная новым старьем. Но бильярдный стол стоял на месте, машинка на нем была аккуратно прикрыта полотенцем.
Вадим Соловьев сел на край стола, поглядел на разостланную постель Лира, сильно, с нажимом потер лоб ладонями. Поплыл Лир, поплыл на своих носилках! Машинку прикрыл – от пыли. Куда они плывут, евреи? Туда же, наверно, куда и русские, и турки. Только евреи, кажется, плывут Туда через Иерусалим. Он, говорят, совсем маленький город, Иерусалим. А Джерри Шапиро, интересно, попадет в Иерусалим? Ведь этого недостаточно – есть фаршированную рыбу, чтобы попасть в Иерусалим, даже на носилках, в белом мешке. А Лир, наверно, попадет, хотя на фаршированную рыбу у него денег никогда не было. Что бы сказал Лир, увидь он Вадима спящим на краешке турецкого бассейна, голышом?
Вадим соскочил со стола, прошелся по комнате. На стуле около кровати Лира он увидел запечатанный конверт с австрийской маркой и прочел на нем свое имя. Письмо было от Мыши, она писала старательным ясным почерком, что все у них по-прежнему, что они беспокоятся о Вадиме, что Захар собирается в Мюнхен с какими-то ребятами посмотреть пинакотеку, и это тоже беспокоит Мышу, потому что документы Захара не совсем в порядке… Вена, еврейские эмигранты, грустный Лысач на аэродроме.
Прочитав письмо, Вадим сложил его и сунул в карман, набитый банными буклетами. Подумал, вытащил буклеты, развернул их пестрым веером и легко выпустил в открытое окно.
Потом взял машинку, сбежал с лестницы и, подойдя к телефону-автомату, набрал номер Шмулика.
Вот так и выходит: он, Вадим, в Иерусалим, а Захар – в Мюнхен.








