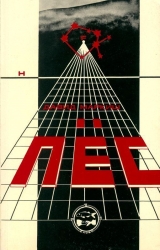
Текст книги "Пёс (Роман)"
Автор книги: Давид Маркиш
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)

8
ХРУСТАЛЬНАЯ КРОНА. ЛОД
Самолет, следовавший рейсом из Нью-Йорка, приземлился через сорок пять минут. Спускаясь по трапу, Вадим Соловьев вертел головой, оглядывался – но почти ничего нельзя было различить и увидеть в теплой тьме ночи, кроме хрустальной горстки огней, рассыпанных по краю аэродромного поля. Там – с его охраной, с его пограничниками, с его шестиконечными звездами на паспортных штемпелях – там был еврейский аэропорт, связанный некоей живой пульсирующей нитью с киевским Бабьим яром и, значит, с той незнакомой старухой, которую немцы убили в 41-м году и которая приходилась Вадиму Соловьеву бабушкой. А черный воздух над бетоном поля не был связан ни с кем и ни с чем, он существовал для всех одинаково.
Вадим Соловьев спешил из этой ничейной ночи к свету аэропорта, спешил без оглядки переступить порог этой странной страны, которая почему-то оказалась его страной. Бог, судьба или случай привели его сюда, он никому не служил ни семь, ни два раза по семь лет вот за эту полученную в Нью-Йорке бумажку, дающую ему право за страну Израиля. Странно, странно! Та старуха, выходит, своей кровью оплатила эту бумажку почти сорок лет назад, та незнакомая старуха, о которой он никогда раньше не вспоминал и к которой испытывал теперь запоздалую, робкую признательность. Так вот получилось, без всякого в том участия Вадима Соловьева, что братская могила Бабьего Яра связывает его, Вадима, семью, его корни с хрустальной кроной, сверкающей на краю поля. Странно.
Он неуверенно предъявил свою бумажку девушке в полицейской форме, и та, не находя в этом ничего странного, провела его к какой-то боковой двери, за которой начиналась широкая однопролетная лестница, ведущая вверх. «Добро пожаловать на Родину!» было написано на щите перед входом в большой безлюдный зал с сотней кресел посередине.
Стеклянная дверь зала была заперта; заглядывая вовнутрь, Вадим нажал белую кнопку звонка. На звонок явился высокий молодой человек, не старше Вадима, и, отперев, молча протянул руку за Вадимовой бумажкой.
– Родились в Киеве? – пробежав бумажку, спросил молодой человек. – Говорите по-русски? Идемте со мной.
В маленькой комнатке он усадил Вадима за стол и, то и дело сверяясь с бумажкой, заполнил опросный лист, а потом какую-то синенькую книжечку и, вложив в нее деньги, сказал:
– Держите, с этим вы пойдете и получите паспорт… Будет хорошо. Так у нас говорят: будет хорошо! Но – когда? Этого евреи не знают, это знает Бог. Хотите получить молитвенные принадлежности?
– Какие принадлежности? – переспросил Вадим.
– Кипу, тфилин, талит, священные книги, – перечислил молодой человек. – Это бесплатно. Берет, кто хочет. Кто не хочет – не берет… Ну, так как? Берете?
– Но я никогда не был в синагоге… – промямлил Вадим Соловьев.
– Значит, не берете, – подвел итог молодой человек. – Я, когда приехал, тоже не взял. С тех пор прошло уже десять лет, и я об этом ни разу не пожалел. Будьте здоровы!
– А куда мне теперь идти? – робко справился Вадим. – Вы меня извините, но у меня здесь никого нет, и ночь…
– Ясно, что не день, – согласился молодой человек. – Вам в Нью-Йорке ничего не объяснили? Мы вам сейчас дадим машину и отправим вас на полгода учить иврит в Кфар-Ям, это рядом с Тель-Авивом. Багажа у вас много?
– Нет багажа, – сказал Вадим Соловьев. – Вот это – все, – он указал на баул у своих ног и на пишущую машинку.
– Это все? – подивился молодой человек. – Ну, что ж, бывает… Вон ваш шофер идет, он вас отвезет.
Шофер, крупный молодой толстяк с розовым лицом, сообщил Вадиму, что он родом из Кишинева, что все будет хорошо и что унывать в Израиле не следует ни при каких обстоятельствах. Потом он спросил, нет ли у Вадима охотничьего ружья на продажу.
Они спустились вниз и, беспрепятственно миновав таможенный заслон, вышли на улицу. После охлажденного кондиционерами воздуха аэропорта душная тьма ночи приняла Вадима Соловьева, но он, настроенный торжественно и благодарно, не почувствовал духоты: ему ни с того, ни с сего дали машину до этого самого Кфар-Яма, и голубую книжечку, и деньги, и даже предложили эти молитвенные штуки. Но нельзя же хватать все, что тебе дают, это просто бессовестно.
– Ты постой вот здесь, я сейчас машину подгоню, – сказал шофер.
Вадим Соловьев терпеливо стоял, где ему было указано, когда двое санитаров пронесли мимо него носилки с телом, укрытым одеялом с головой. Открыв заднюю дверцу «Скорой помощи», они втолкнули носилки в машину, и один из них сел за руль.
Вадим нехотя вспомнил комнату Лира, и как Володя Бромберг сказал: «Мы всегда своих хороним, хоть нищий, хоть кто…»
А потом подъехал шофер, и Вадим, уже сидя в кабине, сказал как бы между прочим:
– А тут, знаешь, пока ты ходил, мертвеца какого-то пронесли.
– Да, – кивнул шофер. – Зарезали одного парня в уборной. Но ты не бери в голову – у нас это редко бывает! Забудь, и все.
И, пока ехали до Кфар-Яма, Вадим Соловьев добросовестно старался забыть об этом досадном происшествии.
Еська, двадцатилетний Вадимов сосед по комнате в общежитии Кирьят-Ям, не занял в его жизни никакого места, как не отведено в жизни человека места для радиоприемника, звучанием или приемистостью которого можно, однако же, искренне восхищаться. С утра и до позднего вечера этот Еська слушал портативный магнитофон, который он повсюду таскал с собою: в столовую, на пляж и к воротам общежития, где он, сидя на модернизированном подобии завалинки, лузгал семечки и коротал время в беседах со своими приятелями. Песни у него были разные: битлы, и Высоцкий, и японские сексмелодии, состоящие из стонов, выкриков и сухого барабанного постука. Свои планы на будущее Еська изложил Вадиму Соловьеву в первое же утро знакомства:
– Вот расторгуюсь до конца и махну в Штаты. А что мне тут делать!
Затем, под «Желтую субмарину», последовал перечень того, что подлежало распродаже:
– Швейная машинка, бильярдные шары, стол рижский, бинокль театральный, лодка резиновая без мотора, набор матрешек и еще кое-что, по мелочам.
Весь этот товар, частично уже ликвидированный, был привезен из России для продажи.
– Я не жалею, что приехал, – сидя на мраморной завалинке, объяснял свою жизнь Еська. – Тут тепло, море, как в Сочи, и Израиль посмотрел. И, потом, в Америке мое барахло и за полцены не спихнешь, а здесь берут. Приеду в Штаты – на первое время хватит перебиться.
Познакомившись с проектами своего соседа, Вадим потерял к нему интерес. На Еськины расспросы о Нью-Йорке он мычал что-то невразумительное и выходил из комнаты. Впрочем, Вадим Соловьев не испытывал к Еське враждебных чувств.
Важная информация о жизни в общежитии стекалась к новичку со всех сторон. Завтрак – в восемь, обед – в два, ужин – в семь. В саду напротив можно по вечерам воровать апельсины. Кормят бесплатно, но денег на удовольствия не дают. Американская девка с третьего этажа не возражает против русских ребят, но она слишком толстая и с ней не о чем говорить. Билеты в кино дико дорогие. Подрабатывать можно на картонажной фабрике – грузчиками или в сумасшедшем доме – санитарами. Директор общежития – сука и фашист.
Несмотря на подлость директора и досадную чрезмерность американки с третьего этажа, молодые постояльцы жили весело и, главное, совершенно независимо от начальства. Кроме того, здание общежития было красиво, и это тоже понравилось Вадиму Соловьеву.
Директор Боря Фрумкин вызвал его для знакомства на второй день по приезде. То был довольно плотный человек лет сорока с большим лицом и круглыми голубыми глазками то ли младенца, то ли садиста. Скучная полуулыбка была не к месту на его лице; так улыбаются люди, здоровье которых, по их мнению, оставляет желать лучшего.
– Вам, наверно, уже известно, – не подымаясь из-за стола и не предлагая Вадиму сесть, сказал Боря Фрумкин, – что Кфар-Ям – ульпан для молодых одиночек. Пьянствовать я тут не разрешаю, приводить посторонних на ночь не разрешаю. Вот вы пишете в вашей анкетке, что вы – писатель. А что вы умеете делать, кроме этого?
– Да, я писатель, – сказал Вадим Соловьев немного в нос. – А вы, как я понимаю – комендант общежития. Вы кроме этого что-нибудь умеете?
– Я директор центра абсорбции для новых репатриантов, – немного повысил голос Боря Фрумкин, и глазки его сделались свирепыми. – И я вам по долгу службы советую пойти на курсы счетоводов. У нас тут писателей хватает. Каждый второй еврей или музыкант, или писатель. Есть еще курсы программистов.
– Я, знаете ли, сам хочу во всем этом разобраться, – сказал Вадим. – Я для этого и приехал.
– Мы сюда приезжаем, чтобы жить в еврейской стране, строить ее и защищать, – назидательно поправил Боря Фрумкин. – Соловьев – это ваш литературный псевдоним?
– Нет, зачем же, – сказал Вадим. – Вы хотите спросить, еврей ли я? Да, по бабушке. Этого разве недостаточно?
– Это не мое дело, это дело министерства внутренних дел, – сказал Боря Фрумкин. – Если захотите на курсы, напишете заявление.
– Знаете, я пойду, если можно, – сказал Вадим. – Рад был познакомиться.
– Идите, – кивнул Боря Фрумкин. – Нелегко вам тут у нас придется.
В этом своем прогнозе он не ошибся.
Выйдя от директора, Вадим Соловьев угрюмо предположил: «Этот мелкий мерзавец доживет без хлопот лет до ста. Он знает, как надо жить, тайные пороки его не грызут. Ему даже, кажется, не жарко в его пиджачке с короткими рукавчиками. Интересно, получает ли он творческое удовлетворение, когда пишет резолюции на своих вонючих бумажонках?»
Вадим Соловьев ошибался совершенно.
Боря Фрумкин втянется в биржевую игру, вложит в нее и деньги, и душу и умрет от искреннего горя, от инфаркта, над губительным для него листком «Биржевого вестника», на сорок шестом году жизни, на девятом году по приезде в Израиль из Даугавпилса, что в Латвии. Ни один из его подопечных не пойдет за его похоронными носилками. В дневнике покойного, кроме пронумерованного перечня случайных любовниц, их возраста и специфических примет, вдова с изумлением обнаружит такую запись: «Всю свою жизнь я мечтал о писательской карьере и о славе. Только биржа сумела подавить во мне эту страсть. Власть над деньгами куда сильней власти над душами».
Тель-Авив понравился Вадиму Соловьеву: город как город, не слишком большой, но не такой уж и маленький. Старый Центр с его кривыми улочками и кособокими обшарпанными домами вдруг напомнил ему Киев, и что-то всплеснуло в его душе, и он подумал с испугом: «Что это я?! Да плевать я хотел на этот Киев…» Хотел плевать – да не плюнул.
С Семой Рубиным, председателем Союза русских писателей в Израиле, Вадим договорился встретиться в маленьком кафе возле центрального концертного зала. Вадим пришел первым, за четверть часа до условленного времени. Потягивая через пластмассовую соломинку холодный грейпфрутовый сок, он ждал, волнуясь: как-никак, председатель, как-никак, Союз русских писателей. Это, должно быть, свой человек, не какой-нибудь гнусный управдом Боря Фрумкин с его советами идти в счетоводы.
Сема Рубин, моложавый брюнет с ранней сединой, явился с расхристанным парнем в шортах, в кожаной кепке.
– Вот, знакомьтесь, это Славка Кулеш, он тебя читал, – сказал Рубин, садясь. – Давайте все на «ты», это проще.
– Я твои «Мощи» читал, – сказал Славка Кулеш. – В России еще.
– Хорошо-то как… – сказал Вадим Соловьев, улыбаясь блаженно. – Я тебя тоже читал. «Конец света» – это твое? И «Болото»?
– «На берегу болота», – поправил Славка Кулеш. – Но это не главное.
– «Конец света» по английски вышел? – сказал Вадим. – Мне ребята в Америке говорили.
– Во Франции тоже вышел, – сказал Славка. – Это старая вещь. Хрен с ней, будь она здорова. А ты, старик, молодец, что приехал. Нас тут и много – и мало. Привез что-нибудь?
– Есть кое-что, – сказал Вадим Соловьев неопределенно. – Мало. Так, рассказов тройка.
– Можно в «Голос» дать, – предложил Сема Рубин. – Или в «Слово». Или на иврит перевести и дать в «Три семерки».
– В «Голос» не надо, – жестко сказал Славка Кулеш. – Перебьются они там без Соловьева. Я точно знаю: у них прозы нет, пусто! Еще немного, и они закроют свою лавку к чертовой матери.
– Чего ты на них взъелся! – как бы укорил Рубин. – Выходят себе – и пусть выходят. Не хуже других.
– Не люблю, – сказал Славка, вытирая потный лоб кожаной кепкой. – Гниды они. Чиновники… А тебе, – он оборотился к Вадиму, – надо в Союз вступить и для начала получить какую-нибудь стипендию. Ты пиво пьешь?
– Пью, – сказал Вадим.
– Тогда пошли, мальчики, – сказал Славка Кулеш. – Тут за углом есть одна забегаловка, там пиво бочковое дают. Шпикачки, правда, некошерные.
Вадим Соловьев вспомнил кошерные обеды с бардачным вышибалой Эбби и ухмыльнулся. Эбби ни за что на свете не стал бы есть некошерные шпикачки.
В прохладном и сыром пивном баре сели за угловой столик, подальше от входа, от слепящего и обжигающего света.
– Все у нас хорошо, – сказал Славка, промакивая мокрое от пота лицо салфеткой, – только жарко. Ну, нет нефти – так хотя бы климат был приличный! Как же, держи карман… Ты знаешь что, пиши-ка заявление в Союз, о приеме. А я тебе рекомендацию сочиню.
– Бумаги нет, – сказал Вадим Соловьев, хлопая себя по карманам. – Всегда ношу, а сегодня не взял, как назло.
– Без бумаги кисло заявление писать… – кивнул головой Славка Кулеш. – Как нет бумаги! А салфетки!
– Оставь, Слава! – досадливо поморщился Рубин. – Какие салфетки! Не хватало еще на туалетной бумаге писать. Это все же Союз писателей!
– Тоже мне – Союз! – фыркнул Славка, разглаживая салфетку перед Вадимом. – Федин ты, что ли? Это же колоссально для истории – Вадим Соловьев пишет заявление в Союз русских писателей Израиля на пивной салфетке!.. Я рекомендацию тоже на салфетке напишу. Я тоже хочу в историю, Сема!
Писали, потягивая пиво, похрустывая соленым печеньем. Сема Рубин сидел, откинувшись со стулом, поглядывал укоризненно.
– Ну вот, – сказал Славка Кулеш, закончив. – Теперь, считай, полупорядок. А порядка все равно не будет, он в Швейцарии живет, не в Израиле. Но со всеми этими бумаженциями, все же, проще: теперь книжку собирай, страниц на двести пятьдесят.
– Напечатают? – с сомнением, с надеждой спросил Вадим Соловьев. – Книжку?
– Машина все печатает, – сказал Славка. – Что туда засунешь, то она и печатает.
– Мы пять лет это право выбивали, – торжественным голосом дал справку Сема Рубин. – Я минимум сто писем написал, сам.
– Памятник тебе поставят на площади Царей израилевых, – сказал Славка. – За пробой.
– Зря смеешься, – поскучнел Рубин. – Ты, между нами говоря, ни одного письма не написал, а для Союза…
– Я книжки пишу, – хохотнув, перебил Славка Кулеш. – С меня этого хватит.
– А Союз – где? – спросил Вадим Соловьев. – Далеко отсюда? Библиотека там есть?
– Где мы – там и Союз, – беспечально махнул рукой Славка. – Сейчас в пивной. А выйдем отсюда на улицу – считай, что на улице… Слушай, мы же нищие! Думаешь, у Союза есть особняк, как в Москве, или хотя бы одна завалящая комнатенка в коммунальной квартире? Ни хрена у нас нет, одно название. И литература здесь – и не только здесь, а повсюду, во всем мире! – поблядушка базарная, она в кармане сидит у чиновника какого-нибудь дерьмового в министерстве, или у спекулянта, или у торговца домами или колбасой, это все равно. Мы – народ Книги, это так благородно звучит и даже немного трагично… Липа все это, Вадим, липа! Писатель – он творец, пророк с исключительным правом видеть и говорить правду, по-своему видеть и говорить. Это ему дано от Бога, а другим дано слушать его. А у нас пророчествуют одноклеточные политиканы и богатенькие торговцы. В потребительском обществе литература – это хобби, а нищий пророк-писатель – объект для насмешек… Впрочем, не все писатели – нищие, есть парочка-другая богатых. Но литература от этого богаче не становится.
– А как же книга, – сказал Вадим Соловьев. – Ведь дают напечатать книгу. Ведь нигде в мире не дают – только здесь.
– Ну, бросили нам чиновники эту кость, – хмуро сказал Рубин. – Нате, мол, грызите, только отвяжитесь! Но ни один из них не понимает, что спор чиновника с писателем неизбежно кончается победой писателя, даже если чиновник выгоняет его из кабинета.
– Браво, Сема! – подняв кружку, сказал Славка Кулеш. – Еще немного, и ты бросишь писать письма и начнешь писать книжки.
– Знаешь, Слава, я тебе завидую, – глядя сердито, почти зло, сказал Рубин. – Тебе на все наплевать: Союз, письма, общественные дела. Ты своих сколько-то там страниц сделал в день – а потом хоть трава не расти.
– Ну да, – сказал Славка Кулеш. – Конечно. Так и должно быть.
И Вадим Соловьев подумал: «Да, так и должно быть».
А раз так, следовало немедля засесть за книжку, за эти двести пятьдесят страниц, обещанных Славкой Кулешом. «Мощи», «Мост», «Остановки Бульварного кольца» да тройка свежих рассказов – вот и все эти страницы. Вот, собственно, и все, за что его вышвырнули из России, ради чего он оттуда уехал: жгучая кислота правды, русской правды. Европа не желает ее; боясь прожечь пиджак, она уклоняется от встречи с ней. Америке вообще на нее наплевать, у великой Америки свои проблемы, и за чужой щекой зуб не болит. Ну, что ж! Книга правды выйдет в Израиле и найдет дорогу и в Европу, и в Америку, и обратно в Россию. Главное, книга выйдет! Ради одного этого стоило уехать из России. Впрочем, только ради этого одного, потому что ни второго, ни третьего вообще не существует для Вадима Соловьева: ни богатство не привлекает его в ассортименте Свободы, ни возможность беспрепятственно проголосовать неизвестно за кого в день выборов… А книжка, эта книжка в двести пятьдесят страниц свяжет его, Вадима Соловьева, с еврейской страной, где, кстати, поселился и симпатичный Славка Кулеш, который тоже больше похож на казанского татарина, чем на подольского еврея. Странно, странно! Эта книжка свяжет его с Израилем если не любовью, то благодарностью, а любовь, может, придет позже… Хорошо бы она пришла – ведь здесь каждый пятый говорит по-русски, и русские книжки выходят, и еще потому, что все равно в Россию возврата нет, нет возврата сейчас и потом не будет, это все сны парижских мальчиков из русского Замка. Славка Кулеш едва ли хочет вернуться в Россию – ни на коне не хочет, ни на броневике. Не все ли равно, в конце концов, кем здесь записан писатель в каких-то пыльных чиновничьих реестрах – русским или евреем! Главное, что здесь пишут по-русски, печатаются по-русски. А Конуру для житья можно будет соорудить в каком-нибудь подвале, и худо-бедно заработать литературой на кило картошки и цыбик цейлонского чаю. И снова станет Вадим Соловьев счастливым Псом, прозаиком, и будет писать по утрам сколько там своих страничек, а к вечеру потянутся к нему в Конуру ребята без приглашения, и появится в подвале какая-нибудь новая Наташка или Сарка, вот это уже не имеет никакого значения, как ее будут звать.
Книгу надобно собрать, перечитать, перепечатать. На это уйдет месяц. Хорошо, что есть Кфар-Ям с его ежедневной бесплатной курицей. Спасибо.
Славка Кулеш приехал в Кфар-Ям недели через две после встречи в пивной.
– Ну, поехали, – сказал Славка, вваливаясь в Вадимову комнату. Он был так же расхристан – рубашка расстегнута почти до пупа, на шее болтается на цепочке какая-то черная гайка, кожаная кепка надвинута на лоб. – Поехали, а то мхом тут совсем обрастешь.
– Куда? – спросил Вадим, с готовностью подымаясь из-за стола.
– Да на свадьбу, – кружа по комнате, объяснил Славка Кулеш. – Поэт наш один женится, Рудик его зовут, сугубо религиозный парень: свинину по субботам не жрет. Там всех наших увидишь, кто перышком по бумаге водит.
– Галстук надо? – спросил Вадим Соловьев, с сомнением поглядывая на Славкину черную гайку. – У меня нету…
– Что такое! – бурно возмутился Славка Кулеш. – Женятся нагишом, без галстука. У нас тут галстук только на похороны надевают, и то зимой.
– А подарок? – спросил Вадим.
– Подарок… – обегая комнату взглядом, призадумался Славка. – Вон, пачку бумаги подари ему. Большая, приятно тяжелая. Может, ему пригодится. Все волокут поэту деньги на счастье, а прозаик Соловьев – бумагу. Это здорово!
Держа пачку бумаги подмышкой, Вадим спустился по лестнице следом за бегущим через две ступеньки Славкой Кулешом. Во дворе, у мраморной завалинки, стояла Славкина машина – красная спортивная «Альфа-Ромео» без крыши, с одной дверью. Вторая дверь была выломана.
– Дверь украл гад какой-то, – сказал Славка, садясь за руль. – Смотри, не вывались. Пристегнись вот ремнем.
Ехали быстро, по сторонам узкой дороги мелькали поселки вперемежку с апельсиновыми рощами. Косясь на приборную доску, Вадим с беспокойством отмечал, что стрелка указателя скорости то и дело перепрыгивает за 100.
– Мы в Бней-Брак едем, – сказал Славка Кулеш, когда они выскочили на широкую окружную дорогу. – Знаешь, что это? Там одни религиозные живут, просто жуткое дело. Я сам там толком не был никогда – так, проездом. Туда по субботам только на танке можно ехать: камни кидают в машины.
– В тюрьму их за это не сажают? – спросил Вадим.
– Они сами кого хочешь засадят, – сказал Славка Кулеш. – Это – Израиль! Здесь у нас чудеса на каждом шагу. Кто к этому не привыкнет, тот здесь жить не сможет… Знаешь, когда тут спрашивают: «Почему?» – отвечают чаще всего: «Да нипочему!» И все.
– Ну, они ведь камни у себя в квартале кидают, – возразил Вадим Соловьев. – Кто не хочет – пускай туда не едет в субботу.
– Кидать камни – это хамство, – поморщился Славка Кулеш. – Кидать камни по субботам – это религиозное хамство. Какая разница между хамом Ивановым и хамом Абрамовичем? Никакой. Хамство ведет к тотальному насилию, насилие – к фашизму.
– Ты думаешь, в Израиле возможен фашизм? – с сомнением в голосе спросил Вадим Соловьев.
– Везде возможен фашизм, – пожал плечами Славка. – Что, евреи из особого мяса, что ли, сделаны? То же мясо, те же кости, то же дерьмо, что и у других. Все дело в пропорции… Я, знаешь, боюсь хамства. Хамство признает в искусстве только одно: народные пляски. Ну, еще чечетку.
– Я в России был как-то далек от еврейства… – пробормотал Вадим Соловьев. – Мне всегда казалось, что какой-нибудь Ванюха по самой природе немного хамоват, а евреи к хамству как бы и непригодны.
– Мне тоже так казалось, – сказал Славка, слушавший внимательно. – Но ошибаться евреи могут, как ты думаешь? Ну, вот, я и ошибся. А что мы в Москве вообще знали о евреях? Что все евреи хотят поступить в институт, что это в национальном характере народа. А здесь мы очутились посреди народа, как посреди озера, и берегов не видно; неизвестно, куда плыть.
– Ну, понятно, – согласился Вадим. – Один из Москвы приехал, другой из Южной Африки, а третий откуда-нибудь из Марокко или из Ливии.
– Вот-вот! – поддержал Славка Кулеш. – Один, как трактор, прет в университет зубрить математику, а другой считает, что самое главное – это научиться играть в шеш-беш… Сейчас приедем в Бней-Брак – увидишь совсем особых евреев, ты их в России тоже не видал.
Свадебный зал отыскали скоро: спрошенные прохожие, одетые в длинные черные кафтаны, объясняли дорогу обстоятельно и многословно, сочно описывая подорожные приметы и размахивая руками при уточнении направления пути, его поворотов и извивов. Закончив разъяснения, спрошенные делали несколько шагов вслед отъехавшей машине и кричали поздравления в адрес жениха Рудика и его уважаемого отца Мойше Каценеленбогена, торговца битой птицей.
– Все-таки приятно, – сказал Вадим Соловьев, выслушав от бегущего за машиной еврея очередное поздравление. – Незнакомые люди, а вон как поздравляют.
– Рудаков папаша Каценеленбоген из семьи знаменитых раввинов, – объяснил Славка Кулеш, – вот они и поздравляют. Но ты прав, это трогательно.
– Я сейчас подумал, – сказал Вадим Соловьев, – в России у нас никто бы не стал вот так поздравлять: хоть раввин, хоть председатель горсовета. Ну, сморозили бы на худой конец какую-нибудь хреновину… А у этих лица – светлые.
– Так они и радуются! – рассудил Славка Кулеш. – Еврей женится, детки родятся, в хедер пойдут, потом в ешиву. А потом камень засадят тебе в лобовое стекло.
– Ну, может, и не засадят, – предположил Вадим Соловьев. – Ты здесь сколько лет?
– Шесть, – сказал Славка Кулеш. – Я первый год, как приехал, тоже думал, что не засадят. Это как жара: сначала ее, вроде, не замечаешь, а через годика два-три начинаешь с ума от нее сходить. И чем дальше, тем сильней.
– Да, жара, – кивнул головой Вадим. – Что есть, то есть. Но куда ж от нее денешься?
– Куда денешься? – переспросил Славка и колко взглянул на Вадима Соловьева. – Вот в том-то оно и дело! У готтентота какого-нибудь жара тоже в печенках сидит, а он из своего Калахари в Канаду, в холодок, не едет: привык. А нас отсюда и в Канаду, и в Гренландию, и куда хочешь несет: не привыкли. К жаре не привыкли, к армии не привыкли, к черным нашим не привыкли. К русским, видишь ли, смогли привыкнуть, а к марокканцам – ну, никак! Да что там марокканцы! К еврейской власти не можем привыкнуть. Министры наши, правда – дурье, так ведь и в России были бандиты почище наших. Да там нам какое дело было до всех этих Кузькиных-Укропкиных! Ну, сидит где-то там министр – и пускай себе сидит, нам-то что, нам с ним по одной улице не ходить. А здесь вся власть – Рабиновичи, все свои, и нам до них еще какое дело: они дурят, а у нас давление повышается. И еще жара, и армия, и инфляция. Вот еврей и едет в Канаду, смотрит вечером последние известия по телевизору и на стену не лезет от злости: дурит там какой-нибудь Джонсон-Томпсон – ну и пусть, нам-то что. Это ведь их дела, не наши. А наших мы уже наглотались по самую завязку, до смерти не переварить… Вот в том-то и беда, Вадим: мы привыкли жить среди чужих, и привыкли быть чужими. К нам сюда или идеалисты едут, или неудачники. Или вот еще такие, что булыжники к субботе запасают – за границей-то не покидаешь, а в своем отечестве все можно.
– А Каценеленбоген? – спросил Вадим Соловьев.
– Папаша Каценеленбоген может засветить, – подумав, сказал Славка. – Булыжник он, пожалуй, не метнет, хотя силы у него на это хватит: не еврей, а катапульта. Он кинет камушек поменьше, чтоб голову никому не продырявить. Но – кинет.
Папаша Каценеленбоген, большой красивый еврей средних лет, встречал гостей на пороге свадебного зала. Сильные плечи папаши гладко обтягивал черный кафтан муарового шелка, на высокой голове сидела круглая плоская шапка, отороченная лисьим мехом. Мужчин он обнимал за плечи жесткими, как канаты, руками, женщинам, не сгибая прямой спины, с достоинством кивал головой. Рудик в черном костюме, стоя позади отца, выглядел куда менее торжественно. Невесты не было видно – ее держали до поры в особой комнате, с подружками.
– Вот так, – со сдержанной гордостью сказал Славка Кулеш, вводя в зал Вадима Соловьева. – Видал, какие евреи еще сохранились? Так и тянет сказать: «Отец женит сына», а не какое-то там плоское «Рудик женится».
От гула голосов сводчатый зал, разделенный раздвижной стенкой на две равные половины, казался не таким высоким, каким был на самом деле. С изумлением, почти не веря своим глазам, Вадим Соловьев обнаружил на своей половине только мужчин – старых и молодых, в черных кафтанах и белых летних рубашках, в ермолках, шляпах и кепках. Женщин здесь не было вовсе, как будто не им кивал папаша Каценеленбоген у входа в зал.
– А там – что? – повернувшись к Славке Кулешу, тихонько спросил Вадим и кивком головы указал на стенку.
– Женщины, – усмехнулся Славка незнанию Вадима Соловьева. – Тут так положено: мужчины отдельно, женщины отдельно. Интересно?
– Н-да… – сказал Вадим Соловьев.
Славка усадил его за круглый, на шесть человек, стол и попросил подержать места, а сам ушел искать знакомых.
– Здесь через пятнадцать минут негде будет даже стоять, – сказал Славка. – Я пойду наших приведу… Ты смотри, весь Бней-Брак сбежался!
Народ прибывал, пройдя через канатные руки папаши Каценеленбогена. Люди, толпясь и кружа по залу, то и дело подходили к столу, и Вадим показывал жестами: нет, нельзя, занято! Вадиму было неловко, что он в такой толчее держит целый стол. Не подымаясь, он тоскливо искал глазами Славку Кулеша.
Старик в жеваной кепке сел, не спросясь, прямо против Вадима Соловьева. Усевшись, он поглядел на Вадима как на знакомого человека и сказал ему на идиш что-то фамильярно-веселое.
– Извините, но я не понимаю, – пробормотал Вадим, не зная, как согнать с места наглого старика.
Тогда старик, не удивившись ничуть, перешел на русский.
– Что вы беспокоитесь, молодой человек, – сказал старик. – Это я должен беспокоиться, что вы меня не понимаете. А я не беспокоюсь.
И, как бы в подтверждение своего спокойствия, старик вытащил из кармана грязного и драного во многих местах пиджака пару розовых сведенных челюстей с ровными белыми зубами и показал их Вадиму Соловьеву.
Вадим потерянно поглядел на протезы, потом на рот старика. Старик с готовностью оттянул пальцами нижнюю губу – его зубы были на месте.
– Вы зубной врач? – с сомнением спросил Вадим, глядя, как старик прячет челюсти обратно в карман.
– Нет, что вы, – сказал старик, вытирая пальцы о штаны, а потом о скатерть. – Я свадебный нищий, это моя профессия. Вы кушайте курицу, я вам советую. Сейчас евреи побегут нести жениха, а мы с вами будем кушать курицу.
Евреи, действительно, повскакали со своих мест и, толкаясь, побежали на лужайку перед залом, и старик удовлетворенно вздохнул. Вадиму не хотелось никуда бежать, ему хотелось посидеть с этим стариком.
На лужайке тем временем началось организованное движение; Вадим видел, как жениха подняли вместе со стулом довольно высоко и бегом, с песнями носили его по траве. Вцепившись в стул, чтобы не упасть, Рудик улыбался смущенно.
Старика происходящее на лужайке нисколько не занимало. Выпростав над столом руки из тесных и коротких рукавов своего пиджачка, он как бы благословлял еду, бормоча себе что-то под нос. Озабоченно переводил он взгляд с блюда с кусками холодной курятины на мощный брус студня, украшенный желтыми яичными пятнышками, на фаршированную рыбу в зыбком желе, на ломтики обжаренных в масле баклажанов. Сделав, наконец, свой выбор, он выхватил из блюда две куриные ноги и одну из них повелительным жестом протянул Вадиму Соловьеву. Уже жуя, он налил себе и Вадиму водки в стаканы для воды и, молча чокнувшись, выпил залпом.
– Я свадебный нищий, – сказал старик, бросая кости под стол и вытирая рот краем скатерти. – Меня знает весь Бней-Брак, нет еврея, который бы меня не знал. И вот я вам говорю: кушайте курицу!
Мельком взглянув на возвращающихся с лужайки гостей, он вдруг снял свою кепку и как бы невзначай накрыл ею блюдо с курятиной. Нащупав сквозь ткань кусок или два, он сгреб кепку в кулак и поднял ее вместе с кусками.








