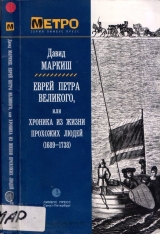
Текст книги "Еврей Петра Великого (Роман)"
Автор книги: Давид Маркиш
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
– Вам, должно быть, видней, – глядя скучно, сказал Шафиров.
– Возможно! – охотно допустил Дивьер. – Давайте хоть раз в год, хоть в этот вот день не будем лгать… Правда! Правда – дело Божественное, а из нас каждый собственную правду сочиняет либо по расчету, либо по недомыслию.
– А – царь? – округлил брови Шафиров.
– Царь, к счастью, об этом и не думает, – сказал Дивьер. – То, что он делает – это и есть для него единственная правда, небесная. А мы ее потом растаскиваем по кускам, по своим углам, как шакалы. Вы же меня не станете уговаривать, что то, что вы делаете – это и есть ваша, шафировская, небесная правда.
– Предположим, – уклонился Шафиров. – Но вот вы же сами говорите, что царь…
– После Прута царь другим стал, – досадливо щелкнув пальцами, перебил Дивьер, – оглядчив, мнителен. Но, сказать откровенно, это мне по душе: в простоте душевной великих дел не сделаешь, да с такими помощниками, как у него. Тут глаз да глаз нужен, уж вы мне поверьте!
– Почему именно после Прута? – глухо спросил Шафиров и взглянул на Дивьера зорко.
– Возраст пришел, – усмехнувшись чуть заметно, сказал Дивьер. – Зрелость. Новая правда… Но нас с вами это не должно коснуться.
– Вы думаете? – опасливо разведал Шафиров.
– Уверен, – с нажимом сказал Дивьер, – если только мы будем добросовестно служить за деньги, которые нам платит царь. Нам что скажут, то мы и должны делать. И поменьше болтать о нашем новом отечестве – все равно нам никто не верит. Мы для всех как были жиды, чужаки – так и остались. Отечество, в конце концов, не ложка, его с собой по всему свету таскать не обязательно. Россия – это для русского человека отечество, Петр Павлович. А русский человек своемыслен, он, чем выше стоит, тем сильней хочет по-своему повернуть, хоть на вершок – а по-своему. И так повернуть, чтоб обязательно и ему теплей было. Хоть бы только о деньгах шел разговор – а то ведь об устройстве государственном, о порядке!.. А мы – дело другое, мы – наемники, прохожие люди, чтоб не сказать проходимцы. Светлейший князь Александр Данилыч, шурин мой, проходимец куда почище нас с вами вместе взятых – но он свой: ему можно, нам нельзя. Нам царь доверяет, покуда мы своей волей в высокую политику не лезем. Наше дело, Петр Павлович, – не высовываться!
В подвал, откинув ковровую портьеру, шагнул Лакоста. За ним, подобрав полы черной праздничной капоты и наклонив голову в островерхой черной шляпе, шел Борох Лейбов. В руке он держал небольшой холщовый мешок. Взыскательно оглядев убранство подвала и покачав головой скорей осудительно, чем восторженно, Борох направился к хозяину.
– Мир тебе и твоему дому, рэб Шапир! – громко сказал Борох.
Шафиров поморщился, как от внезапного удара зубной боли. «Рэб Шапир» – российскому вице-канцлеру, Тайному Советнику, управляющему Посольским приказом, кавалеру орденов Польского Белого Орла и Прусского Великодушия барону Шафирову – это слишком даже для пасхального седера! Но Бороха Лейбова болезненная реакция хозяина не смутила ничуть, а, напротив, даже и позабавила: он прикрыл глаза и улыбнулся с видом довольным и внушительным.
– К столу, господа! – желая погасить неловкость, воскликнул Шафиров. – А то мы, пожалуй, прозеваем великий исход из Египта. – Вытянув из кармана золотые часы величиной с табакерку, он отщелкнул крышку, на которой бриллиантами и рубинами был выложен его баронский герб. – Девять без пяти… А это для Ильи-пророка! – указал Шафиров, чтобы Борох Лейбов не перепутал и не сел в бархатное кресло.
Гости расселись, один Борох остался стоять за своим стулом. Шафиров глядел на него с некоторой опаской.
– Ну, так… – сказал Борох, строго глядя. – Парички придется снять.
Лакоста с Дивьером послушно стянули парики, Шафиров же замешкался, как будто бы ему предложили снять штаны.
– Парики носят наши замужние еврейские женщины, – раздраженно, как непонятливому ребенку, объяснил хозяину Борох Лейбов. – Еврейские мужчины носят ермолки. – Он глубоко сунул руку в свой холщовый мешок и вытащил оттуда три черные шелковые ермолки.
Неприметно вздохнув, Шафиров стянул парик и напялил ермолку на плешеватую круглую голову. Борох следил за ним внимательно. Под пронзительным, кипящим взглядом гостя в Шафирове почти ничего не осталось от вице канцлера и кавалера орденов: он вдруг стал похож на пожилого, не совсем здорового еврея – торговца или корчмаря. Он не испытывал неприязни к Бороху Лейбову – а только замешательство пополам со страхом, как перед неуправляемым и сильно возбужденным чем-то человеком, который неизвестно что сейчас сделает: крикнет или бросится.
А Борох молился скороговоркой, резко покачивая верхней половиной туловища.
Помолившись, он наконец сел и, обведя глазами богатый стол, спросил:
– Кошерна ли пища?
– Поросятины сегодня нет, – поспешно дал справку Шафиров. – Но, вы сами понимаете, полного ручательства дать не могу…
Дивьер, поглядывая то на Бороха, то на Шафирова, улыбался, не разжимая губ. Он вовсе не боялся требовательного гостя. Лакоста же был серьезен и немного уныл.
– Есть ли в доме опара? – нетерпеливо перебил Борох. – Дрожжевой хлеб? Пиво?
– Есть, – сказал Шафиров и, вздохнув, виновато пожал плечами.
– И это называется евреи! – с укором сказал Борох Лейбов. – Ребойнэ шелойлем, рэб Шапир… Ну, так! – Он решительно отодвинул прочь от себя куверт, задрал скатерть и, снова глубоко сунув руки в холщовый мешок, извлек оттуда свою еду: рыбные тефтели, шматок мяса, хрен в баночке, соль, повидло, литровый штоф и стопку мацы. Разложив и расставив все это перед собою на голой полированной столешнице, он с вызовом покосился на хозяина.
– Маца у нас есть, – глядя на скудные припасы Бороха Лейбова, сконфуженно выговорил Шафиров. – Замечательная маца… Вот! – Он указал на серебряное блюдо, покрытое белым шелковым платком с золотой вышивкой: звезда Давида и львы.
– Вы ешьте свою замечательную мацу, а я буду есть свою замечательную мацу, – упрямо сказал Борох Лейбов. – Еврей должен есть на Пейсах мацу, даже если она некошерная. Это лучше, чем ничего. – Протянув руку, он щелкнул ногтем по краю серебряного блюда и поощрительно вслушался в нежный долгий звон. – Чистое серебро. Хорошая вещь. Ей место в синагоге или на столе цадика.
Шафирову сделалось неловко. «Вот, мне неловко, – растроганно подумал он. – Кто бы мог себе это представить: какой-то псих, фанатик вогнал меня в краску. Мой дед Шафир, наверно, был такой же, и тоже из-под Смоленска… Надо будет пожертвовать это блюдо на синагогу, инкогнито, разумеется».
Дивьеру надоел Борох Лейбов. Откинувшись на спинку стула и полуприкрыв глаза, он тихонько запел пасхальную песенку о белой козочке:
Эхат гадья, эхат гадья,
Эхат гадья!
– Перестаньте! – взмахнув руками, прикрикнул Борох. – Вы не знаете порядка?! Я скажу, когда надо будет петь.
Шафиров и Лакоста укоризненно поглядели на Дивьера; тот, досадливо удивляясь самому себе, замолчал на полуслове и, не зная, что предпринять, уставился на принесенный Борохом штоф.
– Это пейсаховка, – подняв штоф двумя руками, сказал Борох Лейбов, – мы все будем ее пить. На Пейсах еврей должен пить пейсаховку. Спрашивается: откуда у рэб Шапира возьмется пейсаховка? Сказано: если из дома перед Пейсах не выметена опара – обойди этот дом стороной… Ну, так: вы плохие евреи, но вы все-таки евреи. Плохой еврей лучше хорошего гоя. И я пришел, чтобы сделать мицве и провести с вами сейдер.
Шафиров засопел, низко облокотившись о стол. Он был уверен, что это он, Шафиров, сделал мицве, пригласив на пасхальный вечер бедного еврея из Зверятичей, и он не собирался расставаться с этой своей приятной уверенностью.
– Теперь вы повторяйте все вместе за мной, – продолжал Борох Лейбов, – а потом, когда я скажу, повторяйте каждый в отдельности… – Из холщового мешка он достал истрепанную книжку, открыл ее и, почти не заглядывая в текст, начал: – Ну, так. Рабами были мы в земле Египетской, и Бог, Господь наш, вывел нас оттуда рукою крепкою.
Он читал долго, по ходу чтения беря на язык то щепотку соли, то волоконце хрена, то каплю повидла. Закончив читать, он отодвинул книжку и сказал:
– Теперь можно выпить по глотку.
Пейсаховка оказалась крепчайшей, и это вселило в голодного Дивьера приятные надежды. Шафиров, выпив, тоже оживился, смачно крякнул и потянулся за закуской, но Борох Лейбов, нагнувшись над столом, шлепнул его по руке.
– Очередь еды еще не пришла! – морщась, как от горького, сказал Борох Лейбов. – Терпите! Еврей должен терпеть, и тогда он поймет, что он настоящий еврей.
– Да, надо терпеть, – эхом откликнулся Лакоста и поправил на голове сбившуюся ермолку. – Ничего не поделаешь…
– Бунтующие против терпения подобны баранам и козлам, – поддержал Лакосту Борох и, привычно воздев руки, приставил их к голове наподобие рогов. – Бунтовать можно только против гонителей нашей веры, и это – мицве.
– И вы бунтуете? – с любопытством спросил Дивьер.
– И я бунтую, с Божьей помощью, – подтвердил Борох Лейбов, неприязненно взглянув на Дивьера. – И я во славу Божию открою хедер у нас в Зверятичах, и евреи, – тут он перевел взыскующий взгляд на Шафирова, – все евреи мне должны помочь!
– Ну конечно, конечно! – облегченно воскликнул Шафиров, дождавшийся наконец просьбы от своего сурового гостя и сразу почувствовавший себя более уверенно. – Мы поможем вам деньгами – инкогнито, разумеется, – а вы открывайте там у себя под Смоленском хедер.
Борох Лейбов, однако, ничуть не потеплел, голос его звучал по-прежнему сухо:
– Сказано: безымянный жертвователь более угоден Богу, чем назвавшийся… Ну, так: повторяйте за мной, рэб Шапир: И наслал Бог, Господь наш, моровую язву на египтян, детей фараоновых…
В коридоре, ведущем к подвалу, отчетливо прозвучали приближающиеся шаги.
– Кто это? – быстро спросил Дивьер.
– Илья-пророк, – повернув голову, тревожно пошутил Шафиров.
Ковровая портьера с треском отпахнулась. На пороге, потирая ушибленный о низкий косяк лоб, стоял Петр. Оглядев из-под кулака в ужасе повскакавших из-за стола людей, он довольно усмехнулся произведенному замешательству. Потом, тяжело ступая по коврам, прошел к голубому бархатному креслу, глубоко в него опустился и удобно разбросал длинные ноги.
Шафиров, открыв рот, немо уставился на царя в кресле. Дивьер покусывал тонкие губы, желваки его прыгали под кожей. Лакоста и Борох Лейбов, глядя в разные стороны, шептали молитвы.
– Что ж это, вы тут гуляете, Пасху свою жидовскую празднуете, а меня и пригласить забыли! – с шутливым укором сказал Петр. – А мне на вашу Пасху поглядеть весьма любопытно и даже полезно для общего знания… Налей-ка мне, барон, вот из этого! – Петр вытянутым пальцем указал на штоф.
Неверной рукой Шафиров нацедил пейсаховки в серебряный кубок и подал царю. Петр выдохнул, перекрестился и одним длинным глотком опрокинул водку в рот.
– Хороша! – отфыркнувшись, похвалил Петр и, поискав по столу глазами, схватил лежавший перед Борохом на тряпице кус мяса и вгрызся, зажевал. – А вы что остановились? Продолжайте!
Медленно, натужно согнулся Борох Лейбов над своим мешком, выудил оттуда черную ермолку и молча протянул царю. Шафиров побелел, ему нечем стало дышать. Продолжая жевать, Петр с интересом повертел в руках убор, заглянул вовнутрь его и, ничего там не обнаружив, кроме сала и перхоти, надел на голову.
– Ну, так, – настороженно взглянув на царя, сказал Борох Лейбов, – кто хочет, может за мной повторять: И послал Бог, Господь наш, моровую язву на египтян, детей фараоновых…
Более всего Шафирову не хотелось, чтобы Борох Лейбов назвал его сейчас «рэб Шапир».
9
МАША-РИВКА. 1715
Хутор Еловый Шалаш или, попросту говоря, Шалашок стоял в полуперегоне от Санкт-Петербурга по московской дороге, в стороне от нее, в лесу. Хутор состоял из вместительной избы за крепким бревенчатым забором, похожим на крепостной, с заостренными кверху лесинами, и дворовых построек: разгороженного тонкостенными перегородками на клетушки сенного сарая, конюшни и бани. Говорят, был здесь когда-то и еловый шалаш посреди двора, встречала там заезжих гостей чаркой водки отборная цыганка – но та цыганка то ли померла, то ли свел ее со двора прохожий человек, а шалаш, как развалили его по причине наступления осенних дождей и холодов, так и не возобновили: по лености или по ненадобности. Но когда это случилось – десять лет назад или в запрошлом году – молва не донесла.
Нынешняя осень тоже выдалась ветреная, ранняя. Ветер наметал палые листья во двор хутора; сек мелким нудным дождем стены и окна избы. Изнутри теплой избы, впрочем, дождь уже не казался нудным, и даже хотелось назвать его «дождик» – оттого, может быть, что для вошедших в дом и вольно рассевшихся за обильным столом мужчин мерзкая водяная канитель не составляла больше никакой досады. И не без мягкой, чуть насмешливой жалости думалось им над стаканом вина о тех, кто трясется сейчас «под дождиком» по дороге сюда, в Шалашок.
А тряслись: молодой, безусый еще князь Василий Гагарин, да Туляков, да кавалер Рене Лемор. Остальные были здесь: ядреный гуляка Растопчин, Головин, Кривошеин. Среди всех один ядреный Растопчин перевалил за тридцать; лицо его, иссеченное шрамами и морщинами, с выпуклыми татарскими скулами, было чайного цвета, плоские черные усы топорщились щеткой. Федор Растопчин пользовался в среде товарищей славой бывалого человека и приятно легкого на подъем.
В ожидании путников Никита Кривошеин с Растопчиным и Головиным попивали романею и без нетерпения поглядывали в серые окошки. Хозяин хутора Семен, не приближаясь к гостям, высовывал то и дело лобастую плешивую голову из кухонной двери и взыскательно оглядывал стол: что подать, что убрать. Все нужное, все уместное было там, и Семен своими круглыми зоркими глазами темные бутылки, раскоряченные куриные тушки со вздыбленными задками и кочны квашеной капусты разглядывал с тем же пристальным и доброжелательным выражением, что и лица гостей, тоже ему хорошо знакомые.
Востроглазый Семен был единственным, кто доподлинно знал историю хутора Шалашок. Он и рассказывал ее гостям, охотно и кудряво, и всегда по-разному. То его хутор стоял на месте древнего чухонского капища, и вот на этом как раз камне каждый четверг, в шесть часов утра, главный чухонский священник Чумынь приносил жертву богу Карыге – черноглазой девице вспарывал костяным ножом брюхо от непоказного места до грудной кости. То девицу никакой Чумынь не запарывал – а пускали к ней в шалаш, который вот здесь, на месте сенного сарая, и стоял, – пускали к ней с шести часов утра по четвергам же специальных силачей и удальцов чухонского племени, и они, эти молодцы-удальцы, числом сто и один, до тех пор толкли Черноглазую, пока она, обливаясь светлыми слезами, не отдавала душу богу Карыге. Судьба цыганки, со слов Семена, тоже выходила неоднозначной: то ли она, отпустив сто и одного удальца-молодца, померла родами, то ли, с разрешения и благословения самого Семена, подалась в цыганскую землю и взошла там на царство, но непременно будет обратно, потому что женская природа свое берет, а где ж, как не в Шалашке, эту природу и улещивать – не в цыганской же земле, если там мужики жрут одну вишню! Вот, на той неделе, может, и появится, можно ждать…
Слушателей, начиная с ядреного Растопчина, всего боле трогала история Черноглазой в шалаше; каждый помещал себя в то героическое и увлекательное, не в пример нашему, время, и само собой получалось, что именно он, с его сноровкой и силой, служил причиною последних светлых слез красавицы Черноглазки. Что же до отборной цыганки – да, ее ждали, ждали терпеливо и привычно, каждый раз справляясь у Семена, не явилась ли еще восвояси, и придирчиво сравнивая ее несомненные, но воображаемые достоинства с тяжеловесными прелестями обитательниц клетушек сенного сарая.
Эти пригожие обитательницы, неприметно скучая, изо дня в день выслушивали мудреные разговоры гостей о предметах возвышенных: государственном великом переустройстве и повреждении нравов, на первый взгляд огорчительном, но, если вглядеться попристальней, передовом и несомненно отрадном. В качестве примера неизменно приводился в конце концов Шалашок с его Маньками, Катьками, Любками и особенно Марфуткой, слывшей стараниями плешивого Семена то ли сестренкой, то ли племянницей отборной цыганки и пользовавшейся по этой причине исключительным спросом, вплоть до очереди. Впрочем, дружеское молодецкое соперничество никогда не переходило здесь в подколодную ревность; мордобития случались редко.
– Эй, Семен! – отведя взгляд от окна, хлопнул в ладоши Растопчин, и хозяин Шалашка немедля внырнул из кухни в зало как бы даже с разбегу. – Кличь, что ли, шалашовок! А то скучно у тебя: дождик да дождик.
Готовно беря на себя перед гостями ответственность и за дождь, выливаемый небесами на хутор, Семен кивнул плешастой головой и шагнул в сени. Гости с интересом глядели, как он, подобрав полы кафтана, шлепал через двор по лужам к сенному сараю и как оттуда, в ответ на его зов, высыпали девки и, прикрываясь платками, с визгом побежали к избе. Услышав приятный визг, ядреный Растопчин сожмурил глаза и медленно, задумчиво улыбнулся. Улыбка у него была нежная, почти детская.
Девки, числом пять, расселись вдоль стен и подходили оттуда к столу по одной, по зову. То были плечистые, крепкие девки, коротконогие, как рабочие лошадки, с приятными глуповатыми лицами. Они наполнили комнату не столько шумом голосов (до поры они перешептывались, прикрывая почему-то рты ладошками, как будто ковыряли в зубах), сколько мельканьем просторных пестрых одежд, мельтешеньем, от которого мужчины чутко настораживались и глаза их, утрачивая безмятежное сонное выражение, наливались блеском отточенной стали, обмокнутой в масло.
– А Марфутка где? – потребовал Растопчин.
– Чичас придет, – пообещал Семен. – Она, сами знаете, господин капитан, когда не надо, на кроватях лежит, а когда надо, ее и не докличешься. – И добавил самохвально, с твердостью в голосе: – Отменная девица!
Согласно хмыкнув, Растопчин недолго помолчал, а потом, перегнувшись через спинку стула, позвал:
– Катька! – И еще: – Манька!
Девки проворно подошли, сели на краешки стульев по сторонам Растопчина.
– Выпьем! – сказал Растопчин. – А то скучно: дождь да дождь. Скиснуть можно.
– И вы, красавицы, и вы! – легко картавя, пригласил оставшихся Никита Кривошеин. – Мы все будем пить: дождь для всех, и вино для всех… Нет-нет, голубушка, ты садись-ка вот сюда, подальше, а это место оставь для прелестной Марфутки.
Скосив глаза над стаканом, Растопчин не без досады оглядел место, забронированное предприимчивым Кривошеиным.
– Я прошу вас, господа, обратить внимание на все это! – сказал Головин и, кругло поведя рукою, опустил ее на плечи Любки. – Простая изба, грубая пища, нравственно здоровые девицы – вот это и есть истинное единение с нашим замечательным многострадальным народом. И это, если хотите, черта времени: в эту проклятую погоду мы тащимся в медвежий угол, чтобы окунуться в народ.
– Окунешься, граф, окунешься, – уверенно согласился Растопчин. – А, Любка?
– Что ль, пожар? – благоразумно заметила Любка. – Вон, свет еще на дворе-то… Успеется!
– Я совершенно серьезно, господа! – продолжал Головин. – Мы живем в историческую эпоху: старый, дряхлый мир сломлен, новый наступил. И не только в том дело, что мы догнали высокомерный Запад и производим теперь преотличные сукна и даже иголки. Мы совершили нравственный переворот! Да вот хотя бы взять этот наш Шалашок: каких-нибудь двадцать лет назад разве это было мыслимо – вот так непринужденно сидеть и рассуждать с Любкой или там с Марфуткой…
– С прелестной Марфуткой… – назидательно вставил Никита Кривошеин.
– …и благодарно чувствовать себя среди народа, – кивнул Головин. – Ведь народ – наша опора!
– Не правда ли, Любка? – ввернул неугомонный Никита Кривошеин, изрядно принявший романеи и раскрасневшийся.
– Как изволите, барин! – повела дородным плечом Любка; от этого ее жеста обнимающая рука Головина упала и ударилась о лавку с неприятным стуком.
– Вот ты всегда так! – бездосадливо наморщил лоб Головин. – А ведь мы все, все, – он обвел ушибленной рукою товарищей, девок и плешастого Семена, – русский народ, и вот это-то и замечательно! Мы – одна плоть, одна кровь, да и душа…
– Плоть – это чего? – коснувшись красными губами чайного уха Растопчина, шепотом спросила Манька.
– Мясо это… – объяснил Растопчин, шлепнув Маньку по тяжелому заду. – Мясо – да, а душу ты, Головин, все же сюда не подмешивай. Вон у Семена, скажем, душа – где? В кармане. А у Маньки? – Он снова охлопал девушку. – Известно, где.
– И все же ты не прав! – не сдался Головин. – Конечно, твоя душа или моя стоят выше Семеновой или там Любкиной…
– Прелестную Марфутку я попрошу не задевать, – немедля предостерег неугомонный Никита Кривошеин. – Она, несомненно, царского рода, хоть и цыганского. А тебе, Головин, это все так близко и интересно, потому что сам ты недавно из народа… Сколько лет вашему дворянству? Для нас, Кривошеиных, народ – он и есть народ, и не более того. Скопление людей.
– А как же… – не нашелся на сей раз Головин. – Да как же…
– А время наше, действительно, передовое, – неторопливо продолжал Кривошеин. – Раньше мы девок выписывали из деревенек и селили где-нибудь под лестницей, а теперь ездим в эту прелестную дыру. Но вот почему мне нравится сидеть в халупе, за грязным столом – этого я, право, не знаю и понимать не хочу.
– Это и есть веяние времени, – рассудительно заметил Растопчин, довольный тем, что разговор отошел от неприятной для него темы дворянской родовитости. – А насчет народа ты, Кривошеин, прав: после стакана романеи мы начинаем о нем рассуждать на всякие лады.
– Хорошо еще, что после романеи! – поддержал Кривошеин. – А то, по новым временам, начнут рассуждать и после чая с жамками.
– А народ водки выпьет, ладошкой утрется и, долго не рассуждая, спать идет, – заключил Растопчин и оглянулся на дверь. – Но где же все-таки Марфутка? Идет, что ли?
Вместо Марфутки в избу вошел, горбясь в мокром платье, кавалер Рене Лемор.
– Эта чертова русская погодка! – раздраженным тоном, с милой улыбкой на чисто белом, как будто стеклянном лице сказал Лемор. – Но как славно, что я уже здесь… Гагарин с Туляковым сейчас будут, я их обогнал.
Кавалер Лемор, внучатый племянник французского посланника, отличался изящной хрупкостью сложения и веселым нравом. Человек небогатый и склонный, по определению Никиты Кривошеина, к патологической бережливости, Рене пребывал в постоянном искреннем восхищении своими безоглядно щедрыми русскими друзьями; он готов был проводить с ними все свое время в разъездах по гостям, пьянстве или легких разговорах. Его обаятельная, чуть глуповатая в сочетании с бегающими навыкате глазами улыбка стала притчею во языцех в среде санкт-петербургской великосветской молодежи, в гульливой и шаловливой ее части. «Лыбиться, как Рене» – это означало быть славным парнем без особых качеств, столь обременительных в мелькающем веселом многолюдстве, и совершенно незаменимым в хмельном застолье, переходящем в разгульное пьянство и обжорство. Попытки французского посланника пристроить его к какому-нибудь достойному делу не увенчались покамест успехом: не отрицая пользы служебных занятий, кавалер, однако, более уповал на удачный брачный союз с богатой и красивой наследницей, но и с этим по приятной ветрености характера не спешил.
– Гагарина с Туляковым ты обогнал, друг Рене, а нас – садись-ка, догоняй! – наливая вина в низкий и широкий стакан, сказал Растопчин. – Или, может, водки тебе?
– Пожалуй! – кивнул головой кавалер. – Озяб я…
– Согреем! – с приятной убежденностью сказал Растопчин, радуясь и появлению Рене Лемора, и что можно наконец покончить с наскучившим ему разговором и отдать должное доброму веселью. – Эй, Семен, будь ты неладен! Что там с музыкой?
– Чичас! – вильнул тяжелой головой Семен. – Готово!
И действительно, по хозяйскому знаку явился из кухни заспанный чернявый мужик с большим разлапистым носом, не вполне трезвый. Подняв к подбородку скрипку, он сосредоточенно скосил глаза к деке и скользящим движением опустил смычок на струны. Семен тем временем подхватил из угла балалайку, вздернул ее к груди и колупнул струны граненым квадратным ногтем. Девки чинно потянулись из-за стола – плясать. Подбоченившись и поводя плечами, они лениво поплыли по комнате, как утки по пруду, по-утиному вытягивая гладко причесанные головы с толстыми косами.
– Живей! – потребовал Растопчин и ударил в ладоши.
Но девки и без понуканий, сами приходили понемногу в охоту, били в пол каблуками и, развевая широкие подолы, с отрывистыми взвизга ми поворачивались на месте. Первоначальное отсутствующее выражение на их лицах сменилось довольными улыбками, рты приоткрылись, раздулись ноздри, трогательные бисеринки пота проступили на чистых выпуклых лбах. Семен с чернявым мужиком заиграли громче, наяристей. Зорко глядя на девок, гости тихонько притопывали под столом в такт музыке.
Никто из них не заметил, как приоткрылась входная дверь, пропуская поджарую по-цыгански Марфутку. За нею, мягко ступая, вошла рослая, на полголовы длинней Марфутки, дородная молодая девка с круглым нежным лицом. За женщинами, стуча когтями по струганым доскам пола, проскочила грязная черная собака величиной со стриженую овцу. Клацнув зубами, собака скоком вынеслась на середину комнаты, и пляшущие смешались, неловко кинулись каждая в свою сторону. Мужчины повскакали из-за стола. Чернявый мужик, вздохнув, опустил скрипку и смычок.
Отведя Марфутку плечом, рослая девка широко шагнула, выпростала руку из-под лиловой шали и, ухватив пса за тощий загривок, легко, как кошку, оторвала его от пола. Вслед за тем, отведя голую по локоть, налившуюся вдруг белой мраморной силой руку, она швырнула сучащего ногами пса в дверь, резко распахнувшуюся от удара.
Мужчины освобожденно засмеялись, разглядывая силачку. Чернявый мужик, почувствовав на себе острый взгляд Семена, сунул скрипку под подбородок и заиграл. Притопывая и поворачиваясь на ходу, девки, не спеша, потянулись из своих углов.
– Вот это да! – держась за стакан, потрясенно пробормотал Головин. – Новенькая! Звать тебя как?
– Агашка! – бархатным низким голосом сообщила силачка и, подведя скрещенные руки под тяжелую шаткую грудь, вплыла в круг, как лебедь в утиную стаю.
– Ей бы не плясать, а с медведем бороться! – то ли критически, то ли восторженно заметил Никита Кривошеин. – Очень, оч-чень!.. И все же мои симпатии по-прежнему принадлежат прелестной Марфутке: понятия красоты и очарования для меня незыблемы.
– Кривошеин, да ты просто ретроград! – не сводя с Агашки глаз, осудил Головин. – Да ты сам погляди!
Осуждение, казалось, было приятно Никите Кривошеину; он усмехнулся с довольным видом.
– Ретроград, ретроград… – повторил он, прикартавливая раскатисто. – А что: это звучит приятно. И потом, кто-то же должен быть ретроградом! Так кому ж, как не мне, и быть.
– Ты все шутишь, Кривошеин… – выбираясь из-за стола, сказал Головин.
– Она, действительно, своеобразна, эта Агашка! – заметил Растопчин.
– В высшей степени! – охотно согласился Кривошеин. – Если б у ней на голове рос тайный уд – она была б еще своеобразней… А что, господа! В старые времена кумирами толпы или, как мы нынче это называем, народа были люди знатные и богатые. Вправь кто-нибудь в шапку жемчужину с детский кулачок – вот он уж и кумир: все о нем говорят. Нынче знатность ни к чему и даже иногда вредит: нынче кумир – Меншиков. А завтра какая-нибудь танцорка с тайным удом на голове будет у всех на устах… Эй, Марфутка, все о тебе, бедняжка, забыли! Ну, иди, иди сюда.
– А ты что скажешь, Семен? – спросил Растопчин, оборотившись к хозяину. – Это ведь ты нам такой сюрприз припас!
– Нам хучь бы пес, абы яйцы нес, – голосом внятным и ровным сказал Семен.
Головин танцевал, прерывисто дыша, охватив прямую и круглую, как древесный ствол, Агашку.
Устроившись на коленях у Кривошеина, с пригоршней сахарных орешков в смуглой узкой ладошке, Марфутка пасмурно и не без зависти поглядывала на силачку.
С улыбкой доброжелательной и отчасти иронической смотрел Рене Лемор.
Ошарашенно смотрели, застряв в дверях, наконец-то приехавшие Гагарин с Туляковым.
Агашка возвышалась над кругом танцующих, как диковинная недосягаемая скала над холмами. И эта ее недосягаемость манила и распаляла мужчин. Эта диковинная недосягаемость и совершенная доступность.
Успокоились лишь спустя малое время после того, как Головин, с лицом обреченным и немного торжественным, как перед публичной казнью, увел Агашку в сенной сарай. И снова поскакал разговор с камня на камень.
– По мне, так она немного великовата, – сказал Гагарин, жуя моченую сливу. – И это лицо ангелицы…
– В точку попал! – воскликнул Растопчин. – Вот именно, что не дьяволицы, а ангелицы!
– Бедный Головин! – пересаживая Марфутку с затекшего левого колена на правое, сказал Никита Кривошеин. – А он, быть может, сейчас как раз счастлив в объятиях народа.
– Знаете, господа, – сообщил Туляков, – в Санкт-Петербурге появился объект не менее замечательный…
– Кто? Кто? – послышались голоса.
– Машенька Лакоста, – сказал Туляков.
– Шута дочка? – с самодовольством всезнания уточнил Растопчин. – Жидовочка?.. Знаем, знаем…
– Прелестная жидовочка! – поправил Никита Кривошеин. – Я ее вот с Рене видел у Дивьера: очень хороша. А, Рене?
При упоминании Дивьера Семен подобрался и навострил уши.
– Да, – кивнул головой Рене. – Но – дочь шута. Это как-то… настораживает.
– Вот еще! – возмутился Растопчин. – А Агашка! Головин у нее не спрашивал, что ее папаша делает: рыбой торгует или огород городит.
– Какой огород? – не понял Рене.
– Какой, какой… – отмахнулся Растопчин. – Такой! Я это к тому говорю, что нет никакой разницы, кто у ней отец, кто мать – была б сама хороша. Это если жениться – тогда другое дело.
– Жениться я на ней не могу, – покачал головой Рене. – Шут нищ, я справлялся. У него, кроме жалованья да какого-то дурацкого необитаемого острова, ничего нет. Правда, он приятель Дивьера…
Семен снова насторожился, взгляд его сделался напряжен.
– С Дивьером лучше не связываться, – заметил Гагарин.
– Так дочка-то эта, Машенька, – не Дивьерова, а шута! – разъяснил положение Туляков. – А что они друзья – так за ней нельзя и приволокнуться? Ну, это, господа, уже слишком: мы как-никак живем в восемнадцатом веке!
– Если б не шут, я бы на ней, пожалуй, женился, – прикинул Рене Лемор. – Но называться зятем шута – это, согласитесь, как-то неловко для дворянина.
– Жениться следует только по взаимной симпатии, – сказал Никита Кривошеин. – Вот у нас с прелестной Марфуткой взаимная симпатия, и мы с ней сейчас пойдем и поженимся.








