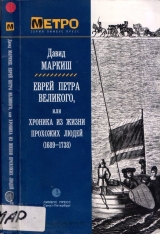
Текст книги "Еврей Петра Великого (Роман)"
Автор книги: Давид Маркиш
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
Высоко подняв брови, Екатерина протянула руку, потрепала Шафирова по щеке.
– Проклятый турок хочет, чтоб вы пришли к нему тайно, – прошептал Шафиров.
– Когда?
– Сейчас…
– И потом?
– Он выпустит нас отсюда со знаменами и оружием, – сказал Шафиров. – Ваш приход – это его условие.
Сцепив руки на круглом животе, Екатерина откинулась в кресле и, глядя сверху на склоненный затылок Шафирова, усмехнулась. С ума он сошел, что ли, этот турок? Старикашка, наверно, какой-нибудь… А Шафиров-то хитрющий: «Легче расстаться с Санкт-Петербургом». Как же, легче! Да турок и не хочет Санкт-Петербург, а хочет ее, Марту, то есть Екатерину Алексеевну. Все мужики одинаковые, вот уж точно! И Гуго, и тот унтер-офицер, и Шереметев-старик, и Александр Данилович, и Петр Алексеевич, и… Гуго, пожалуй, был лучше всех, царствие ему небесное, – свой, настоящий. Как он тогда говорил ласково, почти пел: «Вот, Марта, разобьем царя Петра – и купим корову, будет у нас молочное хозяйство». Руки у него были теплые, большие, а волосики беленькие, мягкие. А теперь вот не пойди она к турку – и разбит будет царь Петр Алексеевич, убит, как Гуго. Ни Гуго от этого лучше не станет, никому. А ей, Марте, снова придется под телегу лезть к какому-нибудь Мухамету, снова все начинать сначала на двадцать четвертом году – уж куда как не девочка. И кому ж мужа спасать, как не родной жене?
– А не обманет турок-то? – озабоченно спросила Екатерина.
– Не думаю, Ваше Величество, – повел головой Шафиров. – Мы получим соответствующие гарантии.
Легонько оттолкнув Шафирова сведенными в щепотку пальцами, Екатерина стремительно поднялась с кресла и, взяв свечу со стола, подошла к зеркалу.
– Вам нужно произнести сейчас какую-нибудь историческую фразу, Ваше Величество, – подавив горькую усмешку, заметил Шафиров.
– Ну, так не в службу, а в дружбу придумайте что-нибудь, Шафиров! – сказала Екатерина, внимательно разглядывая свое отражение в серебристой глуби венецианского стекла: чуть приоткрытые пухлые губы, круглые щеки с ямками. – Я отпустила камеристку – подайте-ка мне румяна вон из того шкапчика.
– Вот, Ваше Величество! – сказал Шафиров, живо подавая спрошенное. – И пудру! Вот эту? И, если позволите, я вам принесу плащ, офицерский.
– Мы пойдем пешком? – удивленно спросила Екатерина. – Это ведь, кажется, далеко…
– Ну что вы! – возразил Шафиров. – Мы поедем в моей карете, я сейчас распоряжусь.
– Красивое платье? – спросила Екатерина. – Или лучше лиловое?
– Лучше лиловое… – сказал Шафиров и болезненно поморщился, как будто кто-то всадил в его сердце и повернул там длинный ядовитый шип.
Когда они проходили мимо Петрова шатра, царица замешкалась на миг: ей почудилось, что муж властно и поощрительно смотрит на нее из-за чуть сдвинутой в сторону оконной завески, что он признал ее, Екатерину, в пузатом и несуразном гвардейском офицере.
…Отпустив завеску, Петр сел к столу, набил глиняную трубку черным голландским табаком и, с силой втягивая податливое пламя свечи, затянулся крепким ароматным дымом.
Немногим более чем через двадцать четыре часа, на рассвете, русские войска со знаменами, пушками и барабанным боем переправились через реку Прут и потянулись домой, в Россию.
Петр с Екатериной поехали отдыхать в Карлсбад, на курорт.
Великий визирь Мехмет был посажен султаном на кол. Узнав об этом, Шафиров, оставленный турками в качестве заложника до выполнения русскими их обязательств по мирному договору, испытал прилив неприятных чувств.
8
ЯВЛЕНИЕ ИЛЬИ-ПРОРОКА. 1714
Еда была невкусная: острая, кровяная, с кусочками слегка обжаренного огненного перца. Осторожно жуя, Шафиров вспомнил нежнейшие домашние супчики и тефтельки и грустно улыбнулся. Радость победы над Мехметом, распиравшая его в ту прутскую ночь, давно истончала и пожухла. Теперь, три года спустя, его радовало другое: что кончился срок его заложничества, что он едет домой – к жене и к дочкам, к книгам, к супчику. И, против желания возвращаясь памятью на берега Прута, он испытывал неловкость оттого, что послужил причиной гибели турецкого визиря. Турок был, в сущности, неплохой человек, и культурный. И тот факт, что, не сядь он на кол, неисчислимые бедствия обрушились бы на Россию, – этот факт сейчас ничуть не облегчал неловкости Шафирова перед самим собою.
Три года назад это все выглядело иначе. Тогда он сам, собственноручно готов был изрубить Великого визиря в кебаб – лишь бы вырваться из губительного мешка, спастись самому, спасти Петра, Екатерину, Россию. Теперь триумф, ожидающий его в Санкт-Петербурге, не заставит его задыхаться от волнения и восторга. Ну, может, построят по царскому эскизу аллегорическую арку. Что, интересно, на ней изобразят?
Мысль о том, что знает Петр о той ночи, была неприятна Шафирову, пугала его. Он, конечно, герой, он спас – но это ведь случилось не вчера и не третьего дня. А сегодня у царя другие заботы, и другим людям поручено их разрешать. Да и Шереметев с Головкиным не сболтнули ли лишнего? А если сболтнули – а сболтнули почти наверняка – и пополз слушок, так и благодарность царская обернется бедой. Изовьется слушок змеей, подползет тишком – и ужалит. Вот и весь сказ.
Шафиров, однако, на дурных мыслях долго не задерживался. Приятней было отгородиться от них, заслониться ну вот хоть ладонью – и думать о доме, о семье. Он рассчитывал вернуться в Санкт-Петербург к весне, к Пасхе – единственному еврейскому празднику, который он отмечал все годы, даже в заложничестве. Повторяя скороговоркой молитвы и деловито мурлыча под нос пасхальные песни, он просил Бога вывести его из туретчины, как вывел Он когда-то евреев из земли египетской рукою крепкою… И вот наступил день – и Шафиров едет домой.
Затянувшееся это заложничество не прошло для Шафирова даром. По отношению к нему султанских людей, то приторно сладких, как халва, а по большей части враждебных и грозных, он чувствовал, знал: он ходит вокруг кола. Приди царю в голову весьма здравая идея – задержаться с его, шафировскими, обязательствами перед султаном или вовсе отказаться от них, – и кол из леденящей душу угрозы превратится в реальную палку с заостренным концом, черным от кала и крови… Такие мысли и видения, при всем их чудовищном ужасе, постепенно примиряли Шафирова с ледяной вечностью, расположенной по ту сторону смерти. Бирюзово-голубые турецкие утра казались ему даром Божьим, и, разглядывая через окно крепко охраняемого дома безмятежный далекий горизонт, он с повлажневшими глазами размышлял о том, что успех и карьера – пустая суета, что погоня за наживой мельчит и чернит душу и что, пожалуй, только книги, золотые глыбы книг, способны принести человеку облегчение и покой… Все эти рассуждения пресеклись и были забыты, как только пришел день освобождения из заложничества. Остался страх за свою судьбу, страх перед царем. И осталась усталость, от которой, верно, не избавиться уже до конца дней.
Сразу, в один миг Санкт-Петербург сделался близок, как будто оставалось до него полперегона. И вживе представились картины пренеприятнейшие: склоки и подсиживания в Сенате, зависть врагов и друзей, и неудачника-брата надо, наконец, пристроить к какой-нибудь службенке для виду и для содержания. Судьба младшего брата заботила Шафирова: нехорошо, негоже родственникам вице-канцлера прозябать в ничтожестве. Нехорошо и несправедливо. В почтовом ведомстве следует приискать ему что-нибудь приличное: доходное и почетное. И пора, пора серьезно подумать о подходящей партии для старшей дочки: молодой Волконский ходит в женихах, и Толстой. На приданое можно пустить доход с семужного промысла на Белом море, за такие деньги даже Рюриковичи закроют глаза на происхождение шафировского папаши Пинхуса. На пасхальный седер они, понятно, не придут, да этого и не надо: достаточно и того, что он, Шафиров, придет целоваться с ними на русскую Пасху. А на седер придет Дивьер, придет Лакоста. Не будет миньяна – невелика беда: Санкт-Петербург – не Смоленск, здесь все евреи наперечет. А гоям и не стоит знать о пасхальном седере в доме русского вице-канцлера Шафирова. На седер надо будет приготовить фаршированную щуку, бульон с кнейделах… Вспомнив о кнейделах, Шафиров поковырял двузубой вилкой кусочки перченого мяса и брезгливо поморщился. Скоро, скоро домой! И снова жизнь помчится вскачь, как тряская безрессорная коляска, запряженная жеребцом с царской конюшни. Так что ж, что безжалостно подбрасывает на ухабах и душу вытрясает! Зато – вперед, в дали, набитые алмазами, орденами и титлами, пропахшие вином и порохом, пропитанные клейкой кровью и слезами восторга и счастья! Вперед – к родному горизонту, наколотому на булавку шпиля Петропавловской крепости и столь отличного от этого окаянного азиятского окаема, похожего на шелковый поясок, накинутый на земные бедра и лениво сползший на ее чресла. Долой отсюда – из этого обрыдлого края, настолько обрыдлого, что даже турецкий язык не захотелось учить и пришлось взяться за итальянский. Довольно! Сколько там еще осталось по Южной дороге до Санкт-Петербурга, любезные господа?
Борох Лейбов направлялся в Санкт-Петербург по другой, Западной дороге. Путь его был не близок и не далек – от родного его местечка Зверятичи, что около Смоленска. Борох был человеком средних лет и среднего роста, плечистым и кряжистым, с пронзительным и пасмурным взглядом темных глаз. Его крупное белое лицо с прямым и тонким по гребню носом заросло пышной широкой бородой, в черной гуще которой уже поблескивали кое-где серебряные нити. Сидя в бричке, Борох Лейбов кутался в овчинный тулуп, надетый поверх капоты, и с безразличием поглядывал на редкие деревеньки да на мокрый лес по сторонам проезжей дороги. Он не любил путешествий, в первую очередь потому, что ему было жаль времени, потраченного на перемещение из одного места в другое, ему по каким-либо причинам потребное. Это пустое время, украденное у разумной жизни, требующей целенаправленной деятельности, это время, проведенное в бричке, телеге или коляске, было никак не восстановимо. А ведь можно было бы потратить его с несомненной пользой для души или для коммерции: изучая Талмуд и комментарии к нему или ругаясь с корчмарями, за доходами которых Борох Лейбов, кабацкий откупщик, следил пристально.
В Санкт-Петербург Бороха Лейбова вели дела не коммерческие. Решив основать в местечке Зверятичи еврейскую начальную школу, он отправился в Петербург и Москву за помощью и поддержкой единоверцев, явных и тайных. К последним он безоговорочно относил и могущественного Шафирова, возвращающегося, по слухам, к Пасхе из турецкого сидения. Еврей-выкрест был омерзителен Бороху Лейбову, как змея или крыса, но перспектива открыть хедер в Зверятичах превозмогала его омерзение: Шафиров был, пожалуй, единственным, чья помощь решила бы дело беспрепятственно и быстро. Стоило помучиться, общаясь с этим грязным мешумедом – лишь бы зверятичские дети получили свою школу и учили бы там с ребе святую премудрость Священных книг. Борох Лейбов уже и место приискал для школы – прямо против церкви Николая Чудотворца, только площадь пересечь. Именно там следовало начать безбоязненную борьбу с попом Амвросием – ловцом слабых душ и прельстителем. В таком деле не следовало прибегать к полумерам, потому что Бог, вне всякого сомнения, был на стороне Бороха Лейбова.
Поп Амвросий, однако же, придерживался противоположной точки зрения: Бог, по его убеждению, всецело был на его, Амвросиевой, стороне. Кроме того, на стороне попа был смоленский архиерей Филофей, и это тоже было немаловажно. Старая вражда связывала Бороха Лейбова с попом Амвросием, и вражда эта была крепче, чем иная дружба; взаимная ненависть и презрение иссякли бы только с уходом одного из врагов в могилу. И каждый из двух твердо рассчитывал, с Божьей помощью, пережить другого.
Сомнения были неведомы их закаленным душам. Уверенные в своей святой правоте и Божьем попечительстве, они видели друг в друге воплощенное дьявольское зло и готовы были к пролитию крови. Они пускали в ход издевки и оскорбления и, столкнувшись случайно, а то и умышленно на улице, вспыхивали, как вязанки сухого хвороста; Борох Лейбов в таком случае растопыривал руки над головой наподобие рогов и, подпрыгивая, блеял по-козлиному, а Амвросий скакал на месте и кукарекал петухом. Человеческий язык был бы их общим языком, а они не желали иметь ничего общего, и вот, ради подчеркивания непреодолимой розни, один кудахтал и кукарекал, а другой блеял. И каждый, пылая и горя, чувствовал себя Божьим заступником и героем.
В этом священном противоборстве хорош был и оговор, и донос. «Борох-Лейба и жена его, – доносил Амвросий, – служившую у них крестьянскую девку Матрену Емельянову в субботу против Богоявления Господня, связавши ей руки и ноги и повеся за переводный брус, держали в таком положении с вечера до утреннего звона и, завесивши ей голову, булавками и иглами испущали из нее руду». Вызванная для дачи следственных показаний, девка Матрена начисто отвела навет, возводимый на ее хозяина, и доносу не был дан дальнейший ход. Однако известность и авторитет Бороха Лейбова и попа Амвросия значительно возросли после этого случая в среде их единоверцев. И тот и другой сделались в Зверятичах истинными праведниками и героями, и их приверженцы терпеливо ждали исхода затянувшегося поединка.
Открытие хедера против церкви Николая Чудотворца было задумано как смелый контратакующий шаг. Бог знает, на чьей стороне тут была правда и здравый смысл, но сила была на стороне попа Амвросия. А сила и правду ломит.
С яростным омерзением вспоминая петушьи крики проклятого попа, Борох хмуро поглядывал из брички на дорогу. Зверятичская школа со временем уподобится Явне, она станет оплотом против нечестивых гоев, светочем для благочестивых и грозой для слабодушных, нарушающих заветы и предписания. Ибо еврей, нарушающий предписания, еще хуже гоя… Увидев за поворотом, за черными елками заезжий двор, последний перед Санкт-Петербургом, Борох Лейбов вытащил из-под лавки холщовый мешок с кошерной дорожной пищей: мацой, луком и жаренным на постном масле мясом.
Анна Меншикова была совершенно счастлива: Дивьер оказался прекрасным семьянином, любящим мужем и отцом. К их большому каменному дому на Мытной набережной, что ни вечер, подкатывали экипажи и коляски с именитыми гостями: люди искали если и не дружбы, то хотя бы расположения сильного и страшного Антона Мануйловича Дивьера. А трехжильный Антон был неутомим и в работе, и в веселье, да и к супружескому ночному труду остался он охоч, как годы назад: Анна ходила если не тяжелая, то сонная и загадочно-улыбчивая.
Александр Данилович Меншиков не показывался на Мытной. По Аньке он не скучал, а если и скучал, то виду не подавал. Встречаясь по царской службе с Дивьером, он держался надменно и холодно, как с чужим; но востроглазый Антон то и дело ловил на себе косые, мстительные взгляды шурина. Эти взгляды, однако, ничуть не пугали и не огорчали бывшего пирата: осторожный и дерзкий, как лесной зверь, он уже достиг всего, что хотел. Положение его при царе было на редкость прочно, потому что он был не только исполнителен, но и честен: имея к тому возможности, не крал или почти не крал, и царь, его же заботами, был об этом осведомлен. Кроме того, по долгу службы и по любопытству характера Антон знал множество интереснейших подробностей о жизни высших царедворцев, в частности и об Алексашке. И изрядную часть этих подробностей он расчетливо держал про запас, про черный день. Поспевая всюду жданно и нежданно, постреливая из-под неподвижных тонких бровей черно-огненными глазами и привычно беря на заметку вещи на первый взгляд незначительные, Дивьер никого к себе не приближал дружески. Дружба с кем бы то ни было мешала бы, сковывала. В том положении, в каком очутился Дивьер, сегодняшний друг завтра мог нечаянно повредить, а то и предать по собственному умыслу либо под пыткой. Беззаботная дружба времен острова Святого Младенца отошла навеки, и Антон Мануйлович о том не жалел, как никогда не жалел ни о чем, им содеянном и оставшемся позади. Отсутствие близких друзей было лучшей защитой от заугольных неприятностей, лучшей гарантией личной безопасности – поэтому гросс-комендант строящегося Санкт-Петербурга, советник царя по делам тайного сыска Дивьер друзей не имел. Исключение, подчеркивавшее раз и навсегда принятое правило, составлял Лакоста, шут.
Назавтра после возвращения Шафирова из туретчины Лакоста отправился на Мытную, к Дивьеру. Было уже почти тепло, грязь к концу дня подсыхала под лучами желтенького весеннего солнца, а к утру ее снова прихватывало легким ночным морозцем. Обходя лужи, Лакоста не спеша брел по набережной. Иные встречные узнавали царского шута, кланялись всерьез, без насмешки: жид Лакоста был в чести у Петра. Иные праздно глазели на его строгое немецкое платье, черное; со стороны шут смахивал на аптекаря.
Дивьер не вернулся еще со службы, и Лакоста с Анной сели пить кофе в малой гостиной. Со стен глядели на них картины в сияющих позолотой резных рамах: поясной портрет Петра, жалованный царем, и красочные сцены морских баталий. Над макагониевым французским буфетом висела гравюра резца придворного гравера Зубова: на небольшом листе изображена была Анна Даниловна – с открытыми плечами, с высокой грудью, с загадочной и утомленной полуулыбкой на крупных губах. В углу, в плетеной из серебряной проволоки клетке, сидел на жердочке большой попугай с лазоревой грудкой и розовым хохолком.
– Антоша научил его свистеть по-пиратски, – сказала Анна Даниловна, придвигая к Лакосте вазочку с сахарными коржиками. – Так страшно! Ну, свистни, ну, Федя, милый!
Попугай Федя широко раззявил кривой клюв, пошевелил квадратным языком и, выпучив глаза, оглушительно, с переливами засвистал.
– Красиво, правда? – сказала Анна Даниловна восторженным шепотом. – Какой молодец Антоша!
Наклонив голову к плечу, Лакоста согласился: попугай, действительно, свистел очень громко.
– Хорошая птица, – сказал Лакоста. – Она несет яйца?
– Не знаю даже… – замешкалась с ответом Анна Даниловна. – Она, наверно, старая… А что?
– Я бы хотел для Маши достать такую птичку, – дружелюбно поглядывая на попугая, сказал Лакоста. – Было бы девочке развлечение. А то, я вижу, она иногда скучает у меня.
– Так она ведь уже невеста! – сильным голосом воскликнула Анна Даниловна. – Ей не о птичках надо думать!.. Сколько ей?
– Семнадцать исполнится летом, – сказал Лакоста. – Но она еще такой ребенок, такое дитя! Поверьте, ей больше четырнадцати, ну пятнадцати, никто и не дает.
– Вывозить ее надо, Ян Семеныч, – хмуря брови на высоком лбу, сказала Анна Даниловна. – В свет. Вот и не будет скучать.
– Зато я буду скучать, – тихонько постукивая пальцем по столу, сказал Лакоста. – Дочь шута на светском балу…
– Да какой вы там шут, Ян Семеныч! – отмахнулась Анна Даниловна. – Название одно! Да вас никто за шута и не считает при дворе.
– За кого ж меня считают? – с любопытством спросил Лакоста и постукивать перестал.
– Ну, как… – ненадолго задумалась Анна Даниловна. – Ну, просто за приятного человека.
– Приятный человек при дворе – это опасная должность, – усмехнулся Лакоста. – Куда более опасная, чем царский шут.
– Наливочки выпьете? – спросила Анна Даниловна. – Вишневой?
– Пожалуй, – пожевав губами, согласился Лакоста.
– А дочку отпускайте, отпускайте! – наливая, приговаривала Анна Даниловна. – Ну вот хоть к нам: у нас молодые кавалеры бывают, и военные и статские. Невесту под замком держать – это же хуже не придумаешь! Она замок отомкнет, убежит невесть куда… – Глядя на играющий вишневыми бликами хрустальный лафитник, Анна Даниловна улыбалась счастливо, безмятежно.
– Упаси, Господи… – пробормотал Лакоста и поежился.
Дивьер вошел неслышно, стремительно. Узнав спину Лакосты, почти подбежал к столу.
– Ян! Вот хорошо, что пришел… Аня, мы одни сегодня? Значит, поужинаем по-домашнему. Вели подавать, голубка моя: я голоден как черт. – И повторил, поглаживая Лакостово плечо и близко глядя ему в лицо: – Как тысяча чертей!
– Нарышкины будут ко второму ужину, – сказала Анна Даниловна, подымаясь из-за стола. – И Гагарин обещался Глеб.
– Я так поздно не останусь, – покачал головой Лакоста. – Посидим полчасика, Антуан, поболтаем.
– Как ты хочешь, – сказал Дивьер. – Но перехватим что-нибудь на скорую руку! – Он взглянул на жену.
– Сидите, сидите! – сказала Анна Даниловна, выходя из комнаты. – Сейчас подадут.
– Отличная у тебя наливка! – сказал Лакоста. – И цвет какой… – Он подлил себе, налил хозяину. – Ты уже видел Шафирова?
– Ну конечно, – сказал Дивьер. – Он просил тебе кланяться. Немного похудел, но – совсем немного.
– Будут какие-нибудь официальные торжества? – спросил Лакоста, возя стакан меж ладонями.
– Нет, – сказал Дивьер. – Ничего. Но царь, наверно, его наградит: деревни, орден.
– Совсем ничего?! – удивился Лакоста. – Но…
– Прут – не Полтава, – пожал плечами Дивьер. – Прут забыть надо, землей засыпать, чтоб не смердел в памяти. Три года назад, может, что-нибудь и устроили бы, а теперь… Как здесь говорят – дорого яичко да ко Христову дню.
– Трудно забыть, – помолчав, сказал Лакоста. – Моя Маша была бы сейчас сиротой, если б не Шафиров: это он вытащил всех нас из могилы, говорю тебе, Антуан.
– Но ведь и ты, Ян, уговаривал Его Величество! – наклонившись к Лакосте, шепотом сказал Дивьер.
– Шафиров меня послал! – шепотом же полуопроверг Лакоста. – И вот теперь Бог вывел его оттуда… Я хочу устроить пасхальный седер и пригласить Шафирова. Ну и, конечно, тебя!
– Где? – выпрямившись в кресле, коротко спросил Дивьер.
– У себя, – сказал Лакоста. – И, если ты имеешь в виду…
– Кого еще ты хочешь пригласить? – продолжал спрашивать Дивьер. – Понимаешь ли, Ян, было бы крайне нежелательно, если слухи об этом нашем седере пошли бы по городу. Более, чем нежелательно.
– Это понятно, – нешироко развел руками Лакоста. – Миньяна мы не наберем: ты, я, Шафиров и еще один еврей.
– Кто? – поднял глаза внимательно слушавший Дивьер.
– Его зовут Борох Лейбов, – объяснил Лакоста. – Он приходил ко мне просить денег на открытие еврейской школы где-то под Смоленском. Немного странный человек, знаешь ли, несколько нетерпимый… Но он здесь совсем один, а позвать одинокого еврея на пасхальный седер – святое дело, Антуан.
– Да, тут ничего не поделаешь. – Дивьер наклонил красивую, без единого седого волоса голову. – Надо его звать… Но я все же проверю, что это за Борох Лейбов. Ты говоришь, он странный?
– Немного, – уточнил Лакоста. – Он смотрел на меня так, как будто я его должник и еще ограбил его впридачу. Ты же знаешь, есть такие евреи…
– Да-а… – неопределенно протянул Дивьер. – Он, наверно, знает, как надо вести седер? Я-то, говоря между нами, иногда путаю, когда нужно петь, а когда пить. Да и ты, Ян…
– Он знает, знает! – перебил Лакоста. – Тут-то уж не о чем беспокоиться. Да и Шафиров знает.
– Да, правда, – согласился Дивьер. – Это мы с тобой, Ян, призабыли.
– Ну, не совсем! – с жаром возразил Лакоста. – Да это и не главное: когда пить, когда петь.
– А что ж – главное? – Дивьер смотрел на Лакосту пристально, требовательно.
– А то, Антуан, – сказал Лакоста, – что мы себя чувствуем обыкновенными людьми только среди своих, будь то Шафиров или даже этот Борох Лейбов. Тут мы, евреи, – а там они, гои.
– Пожалуй, раз в год мы себе можем позволить такую роскошь… – пробормотал Дивьер.
Вошла Анна Даниловна; мужчины замолчали, а потом заговорили о другом.
Шафиров решил праздновать Песах у себя.
Это решение явилось к нему в тот час, когда он узнал: не будет ни фейерверка, ни аллегорической арки. Ну что ж, великолепно! Вот она, награда за верную службу – за жидовскую башку, за жидовский язык, за три года сидения около кола, почти что на колу! Помазанника Божия Петра Алексеевича благодарить не за что, возблагодарим же Бога за милость Его, на седере Его…
Мысли об устройстве тайного седера у Лакосты, за запертыми ставнями, отпали сами собой. Нет-нет, Песах следует встречать безбоязненно и открыто, в шафировском дворце, в парадной зале. И пусть весь Петербург говорит о том, как российский вице-канцлер Петр Шафиров славит своего еврейского Бога за то, что тот вывел его из туретчины рукою крепкою… По некотором размышлении Шафиров решил все же спуститься из парадной залы в глухой подвал, тоже удобный и почти роскошный, и все устроить там: чудом избежав одной смертельной опасности, не следует подводить себя под другую: в открытую дразнить Святейший Синод, и так-то поглядывающий на Шафирова весьма недоверчиво и косо. Да и Лакоста, пожалуй, не отважится грызть мацу и распевать еврейские молитвы на виду у всего света, а Дивьер – тот наверняка не станет рисковать. Несущественно, в конце концов, в каком этаже встречать Песах – в первом или в подвальном. И, кстати сказать, шафировский подвал куда надежней лакостовской избушки, куда всякий любопытствующий человек может войти без приглашения. В подвал надо будет спустить парадный стол, стены завесить коврами. И не забыть поставить там бархатное кресло для Ильи-пророка. Это всегда так бывает трогательно: до конца вечера ждать, что вот-вот откроется дверь, войдет Илья-пророк и сядет в кресло. Знать, что не придет никакой Илья-пророк – и все же ждать. В этом есть что-то детское, непорочное. Голубое бархатное кресло для Ильи-пророка.
Поскольку звать Анну Даниловну Меншикову на подпольный седер было бы делом бессмысленным, то и Шафиров решил обойтись на своем празднике без домочадцев: ни к чему это, да они и не поймут. Общество, таким образом, составлялось мужское: сам хозяин, Дивьер, Лакоста и этот Борох Лейбов из Зверятичей. Ну, что ж, Борох так Борох! Когда ж еще и делать мицве[2]2
Мицве (евр.) – богоугодное дело.
[Закрыть], если не в пасхальный вечер. Тем более, по словам Дивьера, Борох Лейбов человек сообразительный и не станет зря языком болтать о том, в чьем подвале провел он этот седер.
Стол был снесен, ковры развешаны, бархатное кресло установлено. Расхаживая по просторному подвалу, Шафиров празднично размышлял над тем, куда привел его путь, начавшийся в Египте в незапамятные времена. А вот куда: в Панские ряды московского Китай-города; оттуда все и началось, с той потасовки с Алексашкой. И как Иосиф Прекрасный при фараоне, так и он, Шафиров, стал при Петре… Глухой подвал, убранный восточными коврами, напоминал таинственную пещеру, и Шафирову сладко и радостно было чувствовать себя Иосифом – чужеродным еврейским человеком, благодаря уму своему и смекалке поднявшимся высоко и спасшим царя и Россию. А что до фейерверка и арки – ну что ж: ведь и Иосиф, пожалуй, для завистников-египтян оставался жидовской мордой и Богу своему молился тайком, в таком же, может быть, подвале своего дворца. А водил куда он или не водил фараонову жену – это еще вопрос; надо было, так и повел бы. А что об этом в Библии нет ни полслова – так это понятно: о той прутской ночи тоже едва ли будут в книжках писать. «Государыня пожертвовала ради России своими драгоценностями» – это куда благородней звучит и книжней. Он, Шафиров, знает, чем она пожертвовала; хорошо б, он один. Как тогда сказал покойный Мехмет: «Секреты хранятся в железном сундуке, но и железо против времени не выстоит»… А фараонова жена тоже, надо полагать, была красавица, не хуже Екатерины, только на особый вкус.
Поймав себя на этой шаловливой мысли, Шафиров тряхнул головой в громоздком завитом парике. Придет же в голову, ей-богу, да еще в такой вечер!.. А и Иосифу Прекрасному, наверно, хорошо и приятно было собираться хоть раз в год со своими, без всяких там египтян. Ну, два раза в год – но не чаще. Сладка конфетка, когда дают редко.
Первым явился Дивьер, осмотрелся внимательно, хмыкнул удовлетворенно. Сказал вместо приветствия:
– Отлично вы все тут устроили, Петр Павлович. И, главное, никто не догадается…
– Кроме Ильи-пророка! – обрадованно подхватил Шафиров. – Вот и кресло для него.
– Это милости просим! – усмехнулся Дивьер. – А вот если родственничек мой Александр Данилыч пронюхает, неприятностей потом не оберешься.
– Вот завистник! – удрученно покачал головой Шафиров. – Если б зависть его обратилась в жар, все приближенные к Государю давно бы уже от этого жара сгорели в пепел. Он, Меншиков, как жук, точащий дерево, в котором живет! Я ему это и в лицо сказал.
– Напрасно! – лаконично откликнулся Дивьер.
– Ничего не напрасно! – нахмурился, выпятил губы Шафиров. – Мне известно доподлинно, что во многих сражениях он смотрел издали в зрительную трубку, как Нептун с фракийских гор на битву троян с греками.
– Это вы ему тоже сказали? – спросил Дивьер.
– Да! – повысил голос Шафиров. – И это! В лицо!
– Напрасно вдвойне, – сощурился Дивьер.
– Сам знаю, что напрасно, – вздохнув, сознался Шафиров. – Да теперь уж дела не воротишь: сказано, слышано… Зато какое удовольствие я получил, когда глядел в его наглую рожу! Он покраснел, как вареный рак.
– Ну, если так… – чуть наклонил голову Дивьер. – Это, правда, должно быть, приятно.
– Вот увидите, он себя погубит! – потирая руки, продолжал Шафиров. – Завистник! Мерзавец!
– От таких людей следует избавляться разом, – ровным голосом сказал Дивьер, – либо вовсе их не трогать, даже себе в убыток. Князь Меншиков – весьма злопамятный человек, Петр Павлович.
– Знаю, знаю! – махнул рукой Шафиров. – Но мы еще поборемся! Правда себе дорогу пробьет!
– Правда? – удивился Дивьер, и тонкие его неподвижные брови поползли вверх по лбу. – Это вы всерьез?
– А что ж… – опустил плечи Шафиров. – Если повезет…
– Ну да, – сказал Дивьер и, как бы возвращая на место непозволительно подпрыгнувшие брови, с силой провел по лицу, от лба к подбородку, маленькими смуглыми ладонями. – Повезет-то повезет, да куда вывезет… Я предпочитаю в это везенье не верить и покамест ни разу не ошибался.
– Но в отдельных, счастливых случаях… – вяло оборонился Шафиров.
– Я уж не говорю о моем ведомстве, – желая закончить этот бессмысленный разговор, веско сказал Дивьер, – но возьмем ваше – дипломатическое. Что есть дипломатия? – И выговорил, словно отрубил палашом: – Искусство лжи!
– Да, да, – рассеянно согласился Шафиров. – Великое искусство… – И замолчал, к удовлетворению Дивьера.
– И вы, Петр Павлович, великий жрец этого великого искусства, – уже мягче продолжал Дивьер. – Ваше положение не позволяет вам держаться в тени, да вы этого и не хотите… А правда – что ж правда? Здесь начало и конец правды – царь Петр Алексеевич, и это правильно: не будь этой царской правды, все бы поползло, поехало, как по жидкой глине: состояния, идеи, бревна. И нас, – повысил голос Дивьер на возражающий жест хозяина, – нас с вами эти бревна первыми и раздавили бы.








