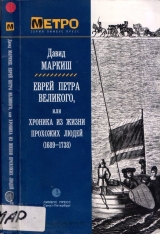
Текст книги "Еврей Петра Великого (Роман)"
Автор книги: Давид Маркиш
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
Арку Петр осматривал придирчиво, со знанием дела. Выкрашенная в семь цветов спектра, она изображала собою радугу, перекинутую над дорогой. В высшей ее точке, на деревянной площадочке, красовалась потешная бронзовая пушечка, размером не более собаки. Изречение, составленное от имени пушечки, гласило: «С искусным бомбардиром дострелю и до Персии».
Под музыкальный шум и песню гудошниц Петр дважды обошел арку и одобрительно кивнул Брюсу: хорошо, красиво! И ни у кого не возникает сомнения, что искусный бомбардир – это сам государь-император Петр Алексеич, собирающийся в поход против персов, дерзко обижающих братский азербайджанский народ. И в результате этого похода, с помощью олонецких пушек, великая Россия освободит угнетенных азербайджанцев, диких кавказцев и прочих армяшек… Просто и доходчиво!
Завод тоже был хорош, мастера умелы, а работники расторопны. Петр, надев фартук, бегал по цеху, пил квас из бадьи, давал советы, учил, проверял, шутил, ругался и дрался. Старый Брюс еле за ним поспевал. Щека царя более не дергалась, физическое напряжение и деятельная суета привели его, как всегда, в хорошее расположение духа. Он забыл о своем плане поить рабочих водой из-под коряги, он раскраснелся, он любовно глядел на Брюса блестящими круглыми глазами. Перед тем, как собственноручно пробить летку и пустить металл, он пожелал непременно подняться на домницу по крутой и узкой, с редкими деревянными ступеньками лестнице. Брюса обдало жаром: он не предусмотрел такой возможности, ему и в голову не пришло укрепить истертые, разболтанные планки. Однако прямо призывать Петра к благоразумию было бесполезно, и Брюс знал это.
– Лесенка эта предназначена для людей мясных, – осторожно заметил Брюс, – а вы чугунный, Ваше Величество: тут во всем заводе никого нет с вашим весом, и, по физическим законам…
Поставив ногу на нижнюю ступеньку, Петр огляделся – он, действительно, был длинней других людей чуть ни на целую голову. Один только Вытащи, привычно подпиравший стенку у дверей, был ему почти вровень, а в плечах еще и пошире.
– Эй, Вытащи! – позвал царь. – Слетай-ка мигом вон туда, наверх! Ну, живо!
– Да потопай там, потопай! – озабоченно добавил Брюс.
Снизу они, задрав головы, смотрели, как Вытащи с опаской ставил ноги на шаткие ступеньки. Наконец он поднялся на тесную, в три доски, площадочку и, как ему было велено, потопал там и попрыгал.
– Тут жара, Ваше Величество! – сообщил он радостно, как будто сделал важное открытие, которым можно гордиться.
– Теперь слезай! – нетерпеливо крутя головой, сказал Петр.
Первая же планка, на которую шагнул Вытащи, хрустнула и подломилась под его тяжестью. Взмахнув руками, он схватился за край домницы, пальцы его соскользнули, и он, изогнувшись в поясе, полетел вниз головой на груду железных брусков, сваленных у подножия печи.
Первым к упавшему подошел Петр, склонился над телом, строго заглянул в залитое кровью лицо. Потом, резко разогнувшись, обернулся, кого-то ища. Перед ним стоял Лакоста, глядел, что-то пришептывая, на Степана.
– Лекаря, Ваше Величество? – отгадывая желание царя, быстро спросил Лакоста.
– Принеси-ка мне из саней мою походную аптечку! – приказал Петр. – А его, – он кивнул на лежащего, – вынесите на волю, темно тут.
Несли на рогоже, с осторожностью: раненый еле слышно стонал, да и спешить было некуда. Люди, оставив работу, шепотом обсуждали происшествие:
– Это он гнилой воды напился на Чертовой кухне, у него голова кругом и пошла!
– Засыпать надо, братцы, корягу и камнем привалить, а воду пустить в болото: пусть течет!
– Молчать, молчать! – покрикивал Брюс. – Без вас разберутся!
От царя ждали чуда, немедленного исцеления. Появление Лакосты с аптечкой еще подбавило веры: блестящий лаком драгоценный сундук с серебряными уголками, со множеством ящиков и ящичков, производил сильное впечатление. Расступившись перед спешащим Лакостой, толпа затем сомкнулась и, вытянув шеи, молчаливо и зорко ждала.
Вытащи лежал у ног царя, на снегу, чуть припорошенном сажей. Он лежал на спине, большое белое лицо, с краю зачерненное кровью, глядело в студеное высокое небо. Ветер рассеял и разогнал тучи, было сухо и холодно.
Откинув крышку аптечки, Петр разложил на ней, как на столике, несколько хирургических инструментов, при взгляде на которые человек испытывает невольное смятение: ножницы, нож, какие-то иглы, зеркальце на длинной ручке. Из плоского хрустального флакона смочив тряпицу, он протер лоб и висок Вытащи, состриг окровавленные волосы и осмотрел рану. Низко нагнувшись, оттянул губы, веки. Потом, удобно уложив в ладони короткий нож с серебряной рукояткой, одним длинным легким движением распорол ему кафтан вместе с нательной рубахой от горла ниже пояса.
– Ближе, ближе подходите! – не оборачиваясь, крикнул он толпящимся. – Сейчас будем анатомии смотреть!
– Он жив еще, Ваше Величество! – не спуская глаз с полоски светлой стали в царской руке, прошептал Лакоста. – Он дышит!
– Почти не дышит, – приблизив ухо ко рту Вытащи, удостоверился Петр. – Остатки воздуха выходят… Полезный он был человек, и смерть у него полезная. Каждый должен свою пользу приносить – он, ты…
Скользнув лезвием по коже, он тотчас же, вторым проводом расширил и углубил надрез и вскрыл брюшину. Над черной щелью поднялось облачко пара и рассеялось.
Окостенев от ужаса, Лакоста продолжал глядеть туда, где только что витало над телом это страшное облачко, а потом заглянул в щель, как в гибельную трещину, открывшуюся у него под ногами. Петр запустил руки в щель и, тихонько покряхтывая, раздвигал ее стенки. Нащупав что-то гладкое, выскальзывающее, он потянул это, подрезал ножом, дернул с яростью, вырвал и выпрямился с кровавым шматком в руке.
– Что это? – оборотясь к толпе и показывая, спросил он.
Толпа молчала оглушенно.
– Эй, ты! – вызвал он тощего парня с красными насморочными глазами, стоявшего поближе. – Отвечай: что это?
– Кишка, Ваше Величество, – шмыгнув носом, неуверенно сказал спрошенный.
– Дурак! – крикнул царь. – Печень это! Знать надо!
Положив шматок на снег, он снова погрузил руки в щель, тянул и дергал.
– Это – что? – потряс он тяжелым красным мешочком перед лицом плешивого деда в армяке.
– Да кишка! – дерзко глядя, сказал дед. – Чему ж в брюхе-то быть!
– В брюхе, помимо кишок, много чего помещено, – обращаясь к толпе, объяснил Петр. – А тебе, дед, пятьдесят розог за нерадение… Ну, дальше!
Дальше была селезенка, обрывок легкого, сердце.
– Это – что?
– Сердце, Ваше императорское величество!
– Верно. Стакан водки тебе.
Был желчный пузырь, желудок, прямая кишка. Были розги, была водка. Было полезное, в сущности, учение.
Запихнув требуху обратно в щель, Петр вытер руки о подол фартука, сказал:
– В анатомиях каждому надлежит разуметь непременно.
Городской голова Леонтьев по праву считался могучим едоком, но отнюдь не гурманом: для него тетерев был лучше рябчика лишь оттого, что больше. В питье Леонтьев тоже понимал толк, особо отмечая брусничную водку.
Выспросив у Брюса о застольных вкусах царя все, что было возможно, Леонтьев решил блеснуть не только количеством ед, но и игривым остроумием: посреди мяс и рыб, каш и солений водружен был на возвышении, на чеканном татарском блюде олешек с позолоченными рогами и копытцами. Раскоряченные ножки зверя были уперты в борта блюда, голова наклонена, морда чуть притоплена в бадейке с вином. Серебряная цепочка тянулась по столу от олешка к цареву месту, и, по замыслу хозяина, Петр должен был дернуть за эту цепочку в надлежащий момент.
Намерзшиеся на заводском дворе гости рассаживались с шумом, пялили глаза на забавного олешку, а потом поглядывали на царя: как ему нравится. Петр, приняв от хозяина чару брусничной, выпил залпом, закусил соленым груздем и, не сомневаясь в назначении цепочки, собрался было дергать: люди ждали, что из этого выйдет, да и ему самому было любопытно. Городской голова, приготовивший речь и намечавший дерганье лишь к середине обеда, поспешно вскочил на ноги.
– Ваше императорское величество! – начал Леонтьев. – Этот лесной, можно так сказать, князь принес вам, Великому государю, в своем нутре, то есть, значит, в естестве…
Не слушая хозяина, Петр потянул за цепочку. Брюхо оленя раскрылось, на блюдо посыпались обжаренные в масле потроха: сеченые кишки, почки, сердце. Гости приглушенно, восторженно загомонили, зашептались.
А Лакоста, глядя на дымящуюся груду, видел перед собою своего коллегу Степана Вытащи, и царя Петра не с цепочкой, а с лекарским ножом в руке. «Сегодня – его, завтра меня, – горестно твердил про себя Лакоста. – Этот гениальный безумец всю Россию распотрошит, как несчастного Степана, чтоб посмотреть, что там внутри… Чертова кухня! Господи, помилуй!»
Гости пили, ели, чавкали.
Довольный хозяин ловко сдирал с жареного оленя пятнистую шкурку.
Назавтра, накануне отъезда, Лакосту позвали к Петру, в сани. Петр лежал, закинув руки за голову, на кровати, на медвежьем одеяле. В экипаже пахло свежей хвоей и было тепло: медные грелки только что наполнили кипятком.
– Я за тобой вчера смотрел, – сказал Петр, указывая Лакосте место рядом с собой. – Что-то ты, шут, грустный!
– Я старый и жалкий, – сказал Лакоста. – И потом, я никогда не слыхал о веселых шутах.
– Это как же? – Петр чуть приподнялся, чтоб лучше слышать.
– Шут должен быть смешным, а не веселым, – сказал Лакоста. – Кабысдоха я бы тоже не назвал веселым человеком.
– Ну, Кабысдох был не человек, а так… – сказал Петр. – А – Вытащи?
Лакоста промолчал, глядя в сторону.
– Сперва анатомии, потом вдруг эти оленьи потроха – как ты это понимаешь? – еще привстав, глухо спросил Петр.
– Совпадение, – помедлив, ответил Лакоста. – Просто неприятное совпадение.
– Врешь, – снова ложась, сказал царь. – Ты говорить боишься…
– Боюсь, – кивнул Лакоста. – Шутам это не запрещено.
– Вытащи тоже боялся, – сказал Петр задумчиво. – Ты боишься. Это разумно… Но как же это все-таки так получилось: анатомии, а потом вот жареные потроха. А? Не бойся, говори.
– Я боюсь, но я скажу, – сказал Лакоста. – Если б вы, Ваше Величество, не устроили демонстрацию человеческих потрохов, то и вид оленьих вас ничуть бы не смутил. И Степан Вытащи, может, был бы сейчас жив.
– Ты этого не можешь понимать! – перебил, прикрикнул Петр. – Я медицинам обучен, а ты нет… Вытащи все равно бы умер, он шею себе свернул… – Петр вдруг приподнялся на локте, придвинулся к сутуло сидящему Лакосте: – А ты знаешь, скольким он шею свернул? И – кому? Вот и его время пришло.
– Тогда олений рубец – просто закуска, и больше ничего, – покривив губы, сказал Лакоста. – Как пирог или каша.
– А если б он жив остался, – продолжал Петр, – он многих бы еще в смерть ввел. Может, и тебя…
– У нас есть такая поговорка, – еще сильней сгорбившись, сказал Лакоста: – «Не гляди долго на солнце и на царя». После Прута, Ваше Величество, я каждый день живу как бы по счастливой ошибке: мне не полагается, а я все живу, Я тогда, на той проклятой речке, слишком близко подполз к царю. Это было страшно, но прекрасно; и я должен был превратиться в пепел. И не я один.
– И не ты один… – то ли подтвердил, то ли просто повторил Петр. – На той речке новая трава выросла, и тропа шафировская затянулась: никаких следов нет. И турки ниже травы и тише воды в той речке, а Россия во славе и величии.
– А русские люди? – подал голос Лакоста. – Что им в этом величии? Новые сапоги? Или лишний кусок мяса?
– Вот ты умный, вроде бы, человек, а все со своей кочки видишь! – усмехнулся Петр и вольно откинулся на подушки. – Россия – алмаз, а людишки – глина. И царь, вождь лепит из этой глины что хочет и что может: сколько надо образцовых солдат, сколько надо ученых людей или там купцов… А в чем людишкам ходить, тоже мне решать: солдату удобней в башмаках, а с крестьянина и лаптей довольно. И от того, кто в чем ходит и что ест – от этого российский алмаз ни крупней не станет, ни блестящей.
– Вождь людей на войну ведет, – угрюмо возразил Лакоста, – вождь без войны не живет…
– А кто б мне без войны Санкт-Петербург дал, Азов? – с иронией в голосе спросил Петр.
– А – зачем? – чуть слышно сказал Лакоста. – Ради алмазной России, ради национальных интересов? Но национальные интересы – это и есть новые сапоги и лишний кусок мяса. Разве русские люди стали счастливей оттого, что их царь завоевал Азов и Санкт-Петербург? Степан Вытащи, верный слуга, – стал счастливей?
Петр засопел сердито, спросил, помолчав:
– Ты сколько лет в России живешь?
– Скоро двадцать пять лет, Ваше Величество, – сказал Лакоста.
– А – чужой! – крикнул Петр. – Все по своей жидовской мерке меришь! Был бы у тебя истинный царь и отечество, ты бы по-другому думал, а так от твоих разговоров один вред и смущение умов… Уходи!
В повозке теперь стало просторно: молчаливый повар жался к стенке, глядел из тулупа испуганно, а Степана везли в открытых розвальнях, в дощатом гробу. Покосившись на повара, Лакоста поставил ноги на Степанов ящик и закрыл глаза. Он предполагал, что послепрутская счастливая ошибка будет исправлена сразу же по возвращении в столицу. Только одно необходимо успеть сделать: отвести Яшу к Шафирову. Во дворце вице-канцлера найдется место для внука Яна Лакосты… Впрочем, как это сказал государь Петр Алексеевич: «И не ты один».
12
НА ПЛАХЕ. 1723
Из окна подвала Преображенского приказа – узкой зарешеченной щели, выходящей во внутренний двор, – залитый мочой лежалый снег казался Шафирову свежим хлебным мякишем, а огрызок серого февральского неба – драгоценной орденской звездой, недостижимой. Сидя на цепи, в холодном грязном подвале, Петр Павлович никого не проклинал и никого не прощал; он думал о том, подписал ли уже царь помилование и еще о том, что эта дурацкая медвежья цепь, в сущности, совершенно ни к чему: он и без цепи никуда бы отсюда не делся.
Петр Павлович Шафиров не был ни бит, ни пытан. После ссоры с Меншиковым в Сенате и учреждения по этому случаю специальной Следственной комиссии грядущая судьба вице-канцлера словно бы вовсе утратила связь с его словами и поступками и направлялась исключительно внешнею злою силой. Шафирова никто ни о чем всерьез не спрашивал и не слушал его объяснений, как будто и так все с ним ясно – Тому, Кому Надо. А Тот, Кому Надо, вернувшись из Персидского похода, шафировские поздравления выслушал холодно и рассеянно, а меншиковские – с доброжелательной улыбкой. И из этого следовали выводы неутешительного свойства.
Сидя на цепи, на гнилой соломе, Шафиров размышлял над тем, что не Меншиков истинная причина его несчастья и уж, конечно, не этот баран Скорняков-Писарев, сенатское обер-прокурорство получивший за то, что быстро скакал в Суздаль и успешно справился там с Евдокией Лопухиной в ее монастыре. Гришка Скорняков-Писарев, балбес, даже не понимает, что эта история и ему боком выйдет: это он Суздальский розыск вел на месте, он поневоле нос свой сунул в царские дела – теперь вот нос ему и отрубят, и хорошо бы не вместе с головой. А Меншиков, будь он проклят, только огня к пороху поднес своим доносом: Шафиров, мол, в Сенате ругался матерно, и что он вор, и брату своему жалованье за полгода уплатил незаконно… Ворочаясь на соломе, Петр Павлович искренне сожалел о том, что в свое время не задушил Алексашку насмерть – тогда, в Китай-городе, в Панских рядах: было б одним босяком и разбойником меньше на белом свете. Тогда не постарался, не додушил – и всю жизнь за это расплачивался, а теперь вот пойдет на плаху. Конечно, дивно было бы уволочь светлейшего князя с собой; но не пришло еще его время.
Время это выбирает и пальцем указывает Петр: «ты», «ты». На колесо, на плаху, в ссылку. И какая разница, что тому выбран за повод – украл миллион или родному брату переплатил три копейки. Вон Богдашка, Скорнякова-Писарева брат, при межеванье Почепских земель приписал Меншикову немало чужих угодий – ну, и что? Шафиров донес государю о злодействе – а где награда? Вот она, награда: цепь да плаха. Знает Петр Алексеич, великий государь, что после того доноса еще пуще возненавидел Меншиков Шафирова, только и искал его погибели – а назначил в Следственную комиссию Головкина, тоже наипервейшего врага. Да разве Головкин забыл ту прутскую проклятую ночь, когда Шафиров так недипломатично брякнул в лицо своему начальнику: «В эту ночь я спас Россию! Я!» Вот и спас… Конечно, голову ему не снесут, Петр отменит казнь, эта цепь и эта вонючая солома – только декорация к спектаклю под названием «Торжество справедливости». Автор пьесы – царь. Картины: следствие, суд, расправа. А что ждет главного актера после конца этой дурацкой и пошлой комедии? Нищета, позор, смерть. И место в истории, незыблемое, как зазубрина на топоре… Что за чертовщина, при чем тут топор! Царское помилование, верно, уже лежит в кармане у Макарова.
Уверенность в помиловании была нерушима. Без этой уверенности Шафиров давно бы принялся по-волчьи грызть железо, биться головой о стену. Ему, Шафирову, Петр не отрубит голову, не лишит его жизни! Приговор – не более чем фарс!.. Но так трудно было дожить до утра эту последнюю перед казнью ночь.
Жену с дочерьми, уверив их в благополучном исходе дела, Шафиров еще позавчера отослал в Санкт-Петербург: так или иначе, позор ему предстоял, и он не желал, чтобы близкие видели его позор. Теперь, посреди последней ночи, он сожалел о том, что нет с ним родной души. Думая о своем собачьем одиночестве на этой проклятой соломе, он почувствовал теплую тяжесть в глазах, вытер слезы рукавом худой шубейки и выругался устало: «Ну, разнюнился! Пальцем не тронули, свидания дают – все будет в порядке!» Громыхнув цепью, он прилег на бок и попытался уснуть, чтобы убить время. Но сон не шел к нему. С кулаком под головой он лежал на заплеванном полу – но почему-то не чувствовал ни сырого холода каменных плит, ни давящей тяжести ошейника, как будто это жирное холеное тело уже не было его телом и не имело никакого отношения к его душе. А душа была в масляном лунном луче, косо падающем в зарешеченное оконце, и в зарослях прутского кустарника, и в библиотеке санкт-петербургского дворца, и на еврейском смоленском кладбище, и в Панских рядах Китай-города – повсюду. И здесь, на цепи, тоже.
– Петр Палыч, дорогой!
На пороге, согнувшись в дверном проеме, стояла Анна Даниловна Меншикова.
– Меня Антоша послал, я и поехала, – зачастила Анна Даниловна, с ужасом оглядывая подвал. – Господи, Боже мой!.. – Подойдя к Шафирову, она тихонько заплакала: в растрепанном парике, на цепи он был похож на старого облезлого пса со слезящимися глазами.
– Антоша сказал, что все будет хорошо! – всхлипывая, сказала Анна Даниловна. – Он сказал, что сам приехать никак, ну никак не может…
Это Шафиров мог понять и принять без боли. Он и сам, окажись Дивьер на его месте, не поехал бы. И жену бы, пожалуй, не послал.
– Меня оболгали, – сказал Шафиров, садясь. – Анна Даниловна, милая, вы должны это знать: меня оболгал и погубил ваш брат.
– Знаю! – прошептала Анна Даниловна и махнула рукой. – Мне Антоша все рассказал, как было! Александр Данилыч поганый и на нас когти точит, и на нас…
– Он мне крикнул, – возвращаясь к той сцене в Сенате, закипая, продолжал Шафиров: – «Ты меня, смотри, не задуши!» Это чтоб я его не задушил… – Он усмехнулся, мечтательно покачал головой. – А я ответил громко, чтоб всем слышно было: «Это ты можешь всех нас убить!» И это правда, все это знают.
– Правда, правда… – чуть слышно подтвердила Анна Даниловна. – Только вы потише, Петр Палыч, дорогой, Антоша тоже про это всегда тихо говорит.
– Да, да, вы правы… – согласился Шафиров и тут же снова повысил голос, задвигался, забренчал цепью: – А Скорняков взятку от князя получил, сто дворов, и Скорняков, вор, мне тридцать дворов из тех ста предлагал, чтоб я глаза закрыл на Почепское дело! А я не согласился, потому что они все враги мне! Меня, Шафирова, хотели вывести из зала! Меня! Дежурный офицер хватал меня за грудки!
– Тише, Петр Палыч, тише! – Анна Даниловна поглаживала Шафирова по плечу драной шубейки. – Поберегите себя, все обойдется!
– Я знаю, – сердито пробормотал Шафиров, – знаю, что обойдется. А что будет с моими дочерьми? У меня все заберут, кроме остатка жизни. Это – расплата, награда за труд.
Он замолчал. Жаль все же, что не пришел Дивьер. Ему – да, а Меншиковой не стоит говорить, что думаешь: «Награда за Прут». Да она и не поймет. Дивьер-умница бы понял, и еще Лакоста. Но Лакоста в Санкт-Петербурге, его сюда, в Москву, из его избенки не выманишь. Но и его черед, пожалуй, может прийти: «Награда за Прут».
Шафиров повел плечом, Анна Даниловна убрала белую руку. Хорошо бы снова остаться одному, и закрыть глаза, и скользнуть вверх по этому холодному лунному лучу – в Смоленск, и в уютный дворец Голштинского курфюрста, и в санкт-петербургскую библиотеку с мягкими кожаными креслами.
Он не слышал, как вышла Анна Даниловна, не знал, сколько времени спустя после ее ухода появился Лакоста.
– Это вы… – очнувшись, сказал Шафиров. Стоя перед ним, Лакоста пресек своим черным гибким телом лунный луч, и связь с миром прервалась, и Петр Павлович снова очутился в подвале, на цепи. – А я, знаете, хотел, чтоб вы пришли. Именно вы.
В прыгающем свете свечи щетина на щеках Лакосты серебрилась. Его глаза в темных подбровных ямах были похожи на жухлые табачные листья.
– Я подумал, что, может быть, это вам будет приятно… – пробормотал Лакоста. – И я… ведь вы понимаете…
– Послушайте, – насупился Шафиров, – самое страшное мне не грозит. Царь, наверняка, уже подписал помилование.
– Слава Богу! – крылато взмахнул руками Лакоста. – Слава Богу!.. Это ведь вы точно знаете?
– Постольку, поскольку еще существуют на свете точные понятия… – снисходительно усмехнулся Шафиров. – Шафировскую голову не так-то легко отрубить. И, говоря между нами, государь, с его вкусом ко всяким забавным затеям, мог бы меня посадить и на золотую цепь.
– Какой вы мужественный человек, – помолчав, задумчиво сказал Лакоста. – Я бы, пожалуй, не смог так шутить…
– На моем месте, вы хотите сказать? – подхватил Шафиров. – Но почему же? Если вы говорите об этом месте – то это дело временное: до завтра. А настоящее мое место, – Шафиров разогнулся, лицо его приняло холодное и надменное выражение, – я обживал два десятка лет. Другой давно бы поскользнулся, шею себе сломал, а я держался. И вот мне – мне! – подсовывают какого-то офицеришку, семенем то ли скорняка, то ли писаря… Что это вы улыбаетесь?
– Я радуюсь за вас, – сказал Лакоста. – После всего пережитого у вас еще есть силы так кипеть!
– Вы знаете, – продолжал Шафиров, – что этот подлец мне осмелился заявить? Что я, барон Шафиров, – сын боярского холопа Шаюшки, притом жидовской породы! Это он мне…
– Но ваш отец, благословенна его память… – вставил Лакоста.
– Моего отца звали Пинхус, или, по-русски, Павел, – строго сказал Шафиров. – И какое, скажите вы мне, до этого дело скорняку-писарю? Он мне говорит «жид», как будто я какой хромой или кривой, и вот он над этим смеется. А я и не кривой, и не косой. Я такой же, как они все. Вы меня понимаете?
– Нет, Петр Павлович, не такой вы, как все, – тихо, убежденно сказал Лакоста. – Это вы только хотите так думать, и вам кажется, что так оно и есть. Для приятелей ваших вы еврей, а для неприятелей – жидовская морда.
– Но я крещен! – перебил Шафиров.
– Ну и что! – пожал плечами Лакоста. – Какое это имеет значение для Скорнякова-Писарева? А для вас, между нами говоря, это имеет значение? Ну, служебное: без этого вы не смогли бы стать тем, кем стали.
– А для вас? – покосился Шафиров.
– Никакого, – сказал Лакоста. – Ну, так вы не раввин. Но вы настоящий, чистокровный еврей, чудом спасшийся от страшной смерти.
– Но Скорняков-Писарев, – снова запылал, разгораясь, Шафиров, – он меня ненавидит и как жида, и как крещеного еврея. Это же, в конце концов, просто бессмыслица! Разве я не прав?
– Почему мы всегда ищем любовь к себе как к евреям, а не просто как к людям! – не отвечая Шафирову, сказал Лакоста. – «Русские не любят евреев». «Немцы любят евреев»… Ведь если какой-нибудь Мойше разбойник и вор, то он разбойник и вор не потому, что он еврей, а потому, что он плохой человек. А если Мойше герой и все его любят – значит, он хороший и мудрый человек, и его еврейство здесь ни при чем.
– Это только мы понимаем, – с сомнением в голосе сказал Шафиров.
– Если бы понимали! – вздохнул Лакоста. – Если б мы это понимали, то отделались бы от многих неприятностей. С одной стороны, мы хотим быть, как все, а с другой стороны, боимся этого, как огня… Вот Петр Алексеевич сказал мне: «Был бы у тебя истинный царь и отечество, ты бы по-другому думал». Пока у нас нет своей земли, мы не можем быть, как все. А если у нас появится своя земля и свой царь – мы станем, как все, но тогда мы перестанем быть евреями… Вы стали бы служить шутом собственному царю – такому же еврею, как вы? А вот я, Петр Павлович, не уверен в том, что стал бы.
– Это вы к чему? – глухо спросил Шафиров.
– Просто вспомнил ваши же слова, – сказал Лакоста: – «Все мы шуты Великого Петра, и Его Величие на нашем шутовстве держится».
– Да, да, – опустив, сколько позволял ошейник, голову, сказал Шафиров. – И тут никакой разницы нет, жид ты или скорняк-писарь. Меншиков Алексашка русак-русаком, а и его черед придет, и я, даст Бог, еще над ним посмеюсь. Здесь ведь дело не только в Почепе! – Шафиров снова поднял голову в кудлатом парике и кричал. – Здесь ведь глубже! Это он, Меншиков, на сальном и рыбном промысле в Архангельске проворовался и меня хотел за собой потянуть! А я не дался, я сухим вышел из воды! – Он кричал и тряс головой, и не манил его больше лунный луч, и присутствие Лакосты не связывало – он о нем забыл. – Светлейший князь – вор, он с малых лет воровал! Он думает, что меня подмял, победил – дудки, хрен тесовый! Он мне тридцать дворов… Да я и за тыщу дворов ему не продамся, у меня у самого три тыщи есть – я лучше на его позор, на смерть его поганую полюбуюсь! Меня-то помиловали, а ему-то, псу, милости не будет!
Отбушевав, дыша тяжело, Шафиров повернулся к Лакосте и не обнаружил его рядом с собой, на его месте. Тогда он, зябко поведя плечами, поплотней закутался в шубейку и прислонился спиной к стене.
Светало.
Сани были простые, черные. Сена в них набросали щедро, и сидеть было почти удобно; и Шафиров счел это добрым предзнаменованием.
Сильная лошадь волокла сани из Преображенского мимо заставы, по утренним улочкам предместья – к Кремлю, к Лобному месту. На взлобке, по всей Красной площади и за ее рубежами густо толпился народ: не какому-то бродяге, не разбойнику с большой дороги будут сегодня рубить голову – вице-канцлеру Шафирову. Ради такого дела стоит и мерзнуть, и толпиться. И хотя все казни, как и все бабы, почти ничем не отличаются друг от друга – хочется, ой как хочется честному народу отведать барской бабьей сладости, поглазеть, как катится голова с плеч барона или князя! И мясо одно, и кровь одна, а – интересно…
Проезжая мимо Китайгородского рынка, откуда начиналось столпотворение, Шафиров завозился в сене, сердито заворчал: толпитесь, дурачье, толпитесь! Вам придется обмануться в ваших надеждах: баронская голова останется на плечах. Ну, что нужно тут этому кривобокому недоноску, проталкивающемуся с каким-то грязным мешком с рынка на площадь! Или вон той сопливой бабе с ребенком на руках – она что забыла, что оставила на площади? Крови ей захотелось понюхать, барской крови! Торговала бы себе в рядах своим тряпьем, или пирогами, или чем там… Он вдруг вспомнил лавку купца Евреинова, и себя за прилавком, и улыбнулся. И, увидев улыбку на лице приговоренного к смерти, сопливая баба вскрикнула высоким голосом и вылупила глаза.
Чем ближе к эшафоту, тем больше становилось солдат. Покрикивая и помахивая бердышами, они теснили толпу, освобождая дорогу для саней и конвоя. Два священника с крестами в руках шли по сторонам саней, не глядя на приговоренного. Палач в кумачовой рубахе праздно стоял, прислонившись плечом к каменной стенке эшафота, и высокомерно глядел на людей.
Сани остановились, и Шафиров, поддерживаемый двумя солдатами конвоя, тяжело выбрался в снег. Парик съехал ему на левое ухо и, прежде чем двинуться к эшафоту, он его аккуратно поправил двумя руками. В сочетании с худой шубейкой высокий роскошный парик выглядел нелепо.
На эшафот вела узкая крутая лесенка, и Шафиров с кряхтеньем по ней поднялся. Рядом с плахой стоял уже секретарь Сената Макаров – тот, что должен был читать приговор и помилование. Шафиров попытался поймать его взгляд, прочитать в нем это «государевой волею помилован», но Макаров глядел пусто, мимо. Палач, цыкнув слюною сквозь зубы, провел ребром ладони по плахе, сметая с нее свежий снежок. Толпа примолкла, тысячи глаз нацелены были на осужденного.
Макаров шагнул вперед с развернутой грамотой в руке.
– Виновен в ослушании… – невнимательно слушал Шафиров, – в противном толковании, в нарушении порядка и благопристойности в Сенате… в присвоении знатной суммы… в нарушении установленного порядка… в необъявлении в предписанный срок беглых крестьян…
Сухой снежок падал с неба, засыпал помаленьку плаху, Шафиров подумал о том, что приятно, должно быть, прижаться разгоряченным лицом к холодному дереву.
– За сии преступления, – слушал дальше Шафиров, – приговорен к лишению чинов, достоинств, имения и самой жизни через отрубление головы.
Свернув грамоту, Макаров отошел в сторону. Изобретателен государь Петр Алексеевич, ах как изобретателен! Вот сейчас бы и объявить помилование – так нет, это ведь так вышло бы скучно и недраматично! Куда острей довести все до самого последнего момента, до вздоха толпы, до палача, танцующего с топором в руке! Чем-чем, а эффектом государь Петр Алексеевич никогда не поступался…
Помощники палача содрали с Шафирова шубейку, сдернули с него парик. Теперь перед народом стоял не вице-канцлер барон Шафиров, а плешивый старый еврей, на коротких ногах, безобразно толстый. И это тоже было интересно.
Подойдя к плахе сбоку, Шафиров с трудом опустился на колени и положил голову на срез. Затянувшаяся все-таки комедия! Запорошенное снегом дерево холодило щеку. Что же молчит Макаров? Сколько, Господи Боже, это еще будет тянуться!
Помощники палача набросились молча, схватили, повалили на приставленное к плахе бревно. Лежать на бревне было неудобно, мешал живот. Один из помощников сел на вытянутые ноги Шафирова, на щиколотки. Краем глаза Шафиров видел Макарова и как он подал знак палачу. И, распластанный, придавленный, Шафиров в этот миг понял, что помилования нет, что Макаров дочитал грамоту до конца. Еще он увидел ноги палача, легко пританцовывающие. Потом ноги застыли на месте, и палач, замахиваясь, чуть привстал на носки. Выдох толпы совпал с выдохом палача: «Кха!» Шафиров не почувствовал боли, только услышал тупой и страшный хряск топора. Удивительно было, что картина перед глазами Шафирова: круглый край плахи, часть эшафота и люди внизу – не изменилась, а только утратила резкость и поблекла. Звуки же доносились до него, как сквозь вату.








