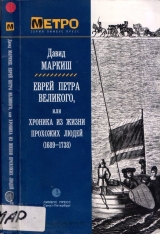
Текст книги "Еврей Петра Великого (Роман)"
Автор книги: Давид Маркиш
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
5
ВЕСЕЛЫЙ ОСТРОВ. 1703-1704
Но пора поговорить о народе!
– А что о нем говорить? Народ – он и есть народ.
– Строительство потребует десятки тысяч душ.
– Десятки! А сотни не угодно ли?
– Тут полно чуди. Вот и надо их выловить и сюда свезти.
– Чудь! Они нашего наречья не понимают и кишкой тонки.
– По кишечной части никто не устоит против русского мужика.
– Верно заметил, Ваше превосходительство: русский мужик – дурак отличный. Такого во всем свете не сыскать.
– Пора, господа, пора поговорить о народе.
Дивьер, сидя в углу комнаты, в стороне от стола, ухмыльнулся насмешливо. Что это значит – народ? То серое месиво, что вчера из-под палки взялось возводить пятый крепостной бастион? Ивашки да Агашки? Или этот гусь крашеный, Алексашка проклятый Меншиков? Вон сидит, развалился, ножку за ножку заложил: «По кишечной части…»
Меншикова Дивьер не то чтобы ненавидел – но опасался всерьез. Попытка посвататься к Анне окончилась неудачею: на жениха спустили собак и слуг, и только выдернутый из тына кол да быстрые ноги спасли его от растерзания. Дивьер знал, что приказал хозяин, спуская дворню: «Бить до смерти!» Знал – и все же не ненавидел. Ну можно ли ненавидеть бревно, свалившееся тебе на ногу! Изрубить его можно на полешки и печку протопить с пользою… Но Меншикова нельзя было ни рубить, ни резать – за это царь оторвал бы голову. А посему Алексашку следовало опасаться, как змеи в траве: он ведь тоже этого не забыл: «Бить до смерти!» – а если и забыл, то вспомнит еще не раз. Дивьер ему напомнит, да и Анна.
Анна имела круглое пухлое лицо и голубые, чуть водянистые глаза, всегда как бы чем-то удивленные. Тонкая ее и шелковистая кожа оставалась теплой даже в самую скверную невскую погоду, и это было приятно и волнующе до тяжести в коленках. Ее любимым словом было «ой!»: «Ой, Антоша!», «Ой, батюшки!», «Ой, нечистая сила!» Антуан Дивьер решил на ней жениться, во что бы то ни стало.
Сидя в углу комнаты, в царевом домике на Веселом острове, что в устье реки Невы, он ждал прихода хозяина. Петр должен был вот-вот прибыть; отпустив своих людей, он задержался на строительстве крепости: бродил там, выдирая ноги из ледяной грязищи, вокруг бастионов.
Перевод из Москвы в заложенный полгода назад Санкт-Петербург Дивьер воспринял как повышение по службе: здесь он отвечал и за сыск, и за порядок, и за само строительство нового города. И хотя генерал-губернатором сюда был послан все тот же проклятый Алексашка – и в этом Дивьер усматривал несомненную свою удачу: Анна жила при брате.
– Назло шведу построю город и порт под боком у него, – сказал Петр, объясняя Дивьеру его будущие обязанности. – Санкт-Петербург, российский Амстердам… Знаешь, почему такое название дал?
– В честь святого апостола Петра, – не моргнул глазом Дивьер.
– Смышлен ты, Антон, – усмехнулся царь. – Быстроумен.
Одним быстроумием, однако, не справиться было в городе Святого Петра, на Веселом острове. Работный люд ни за какие коврижки не желал ехать на край земли, в гнилые болота. Солдаты, возводившие крепостные стены, роптали и бежали: лучше без ноздрей в Сибири сидеть, чем здесь лежать в яме. Не помогала ни тяжелая рука Дивьера, ни порки, ни казни. Все чаще вспоминал Дивьер полезный опыт пиратского острова Святого Младенца.
– …Государь постановил – наше дело слушаться, – доносилось из-за стола.
– Своими-то руками город не построишь – людишки нужны.
– Да где их взять-то? Своих, что ли, дашь?
Царь вошел стремительно, потирая озябшие красные руки. Подойдя к столу, взял чей-то стакан с вином, выпил длинным глотком.
– Плохо! – сказал, отдышавшись. – Плохо, господа! Если к исходу месяца не заложат шестой бастион, шкуру спущу! Со всех!.. Антон, карту.
Дивьер подошел, на ходу разворачивая карту невского устья.
– Вот здесь, – Петр ткнул пальцем с обкусанным ногтем, – назначено ставить Адмиралтейскую верфь. Здесь – склады и причалы. – Он поднял голову, долбя тяжелым взглядом затылки склонившихся над столом, над картой людей, и повысил голос до крика: – Где это все? Что уставились – в первый раз, что ли, слышите? Крепежные сваи где? Украли? Александр!
– Мин херц… – не подымая глаз, выдавил Алексашка. – Мин липсте фринт… Вон он, – указал на Дивьера, – он не прилежен и из рук вон…
– Позвольте доложить, Ваше Величество, – бесстрастно покосившись на Меншикова, сказал Дивьер. – Крепежные сваи вбиты числом двести сорок девять, одну люди пожгли в костре ввиду сухости дерева. А не видать их, потому что водой накрыло – высока вода. – И, доверительно склонившись к государевой голове, прошептал – но так, чтоб услышать и Меншикову: – Уделите, Ваше Величество, четверть часа для приватного разговора наиважнейшего.
Привыкший к краткости Дивьеровых речей, Петр смотрел удивленно.
– Ну ладно, – сказал Петр. – Останься потом… Дай-ка вина, что ли, – изнутри аж промерз. И закусить чего-нибудь.
Алексашка как сидел с головой, свешенной чуть не до колен, так и метнулся быстрой тенью в кухню: пронесло, кажется, слава тебе Господи! Отрадней всего было то, что неприятный разговор о сваях иссяк как бы сам собой. Весьма неприятный разговор – потому что на прошлой неделе полсотни этих самых свай Алексашка загнал по сходной цене заезжему перекупщику-чухонцу.
А Петр, грохоча по полу ботфортами, прошел в спальню и, затворив за собою дверь, тяжело опустился на кровать. Болело горло, тяжко гудело в висках. Поднеся ладонь ко лбу, царь на ощупь определил: жар. Побаливала и печень, тянуло там что-то и грызло после быстрой ходьбы. Взяв со столика зеркальце в серебряной рамке – давний подарок Анны Монс, Петр открыл рот и долго и придирчиво рассматривал высунутый язык. Язык был чист, и Петр почувствовал к нему некое подобие признательности: хороший, верный язык, не подвел. Удовлетворенно вздохнув, он подтянул поближе к себе походную аптечку – изящный сундучок английской работы, инкрустированный бронзой и украшенный масляной картиной с изображением шлюпки на канале, – и отпер центральный замочек, привычно откинул крышку и боковые стенки на шарнирах. Задумчиво поцокивая языком, он прошелся пальцами по головкам серебряных, вызолоченных внутри бутылочек – их было шестнадцать, каждая в своем бархатном гнезде, – заглянул в блестящую медную ступку. Потом выдвинул один за другим выложенные красным сукном ящички с мазями, облатками, точными весами и хирургическими ножами и зажимами и в нижнем правом, в круглой ячейке, обнаружил искомое: плоскую золотую коробочку, похожую на табакерку, с изображением кобры-змеи на крышке. Открыв коробочку, Петр аккуратно поколупал ногтем содержимое – целебный состав из истолченных мокриц и дождевых червей. Смесь подсохла, затянулась коричневой корочкой. Поплевав в коробочку, Петр тщательно размешал лекарство золотым совочком и, зачерпнув, проглотил не морщась. Это снадобье царь приготовлял собственноручно: лейб-медик Блюменфрост и слышать о нем не хотел, хотя и считал, что здоровью Петра оно не повредит, а в иных случаях даже может вызвать очистительную рвоту.
Заперев аптечку и убрав ключ в кошелек, Петр поднялся с кровати, потянулся всем телом, похрустел пальцами. Подошел к двери, прислушался: в гостиной говорили приглушенно, ничего нельзя было разобрать. Пинком ноги отворив дверь, царь вышел из спальни. На столе, на краю карты, был приготовлен для него бокал ренского и большой кусок вареной говядины на сером оловянном блюде. Петр глянул, двинул бокал:
– Водки с перцем… – и, взяв мясо двумя руками, вгрызся до кости, смачно. – Ну, что скажете, господа?
– Семеро беглых людей поймано, бито, трое умерли под кнутом…
– На Главный склад завезена мука, солонина, а также рыба сиг…
– Солнце рано садится, ночь длинная, жжем костры для освещения ночных работ…
– За последнюю неделю натуральной смертью умерло девяносто четыре солдата по причине кровавого поносу…
– Со вчерашнего дня вода поднялась на три деления, низовые землянки затопило, люди залезли на деревья и там сидели всю ночь до утра…
– Лесорубы работают вполсилы – не хватает топоров…
– Не хватает железных гвоздей…
– Не хватает лопат…
Петр жевал, слушал. Потом локтем отодвинул блюдо с обглоданной костью:
– Антон, останься… А вы идите, идите.
Неслышно шагая, Дивьер скользнул в сени, затворил там и запер двери за ушедшими. Вернувшись в гостиную, царя не застал.
– Иди сюда! – донесся голос Петра из спальни. – И водки захвати – озноб меня бьет.
Петр лежал на своей узкой железной кровати, укрывшись до подбородка меховым волчьим одеялом.
– Садись вон в ноги или на стул, – указал Петр. – Что у тебя за дело такое?
– Для строительства Санкт-Петербурга нужны люди, Ваше Величество, – начал Дивьер, сев на краешек кровати. – Десятки, сотни тысяч людей. Голландский Амстердам строился столетиями, а Амстердам российский мы построим за годы.
– Построим, – сдерживая зубовную дрожь, кивнул головой Петр.
– На острове Святого Младенца, – продолжал Дивьер, – это наш пиратский остров – мы тоже строили крепость и порт. Везли людей со всего света и строили. Там не легче, чем здесь, было: жара страшная, сырость, змеи в болотах. Люди мрут – а мы других привозим, мрут – а мы других… Держим их в бараках, под замком, кормим, конечно, чем есть. Побудка в пять утра, отбой в девять вечера. Кто не работает или плохо работает – тот не ест, ничего не получает. Так построили город.
Петр слушал внимательно, пощипывал ус, выпростав руку из-под волчьего одеяла.
– Нам трудней было, чем вам, Ваше Величество, – продолжал Дивьер после паузы. – Нам людей где было взять? Кто в абордажном бою уцелеет, да при случае негров везли из Африки. А у вас людей – миллионы, и все под рукой. Вот если…
– Ну! – поторопил царь. – Дальше!
– Вот если, скажем, с каждого десятого двора взять по человечку, доставить сюда! Я примерный подсчет сделал: к весне верфь сможем заложить, к концу года закончим. Склады каменные – тут недалеко камень можно прямо из горы резать, гранит. Улицы тоже камнем замостим, чтоб ни грязи, ничего. Мосты построим, дворцы… Я подсчитал – строительство обойдется в копейки, материал – камни, лес – они же будут поставлять, людишки ваши. А им что надо, людишкам? Нары, да черпак похлебки, да барак на пятьсот душ, да замок на тот барак. Ваше Величество, наемных людей мы сюда все равно не загоним, ни за деньги, никак! Жалко, конечно, – каждый четвертый, по среднему счету, не вытянет, – но другого ничего не придумаешь: города на костях стоят.
Петр отпахнул одеяло, встал, налил себе водки. Залпом выпив и утерев рот рукавом, спросил:
– Сколько, ты думаешь, сюда надобно людей завезти?
– Для начала тысяч сто, – сказал Дивьер. – Беря в расчет, что в дороге без мора да побегов не обойтись.
– И к концу года, ты говоришь, будет верфь? – Петр, подойдя близко, смотрел Дивьеру в переносицу.
– Да, – сказал Дивьер, – и склады. Если с весны начнем…
– Что ж, вольность английская тут у нас не к месту, как к стене горох, – не отводя взгляда, сказал Петр. – Если я тебе все это дело в руки отдам, что тебе понадобится, чтоб весной начать?
– Разрешите строить бараки, Ваше Величество, – сказал Дивьер. – Каждый барак – пятьсот душ. Десять бараков – лагерь. И дело пойдет!
Дело пошло. В ноябре заложили бараки, в марте – каменоломню, в мае – верфь и склады, в июне – торговые ряды и дворец генерал-губернатора Меншикова. В январе ушло в землю девять тысяч человечков, а в апреле, по раннему солнышку, – только семь с половиной. Человек – не собака, ко всему привыкает… Зато в июле, в разгар работ, к дизентерии прибавилась болотная лихорадка, и в ямы было сброшено круглых десять тысяч.
В июле же, в сотне шагов от домика царя, сложили из тесовых бревен избушку для шута Лакосты. Дивьер приезжал, смотрел: хорошо ли подогнаны швы, удобны ли комнатки. Строители, завидев Дивьера, сплевывали тайком через левое плечо и осеняли себя крестным знамением: «Нечистая сила! Пронеси, Господи!»
Лакоста с девочкой перебрался в Санкт-Петербург в конце июля. В первый же вечер Дивьер пришел к нему в гости, неся под мышкой конька-горбунка, вырезанного из дерева умельцем Жамкиным из восьмого барака.
Девочке шел шестой год. Хрупкая, с грустными черными глазами и нежным круглым подбородком, она была похожа лицом на отца.
– Держи, – сказал Дивьер, протягивая конька, – хорошая девочка. Как тебя зовут?
– Маша, – сказала девочка.
– Ее ведь иначе как-то звали, а? – спросил Дивьер, обернувшись к Лакосте.
– Да, Ривкой, – улыбаясь, сказал Лакоста. – Но это имя для русских людей звучит, как какая-то козья кличка, а я не хочу портить ребенку жизнь.
– Это родовое имя – Ривка? – как бы вскользь спросил Дивьер.
– Да, – покачал головой Лакоста. – Так звали мою покойную мать… Но что поделаешь!
Потрескивая, горели свечи, девочка играла с коньком. Хозяин и гость долго, молча глядели друг на друга.
– Я так рад, что ты приехал! – сказал наконец Дивьер и тихонько шлепнул Лакосту ладонью по колену. – Я тут работаю как вол, с утра до ночи – и совсем один, совсем один… Теперь нас хотя бы двое.
– Шафиров приедет на той неделе, – сказал Лакоста. – Он порядочный человек и все-таки свой.
– Шафиров приезжает и уезжает, – сказал Дивьер. – Но и он сюда переедет в конце концов. Все сюда переедут.
– Да, так хочет царь, – кивнул Лакоста. – Знаешь, Антуан, он недавно позвал меня, и мы весь вечер говорили о Боге. Это, как ты понимаешь, несколько выходит за рамки моих служебных обязанностей… Так вот, вдруг он говорит: «Антон – молодец, пошло дело в Санкт-Петербурге. Только вот людей гробит без счета. По-божески ли это? Или ваш Бог разрешает?».. О тебе вся Москва говорит.
– Что я – злодей, – с кривой улыбкой продолжил Дивьер. – Я знаю… Но я служу царю Петру, и царь Петр хочет построить город. Вот я и строю.
– Но эти тысячи людей, – словно обороняясь от смерти, поднял руки Лакоста. – У них ведь семьи, дети, может быть… – Он коротко, беспокойно взглянул на дочь.
– Через сто лет потомки будут славить царя Петра за этот город, – сказал Дивьер. – Об этих тысячах никто не вспомнит, никому до них не будет дела. Так устроена эта страна. Да, пожалуй, и не только эта.
– Как ты, должно быть, ненавидишь эту страну!.. – прошептал Лакоста.
– Ну нет! – с живостью отозвался Дивьер. – Поверь мне, нисколько! Она мне просто чужая, совершенно чужая, с самого первого дня. И люди – чужие, за исключением одного, может быть, человека. Я здесь служу, и это все. Если б мне не подходила служба, я бы собрался и уехал в другую страну.
– А куда? – спросил Лакоста.
– Ну, не знаю… – сказал Дивьер. – Нет, в сущности, у меня такой страны, где кругом все были бы свои – как ты, как даже Шафиров. Конечно, ты понимаешь, что вас я не стал бы селить в бараки по пятьсот человек только потому, что царь Петр хочет построить город… Впрочем, есть один такой островок в мире, где я себя чувствовал своим среди своих, хотя я там был один-единственный еврей… Значит, клянут меня в Москве?
– Клянут, Антуан, – подтвердил Лакоста. – Еще как клянут.
– Ну ничего, – сказал Дивьер. – Царю это даже хорошо: чужака клянут, жида, а он сам, вроде бы, ни при чем… А я, знаешь ли, согласен, чтоб на мою голову все шишки сыпались: это, как ты говоришь, входит в круг моих служебных обязанностей, мне за это деньги платят. И за это – тоже… Я тебе тут кое-как обставил домик: стол, кровати, сундук вот для твоих книжек.
– Я тебе так благодарен, – сказал Лакоста. – Там, в Москве, мне тоже было совсем одиноко… Ты прав: они нам все-таки совсем чужие.
– А я, знаешь, хочу тебя попросить о маленькой услуге, – наморщив лоб, сказал Дивьер. – Мне нужно поговорить с одним человеком, с глазу на глаз, хорошо бы завтра после обеда. Город крохотный, сам понимаешь, все видно… А ты бы посидел у меня часика два… Так как?
– Ну разумеется, – понимающе кивнул Лакоста. – Как мужчина мужчине.
– А как ты устраиваешься с этим делом? – понизив голос, спросил Дивьер.
Оглянувшись на ребенка, Лакоста приблизил губы к уху Дивьера:
– Я хожу к проституткам. Так спокойней и, к тому же, никого не надо ни о чем просить.
Анна пришла тайком, в дырявой телогрее с чужого плеча, в простом лиловом платке, накинутом на убранную фонтанжами и корнетами голову. На плече у нее, как велел Дивьер, покачивалось коромысло с ведрами: вроде бы пошла девка по воду.
– Ой, Антоша! – с порога зачастила Анна. – Ты только б знал, только бы знал! Еле вырвалась со всем этим машкерадом! Телогрею у Фроськи взяла, коромысло – в сенях… Александр Данилыч глаз с меня не спускает, подозревает. Он на Котлин уехал, а я сюда, к тебе.
Дивьер, слушая, снял с Анны вонючую телогрею и платок и усадил ее на кровать: сидеть больше было не на чем, стулья он предусмотрительно перенес в другую комнату. Сидя рядом с девушкой, тесно, он медленно поглаживал тонкими пальцами ее белую пухлую щеку, от виска мимо губ к подбородку.
– Ой, Антоша! – наклоняя голову навстречу смуглым, ищущим пальцам, скороговоркой продолжала Анна. – Ты ведь не знаешь, ничего не знаешь совсем – а Александр Данилыч задумал меня отдать за Шереметева племянника Митьку: партия, говорит, блестящая и для фамилии нашей очень подходит. – Глаза ее вдруг разом налились слезами, она обхватила Дивьера тяжелыми руками, прижалась крепко, крепче некуда – не отлепить, только отрубить. – Пойдем к царю в ноги упадем, Антоша! Он тебя любит, он позволит…
– Брата твоего он больше любит, – сказал Дивьер. – Когда он это решил, брат-то твой?
– Да на той неделе, – всхлипнула Анна. – Он и людей уже послал в Москву, и сам собирается… Ой, что делать-то будем, что будем делать?
– Ну, не плачь. – Дивьер слизнул слезу с Анниной щеки, а рукой все поглаживал – затылок, шею. – Не плачь, слышишь? Он – свое, а мы свое. Меня за так тоже не проглотишь, я костлявый… Ты за меня пойдешь, я тебя спрашиваю? Это мне важно знать.
– Что ж ты спрашиваешь, Антоша, голубчик! – Она разомкнула, развела руки. – Да за кого ж я еще пойду? За Митьку, что ли, Шереметева? Да я лучше в монастырь, в реку кинусь! Да он как жаба, Митька этот Шереметев, хуже жабы! Давай сбежим куда-нибудь на край земли, Антоша!
– Не надо никуда бежать, – твердо сказал Дивьер. – Мы здесь все сделаем что надо.
– И в церковь пойдем? – с надеждой, как о далеком чуде, спросила Анна.
– Пойдем, пойдем, – покривив лицо, проворчал Дивьер. – Хоть в церковь, хоть к черту в пасть – какая разница!.. Теперь ты меня послушай хорошо: у нас времени мало остается, надо спешить. Бежать нам некуда – поймают, убьют меня. Мы с тобой ляжем – здесь, сейчас. Тогда от позора отдадут тебя мне.
– Ой, Антоша, что ты такое говоришь! – Анна отстранилась на миг, потом прижалась еще тесней. – Ведь меня Александр Данилыч прибьет! Да ведь и стыд какой, грех, как же можно! Это просто потому что ты ничего тут у нас не знаешь, ты же человек иностранный. Лучше поцелуй меня, Аньку глупую, и пойдем упадем в ножки царю Петру Алексеичу. Нет-нет, что ты, сюда нельзя, лучше вот сюда поцелуй, Антоша, голубчик, и руку-то, руку убери, ручку-то свою убери повыше, а то я не знаю чего сделаю, а нельзя, нельзя, прибьет меня Александр Данилыч, Алексашка противный. Поцелуй меня, поцелуй еще! Ой, ручки-то у тебя какие холодные, погрей ручки-то вот здесь, об Аньку твою, об дурищу. Что ж ты делаешь, Антоша, ой, сил моих нет, ведь порвешь на мне все, бешеный какой! Нет, Антоша, нет, нельзя, грех это, как мы потом людям-то… Нет, нет, отпусти, любимый мой, я ведь и так вся твоя! Ой, больно, мамочка родная!.. Ой, как хорошо-то, Господи…
Конечно, хорошо.
6
ТУРНИР ШУТОВ. 1709
Дивьер опаздывал. С утра к Мытному двору не подвезли ни говяжьего сала для смазки, ни цепей от вольных кузнецов; створы подъемного моста через Мойку, уже собранные, лежали в береговой грязи, как мертвые тела, строительство застряло, и Дивьер опаздывал к Лакосте на урок. Отдавая точности преимущество перед немногими другими человеческими добродетелями, Дивьер, покусывая сухие губы, слонялся между вынужденно бездельничавшими работниками из семнадцатого барака и поглядывал то на перевалившее уже зенит солнце, то на золотые круглые часы – подарок царя по случаю Полтавской победы над шведами. Нерадивые вольные кузнецы более всего выводили его из себя: сиди они в том же семнадцатом бараке – цепи давно были бы на месте.
Помощника своего, Василия Туволкова, Дивьер отправил к Анне и к Лакосте – передать, что задерживается и ко времени не поспеет. Анна, беременная вторым ребенком, быстро переняла по податливости характера мужнины привычки и сердечно ценила такие проявления заботы, как присылку Васьки Туволкова с предупреждением о задержке. Лакосту следовало предупредить тем более: завтрашний турнир скреб ему душу весь последний месяц, да и у Дивьера было неспокойно на душе. Где это видано, чтобы придворный шут подставлял бока под кнут! Какие, действительно, варварские шутки! Сегодня следовало заниматься два полных часа, ответственно, – и вот из-за этих вольных кузнецов весь дневной план пошел насмарку…
После возвращения Васьки: «Госпожа ждет! Шут ждет!» – Дивьер, в последний раз взглянув на солнце и на часы, пришел к выводу, что ждать цепей и сала сегодня уже не приходится. Васька пускай ждет Туволков и людей не отпускает: к вечеру, может, все-таки подвезут.
Выбравшись на пригорок посуше, Дивьер обтряс грязь с ботфорт и зашагал к домику Лакосты. По дороге он заглянул в просторный светлый павильон, сбитый специально для завтрашнего турнира. Там уже все было готово: помост для Председателя всепьянейшего собора, скамьи и столы для гостей, сцена для участников. Помост князь-папы был убран кистями бузины, а сцена – свежим сеном, подсолнухами и ромашками. Заднюю стенку сцены художник Крюгер расписал единорогами, волшебными птицами и лесными деревьями. На левой боковой стенке был изображен шведский король Карл XII в шутовском наряде, верхом на козе, на правой – царь Петр Алексеевич в железных латах и на коне.
Лакосту Дивьер застал в состоянии возбужденнейшем: он то расхаживал из угла в угол комнаты, то вдруг садился, то вскакивал и, размахивая руками, сбивчиво твердил:
– Еврейская судьба… если бы не Ривка… я его заколю…
– Заколоть нельзя! – мягко, как больному человеку, объяснил Дивьер. – Можно только легко ранить, а лучше всего просто разрубить кнут… Ну, давай начинать!
Откинув крышку сундука, Лакоста достал оттуда два морских абордажных палаша и один из них протянул Дивьеру. Тот принял тяжелое оружие с приятной легкостью.
– Держи руку чуть согнутой в локте! – указывал Дивьер, отбиваясь от наступающего Лакосты. – Иди плечом вперед, не открывай грудь!
Неуклюжий на первый взгляд Лакоста двигался с удивительным проворством; его поджарое, сухощавое тело подчинялось неудержимой логике атаки. Маневрируя и защищаясь, Дивьер похмыкивал удовлетворенно. Доски пола гремели. Из соседней комнаты, через порог, выглядывала, прижав кулачки к круглому белому подбородку, девочка Маша-Ривка. Она наблюдала за происходящим увлеченно и без робости.
– Неплохо! – оценил Дивьер, опуская палаш. – Но тебе не следует слишком увлекаться… Отдохнем немного!
Они прошли в соседнюю комнату и сели к столу, и Маша-Ривка поставила перед ними жбан брусничного кваса.
– Дядя Антон, – сказала девочка, – а папочка вас чуть не убил, я сама видела. Он завтра убьет этого дикого русского, ведь правда?
– Т-с-с! – Лакоста поднес к губам палец. – «Дикий русский» – так не надо говорить даже в шутку.
– Но ты сам говорил, что он дикий! – возразила Маша-Ривка.
– Забудь об этом, хорошая девочка, – сказал Дивьер. – Дикий он или ручной – это его страна, а мы все здесь гости. Думать о нем мы можем все, что угодно, но говорить об этом вслух не рекомендуется для нашей же пользы. Ты должна это понять, хорошая девочка.
– Вся эта завтрашняя затея – просто сумасшествие! – потирая лоб большим пальцем, сказал Лакоста. – Это какое-то гладиаторство! В наши дни! И что тут смешного?
– В наши дни… – чуть наклонил голову Дивьер. – А что за разница между нашими днями и Древним Римом? Никакой! Те же господа, те же слуги. Те же цели. То же оружие.
– Да, да, – согласно прижмурившись, сказал Лакоста. – Ничего, в сущности, не меняется. И через сто лет будет то же самое, и через двести. Ну, так появится другой царь, и при нем будет другой еврей для битья.
– Я думаю, раньше было лучше, – негромко, медленно сказал Дивьер. – Так же подличали, так же убивали – но хотя бы не болтали о всеобщем народном счастье и прогрессе.
– Болтали, болтали! – с жаром возразил Лакоста. – Быть того не может, чтоб когда-нибудь об этом не болтали! Это – наследственная болезнь, которая передается из поколения в поколение. И каждое поколение уверено, что именно оно преуспело в этой болтовне больше других. А почему? Да потому только, что сталь его оружия, – он шлепнул ладонью по клинку палаша, – чуть крепче, чем пятьдесят лет назад.
– Старое доброе время, – проворчал Дивьер, – старое доброе время… Когда люди так говорят, у них становится теплей на душе.
– Потому что будущее, – покивал головой Лакоста, – это пропасть, бездна, это – ничего, и в этом ничего ждет тебя смерть – завтра или через год. А старое доброе время – это прошлое, откуда ты кое-как выкарабкался и добрался до сегодняшнего дня.
– Если ты скажешь такое царю, – Дивьер машинально покосился на дверь, – он тебе отрубит голову. Его Бог – это Завтра. Ну, и Сегодня.
– Но я ему говорил! – живо воскликнул Лакоста.
– И что же? – спросил Дивьер с интересом.
– Он вздыхал, – сказал Лакоста. – И сопел. Он умней, чем думают. Он сказал, что будущее – это прошлое, отраженное в увеличительном зеркале.
– Это он сказал? – Дивьер покосился подозрительно. – Это, наверно, ты ему так сказал.
– Ну, может быть, – согласился Лакоста. – Он, во всяком случае, согласился.
– Одного я не могу понять, – сказал Дивьер. – Зачем царю понадобилось подводить тебя под кнут?
– Для эксперимента, – грустно усмехнулся Лакоста. – Он хочет посмотреть, какая кровь у шута Лакосты – красная, черная?.. А ведь он меня почти любит, я в этом уверен.
– Ну, давай. – Дивьер, поднявшись, взял со стола палаш. – Давай продолжать.
Петр явился в павильон за час до начала турнира: ознакомиться, проверить, исправить. Исправлять, к удовольствию царя, оказалось нечего; он лишь велел разгрести сено с середины сцены и собственноручно пририсовал сидящему верхом на козе Карлу забавные усы. Обстоятельно объяснив доставленному бегом художнику Крюгеру необходимость забавных усов для общего понимания картины, царь сел играть в шахматы с Вытащи. Шут-кнутмейстер принял вчера на грудь чрезмерно, поэтому, боясь опоздать на турнир, заночевал в углу павильона, на сене. Шутовская его одежда, надетая с вечера, была несколько измята и запятнана, но выглядела все же весьма празднично: желтые шелковые порты в красную полосу, красная кружевная рубаха с синими рукавами и островерхий бирюзовый колпак с заграничным колокольчиком, коровьим. Более всего на свете Вытащи хотелось сейчас похмелиться, а вовсе не двигать хрупкие фигуры по клетчатой доске. Нервно поигрывая конскими ляжками, обтянутыми полосатым шелком, Вытащи делал одну ошибку за другой и с нетерпением ждал проигрыша.
– Если будешь так же стараться на турнире, – воротя нос от водочного перегара, сказал Петр, – проиграешь не короля, а собственную спину. – И добавил назидательно: – Пить надо для здоровья и удовольствия, а не свинства ради.
– Да я… – дыша в рукав, просипел Вытащи. – Да мне… Да тому жиду Лакосте я все ребра переломаю…
– Запрещаю! – отверг Петр. – Не для казни турнир, а для смеха. За каждое Лакостово ребро два твоих сломаю… Офицер так не ходит, дурья голова!
Вытащи сделалось не по себе. Работать кнутом ювелирно он не умел, а цареву угрозу следовало принимать всерьез.
Приглашенные гости понемногу прибывали и тихонько рассаживались в зале, в задних рядах, не желая мешать царю в его игре. Только князь-папа Никита Зотов, пьяный уже не первый день и не второй, самим своим появлением произвел шум: шедший в оглоблях его тележки верблюд ревел и плевался, подвязанные к спицам колес бубенчики звенели. Впрочем, не помешал царю и Зотов: Петр закончил партию победой и, толкнув Вытащи кулаком в лоб, поднялся из-за доски.
Следом за музыкальной тележкой князь-папы шли, приплясывая и подзуживая друг друга, шуты: толстяк Шанский, тощий и сутулый Шаховской в дьяконовском парчовом стихаре и в картонной золотой митре, сухой Педрилий в римской тоге кирпичного цвета и с пучком розог в руке, сопливый дурак Абрамка под руку с гунявой дурочкой Глашкой. Кабысдох в старинной русской одежде – длинном кафтане, ферязи и высокой боярской шапке – путался под ногами у приплясывающих шутов, щипался и плевался, подражая верблюду князь-папы. Согласно общему плану парада-алле, шел в хвосте процессии и Лакоста, одетый в черную длиннополую капоту, с ермолкой на голове. Редкое еще в то время еврейское традиционное платье вызвало оживление и смех в публике. Смеялся, закидывая голову, и Петр: это была его режиссерская удача, это он настоял на том, чтобы Лакоста явился в этом нелепом жидовском балахоне. Лакоста отнекивался и даже всплакнул, но царь пригрозил шуту увольнением и отправкой обратно в Гамбург: для общего успеха турнира надлежало проявить твердость, и вот теперь Петр по реакции публики видел, что оказался прав. И эта маленькая правота была приятна царю.
Дудошники засвиристели в свои дудки, цимбалисты ударили по струнам. Князь-папа Никита Зотов, взлезши на помост, тяжело оборотился к гостям и, вцепившись в перильца, чтобы не упасть, прокашлялся.
– Данною мне властью, – сказал князь-папа, – властью верхнею, нижней и боковой, властью вязать и разрешать, казнить и миловать, я открываю Санкт-Петербургский шутейский турнир. Я, повелитель всех шутов и дураков, председатель Всепьянейшего собора, принимаю вот этого, – он, не оборачиваясь, указал рукой на левую боковину сцены – на шутейного Карла XII, – в младшие члены нашего пьяного кумпанства. После Полтавы он все плачет да рыдает, вот мы его и развеселим. Слава полтавскому победителю, нашему государю Петру Алексеичу!
Публика присоединилась с восторгом вполне искренним. Всякая победа стоит принесенных жертв. Только побежденные плачут по убитым.
Выслушав со строгим лицом славословие, Зотов опустился в кресло и через перильца шепнул Вытащи:
– Тащи-ка что-нибудь горло прополоскать!
Наступил черед шутовского представления.
Первыми на сцену поднялись дурак Абрамка с дурочкой Глашкой. Притопывая лаптями, они запели дурными голосами, в очередь:
У моей милашечки, —
завел Абрамка, —
Аккуратненький носок:
Девять курочек усядется,
Десятай петушок.
Ох-ох, не дай Бог, —
отвечала гунявая Глашка, —








