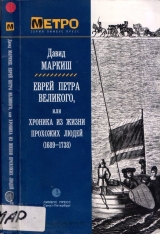
Текст книги "Еврей Петра Великого (Роман)"
Автор книги: Давид Маркиш
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
– Да, но Господь не разменивается на такие шутки, – опасливо косясь на Меншикова, заметил Лакоста. – Зачем это Ему? У Него, что, других дел нету – только устраивать цирк в этом городишке?
– Значит, не плачет? – улыбаясь поощрительно, спросил Петр. – А что ж это у нее?
– Вода, – сказал Лакоста. – Воду налили. И дырочки должны быть. Можно, я посмотрю?
– Стой! – насупился Петр. – Я сам посмотрю.
Игольчатые дырочки были обнаружены наощупь. Царь осторожно потянулся к нимбу и, поворачивая, снял верхнюю часть головы. В голову, как в чашу, была налита вода, там плавали мелкие юркие рыбки.
– Теперь понятно, – водворяя нимб на место, удовлетворенно сказал Петр. – Рыбки плавают, создают волнение и гонят воду в дырки. Алексашка, выдай ксендзу три рубля: хорошо придумал!
Лакоста спустился, принял ребенка из Алексашкиных рук. Алексашка недовольно, показно вытер руки о штаны.
– Ну, а с тобой что делать, советник? – Петр как бы заново оглядывал и исследовал Лакосту. – Обратно к немцам тебя надо отправить с твоим планом, а?
– Верно, мин херц! – поддакнул Алексашка.
– Нам своих жидов хватает.
– Однажды в глубоком озере, – тихонько покачивая ребенка, сказал Лакоста, – нашли большой тяжелый сундук. Жители прибежали со всей округи, и князь приехал: клад нашли, золото! Оставалось только поднять сундук со дна. «Жиды тут есть? – спросил князь у толпы. – Этот сундук – наш, древний сундук, и что бы там ни оказалось, жидам из него ничего не полагается. Так что вы, жиды, отправляйтесь по домам, нечего вам тут делать!» Жиды и пошли, обсуждая по дороге изречение нашего мудреца «И это к лучшему». А гои разделись и стали нырять в ледяную воду, и многие утонули. Потом сундук все-таки вытащили, тяжелый большой сундук, и каждый хотел открыть его первым, и все вместе хотели быть первыми. И началась драка, и многих убили, и вдовы и сироты плакали на холме. Наконец, уже близко к ночи, сундук открыли – он был доверху набит булыжниками и песком. «Вот жиды проклятые! – сказал князь. – Им и здесь подвезло: в озере не тонули, в драке не резались, день не потеряли, домой первыми ушли!»… Я ухожу, русский государь, и по дороге буду размышлять над изречением нашего мудреца «И это к лучшему».
Петр смеялся, закинув голову. Блестели его крупные крепкие зубы под жесткими усами.
– Это жиды сундук подкинули! – сказал Алексашка возмущенно. – Очень даже просто: сами и подкинули.
– Ты постой-ка! – сказал Петр с места покамест еще не двинувшемуся Лакосте. – Ты меня рассмешил, и историю рассказал забавную… Ты вот что, Лакоста: шутом пойдешь ко мне служить?
– Пойду, Ваше Величество, – немедля согласился Лакоста.
– Да что он в этом деле понимает! – досадливо покривил красивые губы Меншиков. – Что умеет? Что знает?.. Да какой из жида шут!
– Я знаю, что я буду делать, – сказал Лакоста. – Плакать.
– Это с какой же радости? – удивился Петр и ждал ответа нетерпеливо.
– Потому что когда еврей плачет, – объяснил Лакоста, – гои смеются.
У Антипа Русакова царь велел вычесть месячное жалованье: в людях не разбирается, не смог отличить шута от финансового советника.
4
ВЕЛИКАЯ ЧИСТКА. 1698
Лакоста рад был знакомству с Дивьером: как-никак еврей, свой человек, к тому ж приятный. На первом же перегоне новоявленный шут доверительно рассказал Дивьеру о своих неприятностях: о сбежавшей жене, о прогоревшем страховом плане, о ссоре с гамбургскими евреями. Бывший пират слушал сочувственно, особенно последнее: упорно считая себя евреем, он, тем не менее, не ставил под сомнение вкусовые преимущества кровавой отбивной перед сугубо кошерной, а дедовский талит и кипу извлекал из молитвенного мешочка только раз в год, в Йом-Кипур.
– Не все ли равно, кем служить еврею при русском царе? – слушал он Лакосту. – Шут! Шут – это, в сущности, актер придворного театра, солист. С актера куда меньше спроса, чем, скажем, с финансового советника. Ведь так, Антуан?
– Точно так, – по-военному кратко соглашался Дивьер.
– Царь Петр, как будто бы, обаятельный человек, – вопросительно взглядывая на Дивьера, разведывал Лакоста. – Он разрешил мне ходить в обычном платье, актерское не надевать. Это благородно с его стороны: в актерском я все же чувствовал бы себя неловко.
– Ну конечно, – кивал головой Дивьер.
– А ты будешь у него моряком? – спрашивал Лакоста. – В конце концов, это тоже неплохое дело.
На этот вопрос Дивьер не мог ответить даже самому себе: он не знал, что собирается ему поручить царь Петр. Он ждал терпеливо, догадками себя не изводил: придет время – ему скажут. Нет никакой разницы в том, как добывать деньги: пиратствовать ли в Южных морях, следить ли за опальными русскими недорослями. Одно было ясно совершенно: чем ближе к царю, тем больше денег. В обмен на большие царские деньги Дивьер собирался трудиться деятельно и добросовестно. Он понимал, как ему повезло: не спихни он тогда, на маневрах, царского помощника в море – лазать бы ему по сей день по вантам «Петра и Павла», а не ехать в крытом возке следом за русским царем. Теперь следовало это свое везенье развить, закрепить прочно, как парус на рее. И так он и сделает, когда скажут ему: «Крепи!» Силы хватит… Но шутом он все же не хотел бы быть – даже при царе.
Возки катились скоро, царь заметно мрачнел по мере приближения к отечеству. Кабысдох вертелся около него безотлучно, как кошка или собака. Конкуренту Лакосте черный карла причинял, по мере возможностей, мелкие неприятности: подбрасывал жуков и гусениц в тарелку, показывал язык, а однажды, подкравшись и подняв ножку, помочился ему на башмак.
– Дай ему по шее, – советовал Дивьер, – только не искалечь. Бесполезный тип, сидел бы себе в коробке…
Сам Дивьер, которому Кабысдох в первый же день путешествия подстроил пакость – подсыпал толченого перца в нюхательный табак, – действовал весьма оперативно: схватил карлу за шиворот и держал его над бивачным костром до тех пор, пока тот не задымился и не заорал благим матом. Дивьер не имел ненависти к карле и, тем более, не мстил ему за проделку – просто Кабысдох ему мешал, как мешает гвоздь в башмаке, не очень острый. Он, пожалуй, и прибил бы карлу, если бы не боязнь навлечь на себя гнев за разрушение царской игрушки.
В отличие от оперативного Дивьера, Лакоста видел в карле человеческое существо, хотя и чрезвычайно вредное. Дать ему по шее было непросто, хотя бы из чувства брезгливости. Объяснить же ему что-либо представлялось и вовсе невозможным: в ответ на увещевания Кабысдох плевался и шипел.
– Только по шее, – повторял свой совет Дивьер. – Но – несильно.
– Он такой противный, такой несчастный человек… – возражал Лакоста.
– Нет! – отвергал Дивьер. – Он не человек. Он – так, для забавы… И потом, какое тебе до него дело? Он тебе не родственник, никто. Возьми вот палку и дай ему по шее, если не хочешь рукой. А если он тебе так мешает, лучше от него вообще избавиться.
– Но как? – горько спрашивал Лакоста.
– Брось его ночью в реку, – пожимал плечами Дивьер. – Он тебе, в конце концов, чужой человек.
– Лучше я просто не буду обращать на него внимания, – решил Лакоста.
Купола московских церквей увидели перед вечером. Ленивое августовское солнце лежало на золоченых маковках, зажигало высокие, с косой нижней перекладиной кресты. Под крепостной стеной, под бугром, скользила темная река. Приземистые деревянные домишки обсели межхолмья и речной берег. Над первыми же городскими воротами торчала, воткнутая на палку, почерневшая и ссохшаяся человеческая голова.
– Здорово, родимый! – закричал Кабысдох мертвой голове. – Вот и мы! Приехали!
– Какое это все чужое, – прошептал Лакоста, наклонившись к Дивьеру. – То ли татары, то ли Китай… И нас здесь всего – двое.
– Ну, и Шафиров, – холодно глядя на черную голову, сказал Дивьер. – Он все-таки наш.
В столице не задержались: Петр велел ехать в Преображенское.
Стрельцов гнали и везли в Преображенское, в Тайный приказ, закованными, держали в подвалах, в погребах. Чудом оставшиеся в живых зачинщики, числом трое – пятисотенный Артюшка Маслов, стрельцы Васька Игнатьев и Ефремка Гагин, – сидели в пыточном подземелье ромодановских палат.
Царь сам руководил розыском и дознанием. Он почти и не выходил от Ромодановского – дневал там и ночевал, ел и спал урывками, проводя большую часть времени в застенке. Усердие его окупилось: под пыткой стрельцы показали, что царевна Софья письменно сносилась с бунтовщиками из своей кельи в Новодевичьем монастыре, подбивала их выступить против Петра. По ее наущению был пущен в народе слух, что царь умер за границей и ждать его возвращения нечего… Само письмо, правда, как в воду кануло, и Софья с бешеным упрямством, так схожим с упрямством Петра, отрицала его существование. Но можно было ее и понять: найди Петр письмо – не сносить сестрице Софье головы.
В сенях Ромодановского проживал на серебряной цепи лесной медведь, ученый. Не успевал гость войти в сени, как медведь, облизываясь длинным страшным языком, подступал на задних лапах с чаркою крепчайшей водки. И кто терялся или не хотел брать – того зверь облапливал, а то и одежду драл. Поднимаясь из сырого застенка, Петр с удовольствием принимал горячительное, дивясь учености медведя. Однажды, когда медведь порвал кафтан и рубаху на не проявившем должной расторопности Петре и оцарапал ему плечо, князь-кесарь велел убрать зверя из сеней – но царь воспротивился.
В подвале, по соседству с пыточной, проживал другой медведь – белый, дикий. Его пускали в ход, когда дыба и кнут не действовали и узники запирались. И не было такого, кто выдержал бы встречу с полярным медведем, огромным, как телега. Попасть к нему в лапы, к нему в пасть было жутче, чем висеть на дыбе.
Задумав Чистку, Петр разумел действие масштабное, показательное и срочное. В соответствии с этим стрельцов хватали по всей России, волокли со всех сторон. Заниматься личной судьбой каждого, взвешивать его вину на весах не было нужды, да не было и возможности: царь не мог разорваться на тысячу кусков. Но и доверять кому-либо допрос и истязание он не желал: не желал замешивать кого бы то ни было в свои отношения со стариной, со стрельцами, с Софьей. Эта чистка должна стать его, Великой Петровой Чисткой.
Два раза вызывал царь Дивьера, которому велено было покамест все служебное усердие употребить на изучение русского языка. Сидя в углу застенка, мокро пахнущего кровью и калом, Антуан Дивьер без любопытства наблюдал за тем, как Петр с Вытащи рвали ногти у государственных преступников, секли их кнутом, прижигали каленым железом. Пропуская мимо ушей крики пытаемых, Дивьер думал о том, как, должно быть, богата Россия людьми, жизнью которых так щедро разбрасывается государь. Ведь каждого такого человечка, вместо того чтобы его увечить и казнить, можно с пользою и без всяких почти затрат приставить к какому-нибудь делу: гатить топи, прорубать военные и торговые дороги, строить мосты. Сотня таких человечков, с учетом смертного отсева, надобна для того, чтобы возвести большой каменный дом, тысяча – чтобы проложить пять километров дороги… А Петр бьет и рубит, сам себя обирает. Рубит и бьет и никак не может остановиться, как загулявший в кабаке русский мужик.
Продержав Дивьера полночи и сам еле стоя на ногах от усталости, Петр отпускал его восвояси:
– Ступай, Антон… А тебе их не жалко? – Он кивал на очередного человечка, корчившегося на дыбе.
– Нет, государь, – отвечал правду Дивьер.
– Они бунтовщики, воры! – дергая головой, кричал тогда Петр, и Вытащи в страхе отступал от беснующегося государя. – Они все против меня, весь этот тупой воровской народ! Я выбью из них дурь, выбью!.. Ну, ступай, Антон.
«Если весь народ против тебя, – рассуждал Антуан Дивьер, шагая по ночному Преображенскому к отведенной ему избе, – то каждого десятого надо послать на полезную работу, подальше от дома. А кто из них вздумает бунтовать или бежать – того уж надо казнить, чтоб другим было неповадно. И так лет через десять Россия станет не хуже других, и у царя врагов резко поубавится. А иначе, пожалуй, никак: всех на дыбу не подымешь, да и ни к чему это».
Со следствием Петр управился за месяц с малым. Две трети стрельцов, свезенных в Москву, не подвергались допросам: их участь была решена заранее. За этот месяц царь тщательно продумал процедуру казни. Осужденным надлежало прибыть к назначенному месту в черных телегах, по двое. Каждому из осужденных предписывалось держать в руках зажженную свечу. Казни для всех были определены простые: отрубление головы, повешение. Эта нарочитая простота, отчасти мрачная, и быстрота прихода смерти должны были подействовать на народ с особой силой: никогда еще российские государи не расправлялись со своими врагами таким бесхитростным способом – без четвертования, без колеса. И в этом тоже заключалась пугающая новизна и дыхание времени. А для того, чтобы московский народ не забывал о Великой Чистке, а приезжий люд набирался науки и, вернувшись в свои углы, учил других, – для этого Петр приказал трупы казненных на улицах и площадях оставить на полгода, до весны.
Для себя и своих приближенных Петр выбрал Красную площадь. Там за день до казни устроили как бы коридор – расставили в два ряда пятьдесят две плахи, каждая высотой в два локтя. Петр сам примерил и установил высоту: опустившись на колени, удобно расположил голову на пробной плахе и одобрил.
Утром назначенного дня сотни черных телег потянулись из Преображенского в Москву. Ветра не было, как по заказу, и свечи ровно горели в руках осужденных. Тысячи москвичей, согнанных со всех концов города, молча стояли вдоль дороги и толпились на площадях, вокруг плах и виселиц.
У Покровских ворот часть телег отсекли, отделили от общего потока и направили к Красной площади. Здесь в каждую плаху, белую, пахнущую хвоей и лесной смолой, врублен был новый топор на удобном, слегка изогнутом на конце топорище. За первой плахой, засучив по локоть рукава кафтана, стоял Петр.
Черные телеги двигались слаженно, красиво. Преображенская стража, потеснив народ, открыла узкий проход, ведущий сквозь площадь к плахам, к царю. Царь был торжественен и, пожалуй, грустен.
У царевой плахи первая телега остановилась, за ней стали и другие. Стража быстро, деловито ссаживала стрельцов с телег, вязала им руки за спиной. Недогоревшие свечи бросали, за отсутствием специального циркуляра, в кучу.
К Петру подвели, толкая в спину, пятисотенного Артюшку Маслова, содрали с него рывком книзу черную рубаху.
– Ну, давай, – дернув щекой, негромко сказал Петр. – Становись.
Медленно перекрестившись, Маслов опустился на колени и примерился головой к плахе. По свежему срубу дерева, волоча измазанные клейкой смолой лапки, полз муравей, и Маслов чуть отодвинул голову с его пути.
Петр прикинул топор по руке, огляделся. Народ тихонько выл. Палачи, следя за царем, стояли с поднятыми топорами за плахами.
– Алексашка, Шеин, Волконский, взять топоры! – крикнул Петр. – Рубить всем! И ты, Зотов! И ты! – Откинув длинное туловище, глядел, не мигая, как исполняют веленное. – Живо! Ну, живей!
– Руби без оттяжки, государь, – услышал за спиной шепот Вытащи. – Само пойдет.
Замахиваясь, набрал воздуха и, метя на ладонь ниже затылка, ударил. Голова отделилась на удивление легко, топор глубоко вошел в плаху. Нагнувшись, чтобы выдернуть топор, заметил барахтавшегося в крови муравья и сшиб его щелчком на землю. Потом выпрямился, перевел дыхание, вытер липкие пальцы о штаны.
Плаха пахла смолой, лесом, кровью.
Кто-то набежал сзади, оттащил бьющее ногами тело.
Стража волокла к плахе отбивающегося Ефремку Гагина. Глядя, как его пригибают, гнут, Петр обернулся и поманил Дивьера.
– Держи, Антон, – сказал Петр, передавая ему топор. – Руби! Ну!
Дивьер принял топор, оглядел его сосредоточенно. Можно отказаться, плюнуть, вернуться в Амстердам. Можно размахнуться, опустить топор на плаху. Только один раз. Кто они, эти человечки в черном, что они сделали? Да что б ни сделали – они чужие, не свои. Свои идут в синагогу, кричат там и спорят неизвестно о чем. Тем не стал бы головы рубить, дрогнула бы рука. А эти – русские, чужие, как все здесь чужое. Как та черная голова, что торчала на палке, над воротами, в первый день по приезде. Только один раз! Это ведь русский царь проверяет, испытывает. Если сам он рубит своих, почему ж чужаку не рубить по чужому? Только один раз – и служба, и карьера, и деньги. Крови, что ли, он не видал, Антуан Дивьер, не убивал людей? Так то в бою…
– Ну! – услышал он хриплый Петров голос.
И, попробовав острие топора на ногте, встал за плаху.
Вечером того дня праздновали новоселье Лефорта во дворце его, в Немецкой слободе. Петр много пил, был весел, добр. Обняв хозяина, взял его за уши, приблизил голову к себе, нос к носу, сказал:
– Франц, душа моя, что с тобой? Ты будто с рассвета рук не покладал. У тебя плохой вид! Или болен?
Франсуа Лефорт болел уже с месяц: оловянный вкус во рту, печень, упадок сил. Дворец, сложенный из красного кирпича, с высокими потолками, с мраморными полами, радовал сердечно – но вот пришло письмо из Женевы, и все пошло насмарку. Писал брат, торговец недвижимостью.
«Любезный Франсуа! – не слишком-то горячо писал брат. – Должен опечалить тебя: наша мать тихо скончалась в своем доме и похоронена на городском кладбище, в семейном склепе. Вся наша семья, все братья и сестры, и Жан, и дядя Арнольд присутствовали при погребении…»
Сидя у камина в малой гостиной, кутаясь в плед, Лефорт мучительно вспоминал, кто ж таков этот Жан? Как будто это имело какое-то значение: кто таков Жан. И, так и не вспомнив, огорчился очень.
«Ты уже не молод, Франсуа, – писал далее брат, – ты провел на чужбине почти всю жизнь. Мы знаем, что ты сделал кое-какие сбережения, что русский царь к тебе благоволит и произвел тебя в генерал-адмиралы. Это всех нас несколько удивляет: ведь ты ни в детстве, ни в юности не имел склонности к военным упражнениям и, по твоим же сообщениям, состоял при царе Петре в качестве учителя голландского языка. Как же сделался ты вдруг генерал-адмиралом, если в России, по нашим сведениям, нет моря, а Женева, как ты помнишь, стоит на берегу озера?.. Все это очень беспокоит нашу семью, и некоторые из ее членов считают, что ты стал авантюристом».
На этом месте Лефорт прервал чтение, зачерпнул из вазы горячего пунша с ромом и выпил залпом. Значит, авантюрист. И это почти презрительное «как ты помнишь»… Старый авантюрист. Ну что ж, это отчасти правда. Если бы после Азовской победы братья, дядя Арнольд и этот таинственный Жан видели его, Лефорта, триумфальное возвращение в Москву: коляска в виде морской раковины, нелепая Триумфальная арка, пьяный вдрызг князь-папа Никита Зотов – они были бы шокированы. А если б они узнали, что их веселый Франсуа, адмирал, так и не побывал ни разу ни на одном корабле – они бы просто лишились дара речи… Учитель голландского языка, поставивший своему юному воспитаннику девицу Анну Монс из Немецкой слободы. И благодарный ученик жалует его генерал-адмиральством и всю Россию хочет превратить в Немецкую слободу… Кто ж таков все-таки этот Жан, будь он трижды неладен?
«Никто из нас, – писал брат, – включая дядю Арнольда и, разумеется, Жана, не можем поверить, что у тебя в мыслях нет вернуться к нам на старости лет, что в твоем сердце, некогда таком добром и отзывчивом, не осталось любви к родному дому. Приезжай, дорогой брат, возвращайся! Каковы бы ни были твои сбережения, ты можешь твердо рассчитывать на участие в нашем семейном деле – торговле недвижимостью. Ведь счастье переменчиво, а здоровье невосстановимо. Пришло время нам вновь объединиться и закончить свои дни в мире и покое, близ дорогих могил».
Прочитав письмо, Лефорт откинулся на спинку глубокого кресла, вытянул ноги к огню и задумался. Камердинер, явившийся доложить о приезде первых гостей, не решился его потревожить: казалось, он спал. Но он просто лежал с закрытыми глазами, и видел Женеву, и горы над озером Леман, и брата, и даже этого самого заботливого Жана, которого он никак не мог припомнить. Как было бы хорошо, если б этот его новый дворец стоял на берегу женевского озера, а не в московской Немецкой слободе! С болезнью к Лефорту пришла неведомая прежде чувствительность: двумя пальцами он легонько надавил на уголки закрытых глаз и, выдавив слезинки, размазал их по щекам. Потом, устало и горестно проведя большими горячими ладонями по лицу, поднялся на ноги.
Пройдя сквозь парадную гостиную и танцевальный зал, Лефорт вышел к гостям. Царь еще не прибыл, и хозяин, раскланиваясь направо и налево, выслушивая восторги и поздравления, спустился на широкое каменное крыльцо. Коляски и кареты подъезжали одна за другой, знатные гости, путаясь в длиннополой праздничной одежде, подымались по мраморным ступеням. Генералиссимус Шеин, князь Долгорукий, князь Ромодановский, Головнин, братья Нарышкины, молодой Гагарин, бояре, думные дьяки, послы… Вот и Петр подъехал в своей двуколке, взбежал по лестнице, расталкивая тучных сановников. После казни царь переменил платье – надел простое немецкое, черное, без шитья и позументов. Рядом с ним востроглазый Алексашка в пунцовом полукафтане, в зеленых атласных панталонах, в высоком завитом парике казался роскошным принцем.
За стол садились шумно, оценивая диковинные блюда и заморские вина, – и, рассевшись, вдруг стихли: не знали, за что пить первую, да и вид больших овечьих ножниц, со стуком положенных Петром перед собою на скатерть, настораживал.
– Ну, что приуныли? – сощурив глаза, с усмешкой бросил Петр. – Сегодня утром хорошо мы потрудились для блага отечества, сняли заразную нечисть на все времена. Теперь можно дальше двигаться, ума набираться от тех, кто им богат… За тебя пью, Франц, душа моя, за твой дом, за то, что стоит он посреди Москвы! – Подняв стакан – широкую низкую скляницу с приказной водкой, – Петр посмотрел его на свет. На стекле был вырезан герб Лефорта: слон на щите, увитом лентами.
– Специально к сегодняшнему дню сделали, Ваше Величество, – пояснил Лефорт. – Слон – это «форт»: сила, крепость. Отсюда и «Лефорт».
– Дарую тебе, душа моя, моего орла в герб, – сказал Петр. – Орел и слон – хорошо, красиво…
Лефорт улыбался благодарно, сквозь слезы. Жалко, брат всего этого не видит. И еще жальче, еще горше, что это все происходит в Москве, а не в Женеве.
После водки пили ренское, сладкую романею. Ели поросятину, студень с солеными лимонами, куриные ножки с обернутой золотою бумагою костяной частью. Ели изюм, чернослив, медовую пастилу и персидскую халву. Дамы уже проявляли нетерпение, шептались в ожидании танцев.
– Шеин! – стукнув ножницами по столу, позвал Петр. – Поди сюда!
Генералиссимус тяжело поднялся из-за стола, пошел нетвердо; длинная бархатная ферязь мешала ему, путалась в ногах.
– Руки давай! – приказал царь, и Шеин покорно протянул руки. Ловко орудуя ножницами, Петр отхватил рукава ферязи, спускавшиеся ниже пальцев, потом и полы по колено. – Где ты в Европе такое видал? – приговаривал царь. – Это помеха, везде надо ждать какого-нибудь приключения: то разобьешь стекло, то в похлебку залезешь. А отрезанное береги: сапоги сошьешь.
За Шеиным пришла очередь Ромодановского, потом Нарышкиных. Вызванные подходили безропотно, молча: государь кромсал вынутую из фамильных сундуков драгоценную праздничную одежду, одежду отцов-бояр и дедов-полководцев. Кромсал по живому, стриг старинную вольность удельных князей и своевольных воевод. Но лучше лишиться одежды, чем головы.
Подскочил карла Кабысдох, выхватил ножницы из рук царя и, нырнув под стол, принялся окорачивать ферязи и охабени. Петр хохотал. Чувствуя проворные, бегающие пальцы карлы, гости улыбались боязливо и скорбно. Выкатившись из-под стола, арап подбежал к Лакосте, норовя отхватить у него воротник кафтана.
Перехватив руку Кабысдоха, Лакоста крепко сдавил ему запястье. Ножницы со звоном упали на пол. Гости, затаив дыхание, переводили взгляды с царя на нового шута.
– Кто этот шаловливый мальчик с нездоровым цветом лица? – громко спросил Лакоста и, нагнувшись, несколько раз с силой шлепнул карлу по заду. – У него в сердце живет змея.
Царь захохотал, неуверенно засмеялись и гости.
– Танцы! – хлопнув в ладоши, приказал Петр.
Гости, стыдливо оглядывая друг друга, подымались из-за стола.
Играли дворовые музыканты, специально обученные, под началом немецкого капельмейстера Клейнмихеля. Показывая пример, Петр открыл танцы. С ним в паре шла бело-розовая немочка, жена брауншвейгского посланника. Сам посланник стоял в стороне, помахивая рукой в такт музыке с чрезвычайно довольным видом. Слуги разносили меж танцующими флин – гретое пиво с коньяком и лимонным соком. Алкоголь делал свое дело: в обрезанной одежде, растрепанные и пьяные, гости скакали, топали и вертели повизгивающих женщин. Странное, со стоном бьющее через край веселье овладело всеми.
Дивьер плясал с Анной Меншиковой – курносой русой красавицей, востроглазой, как брат, большегрудой и крутобедрой. Он уже за столом приметил ее и не спускал с нее глаз, и девушка то и дело как бы невзначай поглядывала на красивого смуглого иностранца. Она не была мастерицею строить куры, и неумелое ее поглядывание обжигало темпераментного пирата синим пороховым огнем. Оценив Анну по матросскому счету, он пришел к выводу, что заняться ею следует, и не откладывая. Он и не откладывал. Он методически переводил взгляд с лица девушки на ее высокую грудь и гадал о том, чья она дочь и что за этим стоит. А потом начались танцы, Дивьер пригласил ожидавшую приглашения Анну и уже ее не отпускал.
Алексашка в зеленых штанах, в сбившемся набок парике подлетел, держа руку на эфесе шпаги.
– А ну, отпусти! – высоким голосом закричал Алексашка. – Чего вцепился! Не про тебя это!
Увидев подходившего Петра, Дивьер подумал и не отпустил.
– Это что такое? – сдвинув короткие брови, сказал Петр. – Почему не танцуете?
– Да это сестра моя, мин херц! – возмущенно кричал Меншиков. – Анька это! Да чтобы всякий жид…
– Не всякий жид, – строго перебил Петр, – а советник по делам тайного сыска Антон Мануйлович Дивьер.
«Стоило рубить, – вихрем пронеслось в красивой голове Дивьера. – Вот плата. А эта роскошная девка – сестра Меншикова… В этой стране, кажется, можно жить».
Перед утром Петр, выйдя из Лефортова дворца, отправился по знакомым улочкам к нарядному домику Анны Монс. Пьяный Кабысдох увязался за хозяином. Шатаясь и падая, он пел ругательную песню, потом замолчал.
– Ну, где ты там? – обернулся Петр; карлу могла загрызть собака, и это было бы огорчительно.
– Вот я! – откликнулся Кабысдох из чьей-то цветочной клумбы. – Живот подвело, Ваше Величество… А-а! – вдруг завопил карла. – Змея! Из меня змея лезет! Государь!
Помедлив мгновение, царь решительно шагнул в цветы, нагнулся над присевшим карлой и протянул руку.
– Это не змея, дурак! – облегченно сказал Петр, змей боявшийся. – Смотри, что это: нутряной червь. А почечуй почему не лечишь? Завтра я тебе шишку вырежу, и анатомии заодно подучу: все польза будет. Смотри только, не сбеги!
Кабысдох от ужаса выл, ему из-за заборов отвечали собаки.








