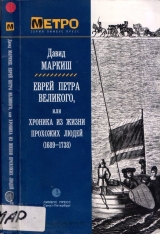
Текст книги "Еврей Петра Великого (Роман)"
Автор книги: Давид Маркиш
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
Разложив все эти соображения по полочкам, Шенборн оставил место и резиденту Веселовскому: резидента ждут крупные неприятности, он будет отозван, его заменят другим. Кем? Как эта замена, да и вся эта история в целом, скажется на отношениях Петра с венским двором в будущем? Будущее же Веселовского ничуть не занимало Шенборна: существование неглупого еврея заканчивалось для вице-канцлера вместе с концом его венской службы.
Уже после крайне неприятных разговоров с Петром Толстым, после тайного отъезда царевича на Неаполитанский берег (Шенборн побеспокоился при этом, чтобы маршрут вовремя стал известен Толстому и чтоб Алексей никуда не свернул по дороге) к Веселовскому на Грабенштрассе снова явился старый еврей, назвавшийся на этот раз торговцем битой птицей. Из письма дяди Петра Павловича, выдержанного в тревожных тонах, следовало, что в Санкт-Петербурге стало известно о содержании разговора Веселовского с царевичем Алексеем в доме вице-канцлера Шенборна, чтобы он, Авраам, ни под каким видом не возвращался в Россию и чтоб более всего на свете избегал встречи с капитаном Ягужинским, которого уже решено, в случае бегства Веселовского, отправить в Европу для поимки и доставки невозвращенца к Петру, на суд и расправу… Дав старому еврею золотой, Веселовский вздохнул и велел подать в кабинет кофе с ромом.
Рассматривая с любовью книги, картины и дорогие безделушки, которые следовало теперь срочно паковать и куда-то везти, Веселовский машинально повторял фразы шафировского письма, угадывал оставшееся между строк. Известие о разговоре с царевичем неизбежно приведет к Суздальскому розыску, и это поставит под угрозу всю «еврейскую почту». В случае его, Авраама, добровольного возвращения в Россию или успеха разбойного предприятия Ягужинского роль дяди Петра Павловича – в частности сообщение о приезде Толстого или того же Ягужинского, не говоря уже о намечаемой между Петром и Австрией войне, – может всплыть на поверхность. Куда, наконец, отсюда бежать и где прятаться? Разумно, пожалуй, скрыться на первое время в Лондоне, у брата Федора; но и Федора за укрывательство невозвращенца по головке не погладят. Да и Федору лучше не возвращаться: за то, что он знал о планах брата и не донес, и ему не сносить головы. Ай-яй-яй, как вдруг все пошло под гору, покатилось к чертовой матери! И сколько человек потащит за собой царевич Алексей, если не удастся ему вырваться из волосатых лап Петра Толстого! Счастье еще, что они, Веселовские, не цепями прикованы к матушке России, что еврейский корень всюду одинаково хорошо угнездится – в Лондоне или в Берлине, а того лучше в тихой протестантской Женеве: построить там дом на озерном берегу, принять протестантство, успешно торговать… Еще раз, уже по-деловому обводя взглядом комнату и отмечая вещи, которые надлежало укладывать в первую очередь, он остановился на поясном портрете Петра на фоне кипящего боя – и с улыбкой, как о чем-то уже бесконечно далеком, вспомнил Полтавскую битву, и себя – приближенного царского адъютанта, и как скакал потом в Копенгаген с вестью о победе над шведами… Неисповедимы, все же, пути твои, Господи! И счастье, счастье, что не прикованы мы цепями, не приколочены гвоздями к России.
Все у царевича Алексея получалось не слава богу: и по дороге домой, в Россию, разлучился он с беременной, на восьмом месяце, Ефросиньей, и осталась Ефросинья в Берлине – рожать. По мере приближения к российским границам Алексей становился все более грустен и замкнут, своими планами о тихой жизни в деревне больше с Толстым не делился и сладко-горькие его речи слушал с отсутствующим видом. Лишь садясь писать письма к Ефросинье, он успокаивался, тихонько что-то напевал над бумагой и глаза его теплели; он нежно упрашивал будущую мать своего ребенка беречь себя и перед денежными тратами не стоять: лекарства заказывать в Венеции или Болонье, а того лучше в Германии, где аптекари искусней, и рецепт не терять. Засиживаясь допоздна над письмами, слушая сонное посапывание Петра Толстого за спиной, Алексей машинально чертил на черновиках прочные деревенские дома вперемешку с виселицами, плахами и топорами. Он не очень-то верил обещанию отца, переданному через Толстого: в случае добровольного возвращения разрешить ему, сыну, жить с Ефросиньей, в тишине и покое, в каком-нибудь далеком углу. Отчаявшись в вежливых и пустых намеках Шенборна, не получая ответов на свои обращения к русским сенаторам, шведскому королю и турецкому султану, царевич почти чистосердечно готов был отказаться от короны и поселиться в деревеньке, в лесу, под Суздалем.
А в Суздале тем временем уже появились, как первые ласточки, первые сыщики Тайной канцелярии. Расхаживая по базару, посиживая в кабаках, они выспрашивали у простодырых баб и мужиков, кто из чужаков появлялся в городе в последнее время. Рыжий Янкель был назван первым, и именно поэтому не привлек внимания столичных специалистов: чтоб жида, да в такое дело… Вслед за ласточками последовал ястреб капитан-поручик Скорняков-Писарев с собственноручным царским распоряжением: «Ехать тебе в Суздаль и там в кельях жены моей и ее фаворитов осмотреть письма, и ежели найдутся подозрительные, по тем письмам, у кого их вынут, взять за арест и привесть с собою, купно с письмами, оставя караул у ворот».
Розыск набирал силу и ширился, первая партия арестованных была отправлена в Москву. Петр из Преображенского – оттуда, где двадцать лет назад плавали в крови стрелецких бунтовщиков кости Ивашки Милославского, – наставлял: «Бывшую жену и кто при ней, также и кто ее фавориты, и мать ее, привезти сюда…» Скорняков-Писарев старался, действовал живо; в соответствии с емкой государевой фразой «кто в то время был, и кто о сем ведает, всех забери» новые группы арестантов потащились из Суздаля по московской дороге. Степан Глебов был доставлен в крытом пароконном возке, трижды пытан в застенке Тайной канцелярии, но участия своего и сожительницы своей Евдокии Лопухиной в заговоре против режима не признал.
В то время – в феврале 1718 – царевич Алексей был уже привезен в Москву, к отцу. Встреча была обставлена, по желанию царя, церемонно и торжественно: дело далеко выходило за рамки семейной распри, и это следовало принять к сведению не только в России, но и в Вене, и в Турции.
Петр встретился с сыном, три дня дожидавшимся в московском пригороде аудиенции, в большом тронном зале Кремля, в окружении сенаторов, генералов и высшего духовенства. На этом раззолоченном фоне серая, будничная одежда Петра придавала его фигуре казенную ледяную мрачность. Так же скромно одетый Алексей, бледный, с отечным лицом, был удивительно похож на своего отца.
Царевич вошел в зал ровным медленным шагом. Не глядя по сторонам, он подошел к застывшему на троне царю и, опустившись перед ним на колени, протянул ему свернутый в трубку плотный бумажный лист. Не разворачивая, Петр передал письмо стоявшему справа от него Шафирову. С поклоном приняв документ, вице-канцлер пробежал текст и, наклонясь к уху царя, прошептал:
– Ничего важного, Ваше Величество… Просьба о милости.
– Что ты хочешь сказать? – наклонив голову, резко спросил Петр. – Говори!
– Я прошу Ваше Величество разрешить мне уехать в деревню и жить там безвыездно, до конца моих дней, – усталым голосом, затверженно произнес Алексей.
Не подымая головы, Петр усмехнулся чуть заметно: не зря Шафиров просидел три дня с царевичем, не зря вдалбливал ему в голову каждое слово этого разговора.
– Своим желанием, – еще повысив голос, заговорил Петр, – ты сам, по своей воле лишаешь себя права наследовать наш престол: сидя в деревне до самой смерти, государственному труду не научишься… Согласен ли ты сейчас же, честь по чести, своею же волею подписать акт об отречении?
– Согласен… – с ненавистью взглянув на Шафирова, пробормотал Алексей.
– Громче! – громыхнул Петр.
– Согласен подписать! – подымаясь с колен, повторил Алексей.
– А теперь подойди ко мне и скажи, кто советовал тебе бежать, – свободно откинувшись на спинку трона, сказал Петр. – Ну, подойди же!
Сторонясь Шафирова, Алексей обогнул трон слева и, опершись о его золотой подлокотник, пошептал что-то в отцовское ухо. Петр живо, по-молодому вскочил на ноги и, шагая размашисто, потянул сына в смежную залу. Туда же, малое время спустя, был вызван и Шафиров.
Они вернулись в тронный зал четверть часа спустя – впереди Алексей с руками за спиной, на негнущихся ногах, за ним, парой, Петр с Шафировым. Вице-канцлер, как бы просушивая чернила, легонько помахивал перед собою актом отречения.
– Ты отлично устраиваешь мои семейные дела, – с полуулыбкой наклонясь к коротенькому Шафирову, сказал Петр. – Я тебе этого не забуду…
От такой похвалы и такого обещания Шафиров почувствовал внезапную слабость в коленях и режущий спазм в горле. Безразлично глядя на то, как Алексей подписывает отречение, он повторял про себя: «Сперва Прут, теперь это… Помилуй Бог!»
Следствие ширилось, скакали курьеры между Москвой, Суздалем и Санкт-Петербургом. Покатились уже первые головы, четвертовали царевичева советчика Кикина, насадили на кол тучного Степана Глебова. По российским кабакам ползли искусно распускаемые слухи: за неразумным царевичем стояли опытные заговорщики, покушавшиеся на жизнь царя, задумавшие Россию отдать на разграбление шведам, немцам и туркам. Да и Алексей – не Петров сын, это теперь точно известно, и Евдокия была сослана в Суздаль за прелюбодеяние. И, раз Алексей сам отрекся, не сносить ему головы: наследника казнить нельзя, сына – можно, а тем более пасынка. Вон, выдрали ж его кнутом не против царской воли! Сам государь пожаловал в пыточный застенок, а с ним светлейший князь, и Толстой Петр, и Шафиров-жид: все главнейшие. Двадцать пять ударов получил изменник, и это только начало!.. Но находились и такие, что жалели царевича – из-под ладошки, шепотом.
Петр, уничтожавший врагов и сдавшихся, и упорствующих, и сильных, и слабых, – царь Петр желал смерти сына. Все эти рассказы о тихой жизни в деревне, эти слезные письменные обещания отречься он всерьез не принимал. Будь он на месте сына, он бы долго в деревне не высидел – да и не дали бы ему приспешники, а по смерти отца, наплевав на все торжественные акты, ринулся бы к трону. Это сошвырнуло бы Россию с ее новой дороги, с ее Петровского проспекта. Этого нельзя было допустить. Ради своего грандиозного эксперимента, уже потребовавшего тонны человеческого мяса, Петр пожертвовал при Пруте такой смехотворной в политике и такой жалящей под одеялом штуковиной, как честь. Теперь пришло время пожертвовать сыном. Иного выхода просто не было, и не следовало его искать. И это мясо, и эта кровь должны были пойти на пользу эксперименту.
После пытки царевича Петр не отпустил кнутмейстера Вытащи, сел играть с ним в шахматы. Двигая фигуры, планируя и рассчитывая ходы, царь рассеянно прислушивался к стонам сына, лежавшего тут же, на соломе, в углу: шахматы всегда успокаивали, очищали и просветляли голову. Выиграв, с удовольствием щелкнул Вытащи в лоб и спросил, покосившись в угол:
– Выживет?
– С двадцати пяти кнутов кто хошь выживет! – не затруднился Вытащи. И добавил чуть погодя: – Вот если пятьдесят, и с оттяжкой – тогда дело другое. А я без оттяжки…
Петр поднялся, пихнул ногой шахматный столик, вышел стремительно. Озадаченный Вытащи кинулся подбирать рассыпавшиеся по полу янтарные фигуры.
В тот же день, перед вечером, Шафиров, возвращаясь со службы, завернул к Лакосте. Они давно не виделись, не сидели вдвоем, и вице-канцлер перед самым порогом Лакостовой избы вдруг почувствовал неприятную неловкость: свой как-никак человек – а вот живет посреди Санкт-Петербурга в избе, как простой мужик. Давно надо было поинтересоваться, помочь. И эта его несчастная история с дочкой… Огорченно вздохнув, Шафиров брякнул молоточком в дверь и вошел в дом.
Хозяин, сидя за столом, ел рыбу. Услышав скрип двери, он потянулся было сдернуть ермолку, но, узнав Шафирова, только поправил ее, оставил на голове. Горка серых рыбьих костей топорщилась на столешнице, как зимний куст. Лакоста аккуратно, ребром ладони сгреб кости в оловянную тарелку, вытер пальцы о салфетку и придвинул стул гостю.
– Я на вас не в обиде, Петр Павлович, – сказал Лакоста и улыбнулся. – Садитесь, садитесь! Я понимаю – вы заняты посильней меня, а мне к вам без дела идти тоже как-то неловко… Глупо, конечно: не виделись больше года. Ну, да я ведь о вас знаю, мне Антуан рассказывает.
– Да, да… – с облегчением согласился Шафиров. – Жизнь такая, что просто слов не подберешь… Но я ведь о вас тоже знаю, правда, понаслышке. Как Машенька? Она в Германии?
– Ее больше нет, – сказал Лакоста, глядя в тарелку с костями. – Она умерла в прошлом году от чахотки, в Гамбурге.
– Простите… – выдавил Шафиров. – Простите…
– Да что ж тут прощать? – поднял брови Лакоста. – Это жизнь, и это смерть. Все распределено. Никто ни в чем не виноват. И я, как двадцать лет назад – только не с Ривкой, а с ее сыном. И как будто и не было этих двадцати лет… Яков! – позвал он. – Яша!
Из соседней комнаты косолапо выкатился большеглазый кудрявый мальчике деревянной сабелькой в руке.
– Вот мы, оказывается, какие! – сладким голосом сказал Шафиров. – Сколько же нам?
– Третий годик, – сказал Лакоста, а Шафиров отвел сабельку, которой ребенок нацелился в его алмазную звезду на ленте.
– Надо будет обязательно определить его в Преображенский полк, – сказал Шафиров, напряженно следя за рукой мальчика. – Такой боевой.
– Посмотрим… – уклончиво сказал Лакоста, прижимая внука к коленям. – Да ведь туда и берут только дворян.
– Ну, мы-то с вами знаем, какие там дворяне! – усмехнулся Шафиров. – Светлейший князь, например, Александр Данилыч…
Лакоста промолчал, поглаживая ребенка по щекам.
– Да, да, непременно! – с жаром продолжал Шафиров. – Я это устрою, можете не сомневаться… А помните эту Пасху, – он наклонил большую голову к плечу, глядел издалека, – и этого дикого еврея из Смоленска, и как вдруг пришел государь.
– Помню, – откликнулся Лакоста. – Его звали Борох Лейбов.
– А ту ночь у Прута, – почти простонал Шафиров, – ночь, грохот, и его мертвый немой шатер, и вы идете туда – помните?.. – Он тряхнул головой, букли богатого парика заструились. – Я ведь к вам опять с просьбой, Ян.
Лакоста разомкнул руки, и ребенок, вырвавшись, убежал.
– Вы ведь знаете этого… – Шафиров сдвинул брови, наморщил лоб над переносицей. – Вытащи, кнутмейстера. Он пытал Алексея Петровича.
– Да, знаю, – кивнул Лакоста. – Не скажу, что он мой лучший друг, но он по-своему тоже несчастный человек. И потом, ведь мы с ним в некоторой степени коллеги.
– Вот-вот! – придвинулся Шафиров. – Это очень важно – то, о чем я вас хочу просить. Никто этого не сделает, кроме вас – только вы один!
– О чем, собственно, речь? – сухо спросил Лакоста.
– О царе, – сказал Шафиров. – О царевиче. О России… Ведь вы любите царя – как я, как все мы?
– Да, – помешкав, сказал Лакоста, – я, действительно, люблю его. Он тоже по-своему несчастный человек – вот как тот же Вытащи. Счастливых людей я не люблю – они либо дураки, либо мерзавцы.
– Царевич Алексей должен умереть, – шепотом сказал Шафиров. – Это решено, потому что это нужно России. Но позорная публичная казнь не в интересах России, не в интересах царя… Вы ведь знаете, Ян, – великий Петр сделан совсем не из железа и не из камня. Отцу трудно, невозможно приказать: «Идите, удушите моего сына». Я знаю, отец ждет от нас помощи, и вы…
– Что – я?! – в смятении вскинул руки Лакоста. – Я – шут, царский шут!
– А я не шут? – перебил Шафиров. – Шут гороховый! Все мы шуты – вы, я, Меншиков, Ромодановский, – все! И я хочу, хочу быть шутом великого Петра, потому что Его Величие на нашем шутовстве держится… Ян, идите к Вытащи, он послушает вас. Он должен сказать царю то, что царь ждет, что царь не хочет и не может сказать сам: «Я удушу…»
– Вот если б пятьдесят, и с оттяжкой… – топчась в дверях, мямлил Вытащи. – А я ведь без оттяжки… – Лакоста хорошо все ему объяснил, и он жалел Петра, хотя жалеть царя было очень страшно.
Петр сидел, сгорбившись над заваленным бумагами столом, глядел на своего шута и кнутмейстера внимательно, но как бы не отсюда, не из этой комнаты, а из Вены: поверх других бумаг лежало донесение Ягужинского о том, что венский резидент Веселовский бежал в Лондон и что англичане противятся его выдаче.
– Да? – сказал Петр, припечатывая донесение ладонью. – Ты что это?
– Так ведь я, государь, Ваше Величество, хочу, как лучше, – сбивчиво продолжал Вытащи. – Ты ведь на себя погляди, ты ведь вон как умучился – смотреть страшно! Это ведь надо понять… – Он скривил рот, часто заморгал, то ли всхлип вырвался из его глотки, то ли рык. – Я – его – удушу – и дело с концом… Ваше Величество!
Петр медленно подымался из-за стола, неотводно глядя в мутные, налитые слезами глаза Вытащи. Услышав это жданное, желанное «удушу», он не вдруг и понял, кто плачет – полубезумный шут или он сам, отец. Потом пришло: плачут оба.
Подойдя к Вытащи, он крепко взял его за уши, стукнулся лоб в лоб, поцеловал в щеки, выдохнул:
– Делай, как сказал…
Они были почти одного роста.
11
ЧЕРТОВА КУХНЯ. 1722
Президент Берг-коллегии Яков Виллимович Брюс был озабочен сверх меры: Петра ждали в Олонце уже вторые сутки, приветственные факелы вдоль въездной дороги трижды зажигали ошибочно, истомленный ожиданием народ пьянствовал. Ко всему этому прибавилось злодейское происшествие: злодей украл промасленное рядно, которым была укрыта от мокрого снега торжественная арка, установленная перед воротами железоделательного завода и украшенная изречением. Срочным розыском было установлено, что сторож, приставленный к арке, уснул по пьяному делу, и дерзкий вор воспользовался этим. Провинившегося, еще не вполне протрезвевшего, высекли перед временной канцелярией Брюса; это несколько скрасило ожидание.
Отправляясь на прошлой неделе в Олонец из Санкт-Петербурга, Брюс намеревался привести в надлежащий порядок и подготовить к царскому смотру лишь железоделательные заводы, Алексеевский и Повенецкий, приписанные к Берг-коллегии. Прибыв в Олонец, утопающий в весенней слякости и грязи, Брюс решил, на всякий случай, украсить и город: была воздвигнута арка с изречением, к придорожным елкам приколотили факелы. Заглянув на олонецкую, на реке Свири, верфь, аккуратный и хозяйственный Брюс расстроился: государь, наверняка, захочет наведаться и сюда, и тогда грозы не миновать. Главные громы и молнии обрушатся, разумеется, на голову Президента адмиралтейской коллегии генерал-адмирала Апраксина – но ведь Апраксин далеко, а Брюс близко, под рукой. А царская рука куда как тяжела, и во гневе бьет без разбора… Стоило, несомненно, подправить-почистить и верфь, и сотня мужичков, срочно переловленных по деревням, отправлена была под конвоем на Свирь, на Лодейное поле: чистить, плести еловые венки для украшения корабельных остовов.
Об Олонецком целебном источнике, открытом по приказу Петра года три тому назад, а до того известном олончанам под старым названием «Чертова кухня», хозяйственный Брюс вспомнил в последнюю очередь – и корил себя за это. Ведь что-что, а источник государь стороной не обойдет! Ведь целебные воды, подобные карлсбадским, ищут по всей России с особым прилежанием, и царь, с его любовью к лечебным процедурам и операциям, лично за этим надзирает!.. Вид зловонной, пахнущей тухлыми яйцами и болотной тиной струи, лениво выкатывающейся из-под гнилой коряги, привел Брюса в смятение. О воздвижении вокруг коряги курзала с лавками и корытами для купания нечего было уже и говорить – хватило бы времени на сколачивание какой-никакой приличной будки… Полсотни полупьяных, празднично настроенных горожан было выловлено по дворам и по кабакам и доставлено к источнику не без зуботычин. Близ коряги, в ледяной грязи, были обнаружены гнилые доски – все, что осталось от старого курзала, сооруженного ко дню торжественного открытия вод, три года назад. Петр прибыл тогда на открытие и с удовлетворением наблюдал длинную очередь олончан, хмуро топтавшихся у входа в курзал. Не явившимся на торжество грозил кнут, явившимся и проглотившим кружку вонючего пойла обещано было по кружке водки. Сам царь, любопытства ради и для примера сомневающимся, выпил бокал теплой тошнотворной жидкости, напитком остался доволен и приказал олончанам, без различия пола и возраста, принимать целебные воды внутрь, а желающим и полоскаться в них, не реже раза в неделю, для поддержания здоровья организма. Распорядившись, Петр уехал в Санкт-Петербург, а олончане, выпив обещанную им водку, с проклятиями забыли дорогу к источнику. Вскоре курзал пришел в запустение и развалился, к большому облегчению горожан.
Подойдя к коряге, Брюс покрутил острым длинным носом и незаметно сплюнул в сторону: глядя на зловонную, не вполне прозрачную воду, он испытывал тошноту. Вот уж, правда, Чертова кухня! Согнанные горожане сердито лузгали подсолнухи за его спиной.
– Ну, давайте, давайте! – прикрикнул Брюс. – Чего стоите! Плотники, идите сюда! Чтоб не позже заката поставить тут павильон типа бани, вот такой! – Он, выдирая ботфорты из грязи, шагами наметил размеры. – И положить дощатые мостки с перилами, тут утонуть можно!
Уже уходя, он подумал, что хорошо было бы и здесь, над входом в павильон, вывесить красочно выполненное назидательное изречение, но, покопавшись в памяти, так ничего оттуда и не извлек.
Вместе с титулом императора, Великого и Отца отечества Петру были поднесены Сенатом крытые сани, вместительные и роскошные. Обшитые изнутри мягкой кожей со множеством дорожных карманов, сани были снабжены окошками и обогревались круглыми медными флягами с кипятком. В задке саней помещалась застланная медвежьей полстью кровать, в голове кровати – походная аптечка со снадобьями и инструментами первой необходимости. Императорский полезный экипаж приводился в движение цугом лошадей, в нем одновременно могли разместиться до пяти человек, правда в тесноте. Сани, сочетавшие в себе несомненные удобства с последними достижениями строительной и бытовой техники, понравились Петру. В них он пропутешествовал всю зиму, в них отправился и в Олонец по позднему снежному пути.
Вокруг императорских саней скакали драгуны, позади следовала свита в розвальнях, возках и кибитках. Лакоста и Вытащи ехали вместе с поваром в хвосте процессии. Ветер со снегом задувал в щели повозки, шуты и повар, прижавшись друг к другу, кутались в овчинные тулупы.
– Двинься-ка чуток! – попросил Вытащи. – Мне в ящик надо…
Лакоста снял ноги с деревянного палаческого ящика, в котором Вытащи возил свой инструмент: кнут, щипцы для вырывания ноздрей и другие, поменьше, для вырывания ногтей, и тройку медных клейм. Там, в ящике, обмотанный кнутовским хвостом, чтоб не разбился, стоял штоф водки-казенки.
– Пей! – сказал Вытащи, обтирая рукавом горлышко штофа. – А то холодно!
Лакоста отхлебнул, передал штоф повару, и тот тоже приложился. В обществе Вытащи повар чувствовал себя неуютно.
– Нате вот, держите! – Вытащи разодрал луковицу на три части, разложил куски на ладони. – Сольцы, черт, забыл…
Повар, свесив голову, то ли спал, то ли притворялся спящим.
– Ишь, ты, умаялся! – съязвил Вытащи, привычно чувствовавший беспокойство повара. – Ну, да хрен с ним, мы и сами схрумкаем.
– Едем, едем… – сказал Лакоста, снова удобно опирая ноги о ящик. – Всю жизнь куда-то едем.
– А что ж! – откликнулся Вытащи. – Мы на государевой службе. Куда государь рысью, туда и мы пешком… А как же!
– Была у меня когда-то, давным-давно, одна знакомая, – не слушая Вытащи, продолжал Лакоста. – Близкая знакомая… И вот она взяла и повязала на плетеную корзинку шелковый бант. А – как, когда? Я об этом ничего не знал, и сам никогда не стал бы вязать. А она повязала. Значит, у нее своя жизнь, и мы с ней совсем чужие люди… И зачем я этот случай вдруг вспомнил, Степан, я тоже не знаю.
Вытащи слушал внимательно, сидел неподвижно, втянув голову в плечи, как гигантский филин. Потом, встряхнувшись, сказал:
– Мне вот, знаешь, тоже в голову приходят иногда всякие такие случаи: как я мальцом у бабки горшок разбил, или вот еще такой: тятя мой на столе хлеб делит, а мы все, дети его, сидим, смотрим… Чудно! Потом я про это думаю, думаю, и жалко мне становится всякую тварь: хоть овцу, хоть даже какого жука.
– А себя? – подняв бровь, спросил Лакоста. – Себя – жалко?
– Вот это ты верно говоришь, – хмуро согласился Вытащи. – Себя так бывает жалко, что даже не спишь: лежишь, и все. Вот и жалованье хорошее, и своя изба – а не спишь… Поверишь ли ты мне, – он припал к Лакосте плечом, пробормотал, как что-то стыдное, тайное: – Я дитеночком маленьким хочу обратно стать. Страсть как хочу! А – нельзя…
– Нельзя, – со вздохом повторил Лакоста.
Они замолчали, покачивая головами, дружелюбно глядя друг на друга.
В сером сыром сумраке затянувшегося утра запылали факелы по сторонам дороги, пламя трепетало, как в сквозном коридоре с низким потолком. Но ветер уже гулял по верхам леса, шатал кроны сосен и елок; над тяжелым туманом угадывались голубые прорехи, к концу дня можно было ждать ясной погоды.
На коротконогой караковой кобыле Брюс подскакал к императорским саням и был впущен. Петр глядел хмуро, с силой потирал пальцами прыгающую щеку.
– Знаю, знаю! – отмахнулся он от Брюса. – Завод, небось, заново покрасил! Сколько пушек на станках? Шесть? Ну хорошо, спасибо… После обеда поедем смотреть.
– Обед ждет, Ваше Величество, – доложил Брюс. – Городской голова…
– Нет! – перебил Петр. – Сначала на воды, там и перекусим… Ты воду целебную пьешь?
– Пью, Ваше Величество, – соврал Брюс.
– Вот это ты молодец, – сказал Петр. – И чтоб рабочим заводским по стакану в день выдавали: эта вода дает силу и селезенку укрепляет.
Наспех возведенный над корягой павильон торчал на болотном берегу, как печная труба на пожарище. Драгуны, с ходу заскочив в припорошенное снежком болото, придержали коней.
– Что это никого не видно! – подозрительно глядя то на Брюса, то, в окно саней, на пустынную местность, заметил Петр. – А где больные? И я велел всем, всем пить воду не реже раза в неделю!
– Сегодня по случаю вашего приезда мужиков и баб отсюда насилу разогнали, – нашелся Брюс. – А иные опиваются и тонут в болоте.
– Чем это они опиваются? – недоверчиво спросил Петр.
– Водкой! – разъяснил Брюс, сообразив, что перегнул немного палку. – Они ведь сюда с водкою, как на праздник, идут.
Выбравшись из саней по откидным ступенькам, Петр шагнул на мостки и двинулся к павильону. Свита, разминая ноги, шла за ним. Незаметно отставший Брюс распорядился срочно доставить сюда стол, еды и вина для второго завтрака.
В павильоне было тепло и тихо, лавка из свежеструганых досок огибала корягу, очищенную от тины и грязи и убранную золотой бумагой, как куриная ножка на блюде. Присев на лавку, Петр вытянул ноги и глубоко вдохнул воздух, насыщенный сероводородными парами. На европейских курортах воняло, пожалуй, не так сильно… Наполнив высокую стеклянную кружку, он, запрокинув голову, гулко прополоскал горло, сплюнул под корягу, в бегущий по канальцу сточный ручеек, снова наполнил кружку до краев и теперь уже всю ее, медленно и вдумчиво, опорожнил. С трудом справившись с рвотными позывами, он еще раз сплюнул, потер пальцами глаза и крикнул в приоткрытую дверь:
– Эй, кто там!
Зальца вмиг наполнилась людьми, дышавшими внимательно. Вокруг царя, сидевшего у раззолоченной коряги, образовалось людское кольцо; все хотели протиснуться от стены или от двери поближе к центру, но каждый, на всякий случай, боялся отделиться от скопища и оказаться внутри кольца, лицом к лицу с мрачным Петром. Так прошла минута или две.
– Ну, что ж вы не пьете? – спросил наконец Петр. – Пейте!
Кольцо чуть заметно дрогнуло, передние пятились, не подымая глаз.
– Кабысдоха-покойника на вас нет! – горько сказал Петр. – А то бы он вам сейчас поднес… – И вдруг сорвался, вскочил, потрясая тяжелой тростью черного дерева: – Это ведь для вас, дурачье, для вашей пользы! Сколько вас учить надо! Пейте, а не то я вам в глотки волью!
Кольцо расступалось, редело. Задние выкатились уже наружу и, соступив в толчее с мостков, с проклятиями топтались в ледяной болотной грязи. Тухлый запах Чертовой кухни доносился и сюда.
Вытащи, подпирая потолок головой, стоял у стены, глядел на царя преданно. Он никуда не собирался отсюда выходить, пока его не выслали. Вонь он переносил терпеливо, как легкое наказание.
– Эй! – позвал его Петр.
И пока он протискивался к царю, задние предусмотрительно выкатывались в дверь.
– На! – сказал Петр, протягивая Вытащи кружку. – Пей! Это хорошо! Они ничего не понимают!
Вытащи принял кружку, покорно понюхал, поморщился и перекрестил рот. Потом, выдохнув, закрыл глаза и единым духом опрокинул в себя зловонную жижу.
– Вот видите! – назидательным тоном заметил Петр. – Давай, Вытащи, еще одну: кишечное полоскание облегчает сердце и оттягивает кровь от головы… Каждый человек должен знать свои анатомии, это просвещает и оберегает от болезней… Пей!
Вытащи больше не крестился, не выдыхал. Скрежеща зубами, он поднес кружку ко рту и медленно, через силу выцедил ее под подхлестывающим взглядом царя.
– Ну, как? – спросил Петр, дождавшись, когда Вытащи опрокинул порожнюю кружку себе на макушку, показывая тем, что там не осталось ни капли.
– Да как… – сдавленным голосом пробормотал Вытащи. – Позволь, Ваше Величество, поблевать…
– Нет! – резко выкрикнул Петр и ударил тростью в пол. – Терпеть надо! Иначе пользы никакой! Пей, дурак! Еще! – И, зачерпнув из-под коряги, сам подал кружку шуту.
Сделав глоток, Вытащи зашатался, выронил кружку и, закрыв лицо согнутой в локте рукой, бросился вон. На мостках он поспешно сунул два пальца в рот и, рыча, перегнулся через перильца. Легкие деревянные перильца заходили под ним ходуном.
– Порченый человек, – прислушиваясь к реву Вытащи, сказал Петр. – У него желудок гнилой необратимо, его и целебная вода не вылечит: раньше надо было начинать.
А Вытащи, разогнувшись, побрел к своей повозке, достал штоф из ящика и долго пил, запрокинув голову и заодно глядя на красивые голубые прорехи в посветлевшем небе.
Между походным вторым завтраком и обедом у городского головы поехали смотреть завод. Не доезжая ворот, у раскутанной арки, перед императорскими санями вытянулся в струну бессонный сторож и высыпали из укрытой еловыми лапами ямы, как из-под земли, крепкие красномордые гудошницы в новых лаптях. Прискакивая и крича песню, девки ударили по струнам, а Брюс, придумавший это явление гудошниц из ямы, вздохнул свободно: царь, кажется, остался доволен.








