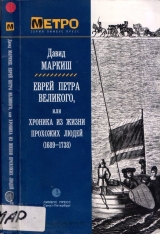
Текст книги "Еврей Петра Великого (Роман)"
Автор книги: Давид Маркиш
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
К Екатерине шли, проходя мимо Петрова шатра как мимо пустого места: царя как бы более не существовало. Царем была сейчас – царица, спокойная и ровная, уверенная то ли в себе, то ли в своей судьбе. А больше ни в чем и нельзя было быть уверенным – здесь, в пушечном грохоте, прорехи в котором закрывал, заливал бешеный рев подступающего неприятеля.
Первым явился Шафиров – в аккуратно вычищенном немецком платье, в высоком парике. Екатерина указала ему сесть, и он понуро опустился на стул на полпути от входа к хозяйскому месту.
– Сядьте поближе! – сказала Екатерина, с любопытством разглядывая этого толстого еврея, его большое лицо с выпуклыми, наглыми и умными глазами.
Коротко вздохнув и поджав губы, Шафиров пересел.
– Ведь вы, барон, дипломат, – сказала Екатерина с легким немецким акцентом. – Наш лучший русский дипломат… Кому ж, как не вам, вести с турками переговоры о немедленном мире? – Подойдя, положив пухлую белую руку на его плечо, она близко нагнулась к нему и добавила еле слышно: – Спасите царя, барон! Спасите Россию!
– Это вы отменный дипломат, Ваше Величество! – скосив глаза на царицыну руку и тихонько покачивая головой, сказал Шафиров. – Иначе вы оценили бы мои скромные заслуги лишь по достоинству… Великий визирь захочет в обмен на мир Бог знает чего. – Отведя наконец взгляд от руки Екатерины, он вопросительно взглянул ей в лицо.
– Разумеется, разумеется… – медленно опустила веки Екатерина. – Нас устроит все, кроме капитуляции. Ведь едва ли они захотят Москву, как вы думаете?
– Карл – союзник султана, – сказал Шафиров и, вытянув губы трубочкой, сделал паузу. – Москву – нет, но Санкт-Петербург они могут потребовать, не говоря уже о южных приобретениях… Но может быть, удастся что-нибудь выторговать.
– Кто может санкционировать такие уступки? – садясь на стул против Шафирова, уже по-деловому спросила Екатерина. – Главнокомандующий Шереметев – может?
– Только Его Величество, – отрицательно повел головой Шафиров.
– Его Величество несколько недомогает, – сложив руки на кругло торчащем животе, сказала царица. – Он, как вам известно, не желает никого видеть.
Шафиров чуть заметно пожал плечами и промолчал.
– Он, может быть, выслушал бы Меншикова, – продолжала Екатерина, – но Александр далеко… Вы, барон, должны попробовать.
– Его Величество не станет меня слушать! – Шафиров поднял руки, как бы обороняясь от самой этой идеи. – Тут нужен человек либо сугубо военный, либо… либо тот, который мог бы просто по-человечески успокоить государя, вывести его из состояния тяжелой, я бы сказал, задумчивости.
– Если вы имеете в виду меня, барон, то ваш план не годится, – ясно глядя на Шафирова, сказала царица. – Петр Алексеевич запретил мне навещать его. А если явится Шереметев, он его, пожалуй, зарубит: Его Величество не владеет собой… Так что же?
– Я знаю, кто! – воскликнул Шафиров и в возбуждении поднялся на ноги. – Лакоста!
– Этот шут? – удивленно спросила Екатерина.
– Это довольно грустный шут, – сказал Шафиров, расхаживая по ковру. – С кем еще и говорить государю в такой час, как не с грустным шутом? Со священником?
– Но он… – неуверенно улыбнулась Екатерина. – Он…
– Я ему все разъясню, Ваше Величество, если вы не возражаете! – с жаром предложил Шафиров. – Поверьте мне, это хорошая идея.
В шатер вошел генерал Алларт; раненая его рука висела на перевязи, цвет чисто выбритого лица был землист.
– Князь Репнин подставил под удар главный обоз, – сказал Алларт тусклым голосом, – две с половиной тысячи карет, колясок и телег взяты неприятелем. Мы остались без провианта и без пороха. Жена Ропа с тремя детьми зарезана.
– Какой ужас! – передернула круглыми плечами Екатерина. – С детьми… А… ваша жена, генерал?
– Я не вожу жену в обозе, – сухо информировал Алларт. – Госпожа Алларт здесь, в моей карете.
Откинув полсть, через порожец шагнул с горестным вздохом Шереметев, за ним протиснулся угловатый Янус.
– Да, да, – сказал Шереметев, с жалостью глядя на Екатерину своими чистыми старческими глазками, – плохие новости. Через три часа наши пушки замолчат… Но мы успели, государыня, раздать нашим молодцам новое чудо-оружие – метательные ножи, по восемьсот штук на полк. – Поймав на себе скептический взгляд Януса, фельдмаршал криво ухмыльнулся и отошел в тень.
– Если у вас, господа, недостает смелости, – царица коротко, колко взглянула на Шереметева, – говорить о немедленном и безотлагательном мире как о единственной возможности сохранить армию – то вы вынуждаете меня сказать вам об этом. Барон Шафиров отправляется к визирю для переговоров.
– На каких условиях? – хрипло, в нос спросил Шереметев.
– На тех условиях, какие санкционирует Его Величество, – отрезала Екатерина. – Эти условия будут сохранены в совершенной тайне до подписания мира… Если вы, господа, можете предложить мне военное решение – прошу вас.
Генералы молчали, не глядя друг на друга. Граф Головкин, вошедший последним, на носках прошел мимо военных и сел на стул позади Шафирова.
– Сколько я понял, – сказал Головкин, дождавшись паузы, – решение о переговорах исходит от государя…
– Вы свободны, господа, – не ответила Екатерина. – Барон Шафиров, останьтесь.
Когда за последним захлопнулась полсть, царица обессиленно опустилась в кресло, откинулась на высокую спинку, уронила руки на подлокотники. Шафиров сидел против нее молча и не двигаясь.
– Трудно… – сказала Екатерина. – Как трудно это было…
– Вы держали себя исключительно, Ваше Величество, – совсем не торжественно, по-домашнему сказал Шафиров. – Я просто диву давался.
– Это ведь только начало, – не изменяя позы, сказала Екатерина. – Ступайте, барон, к вашему шуту.
Бесшумно поднявшись, Шафиров поцеловал государыне руку и вышел.
Петр лежал лицом к стене на своей узкой и жесткой железной коечке – царственной игрушке почти всех европейских владык: некрасиво, стыдно разлеживаться коронованному солдату на пуховых перинах. На осторожные шаги он не повернулся, только спросил голосом глухим и слабым:
– Катя?
– Нет, Ваше Величество, – последовал почтительный ответ. – Лакоста, шут.
Петр не повернулся, не выразил ни неудовольствия, ни радости – ничего. Опершись рукою о стол, Лакоста с грустью смотрел на круглый затылок царя в примятых спутанных волосах. Близ руки шута лежал бумажный лист, на котором корявым царским почерком было выведено: «Господа Сенат! Сим извещаю вас, что я со своим войском без вины или погрешности со стороны нашей, но единственно только по полученным ложным известиям, в четырехкраты сильнейшею турецкой силою так окружен, что все пути к получению провианта пресечены, и что я, без особливыя Божия помощи ничего иного предвидеть не могу, кроме совершенного поражения, или что я впаду в турецкий плен. Если случится сие последнее, то вы не должны меня почитать своим государем и ничего не исполнять, что мною, хотя бы по собственному повелению, от вас было требуемо, покамест я сам не явлюся между вами в лице своем. Но если я погибну и вы верные известия получите о моей смерти, то выберите между собою достойнейшего мне в наследники».
Прошло несколько времени, пока Петр, не изменяя позы, снова подал голос:
– Ты все здесь? Ну, говори или ступай!
– Давным-давно это было, – рассеянно возя царево завещание по столу, начал Лакоста, – может, тыщу лет назад, может, две, на пастушьем стойбище. Люди стойбища – мужчины и женщины – собрались как-то со скотом на большой базар, в ближний городок, желтый каменный городок, лежавший у подножья раскаленной солнцем горы. Полтора часа ходу было до этого городка, по пыльной узкой дороге, на которой и две телеги бы не разъехались… Все ушли, никого не осталось на стойбище, кроме младенчика-сосунка да местного безвредного дурака, которому поручили следить за младенчиком – чтоб он не кричал и не плакал, пока родители будут в городе, на большом базаре. А дурак был дурак добрый, он, действительно, каждому был готов оказать услугу – и, не успели пастухи с их скотом скрыться из виду, с жаром принялся за дело: баюкал ребенка, подкидывал его и ловил, бегал с ним рысью по шатру. А шатер был вот как этот. – Лакоста обвел взглядом царский шатер, а потом поглядел на затылок Петра, сопящего внимательно. – Дурак старался на славу, но что бы он ни делал – ребенок все кричал и плакал и никак не хотел угомониться. Тогда дурак, скрестив ноги, уселся на хозяйскую подушку и, прижав к себе ребенка покрепче, стал поглаживать его по головушке. Чем сильней он поглаживал – тем спокойней становился ребенок и неподвижней и, обнаружив это удивительное обстоятельство, дурак нажимал вовсю ладонью и пальцами. И ребенок вскоре затих, а дурак сидел не шевелясь, чтоб не потревожить ребенка. И тепло и хорошо было на душе у дурака, потому что сделал он доброе и хорошее дело. А когда вернулись пастухи с большого базара, они нашли в шатре блаженно улыбавшегося дурака с мертвым ребенком на руках: дурак продавил ему родничок своими дурацкими пальцами.
– Ты сам дурак, – резко повернувшись и сбрасывая ноги с кровати, сердито сказал Петр, – ничего не понимаешь… Он просто исследовал, он был слеп и шел до конца, как всякий исследователь и експериментатор, а сосунок по случайности был отдан ему в руки. Ты что ж, хотел бы, чтоб он остановился на полпути?
– Но жалко ведь ребеночка… – изумленно выдавил Лакоста. – Ведь можно было как-нибудь по-другому…
– По-другому другой бы действовал, не этот! – облокотившись о колени и опустив подбородок в сведенные ладони, сказал Петр. – Ты этого понять не можешь, да и не ты один. Один из целого народа это понимает. И расплачивается за это понимание.
– А народ? – тихонько спросил Лакоста. – Народ – не расплачивается?
– Народ – инструмент, – устало, грустно усмехнулся Петр. – Один мастер в ответе перед Богом.
– Но если инструмент сломался, – сказал Лакоста, избегая глядеть в глаза царя – круглые, страшные, – мастер не может продолжать…
– Только Бог выше мастера, – строго сказал Петр. – Как Он хочет, так и будет.
– Что Он хочет? – вдруг горестно закричал Лакоста, и Петр взглянул на него удивленно, издалека. – Я не хочу, чтоб меня турки на кол посадили, не хочу евнухом служить у аги! Кто сказал, что Бог Израиля требует душу русского царя? Кто?
– А ты выгляни наружу, – снова укладываясь, с иронией в голосе посоветовал Петр. – Не слышишь, что ли?
За стенами шатра слышались близкие разрывы артиллерийских бомб, накатывающий рев осаждающих.
– Отдай им, государь, что они хотят, – стуча зубами, сказал Лакоста и, подойдя к кровати, опустился перед ней на колени, как перед троном. – Пусть подавятся… Ты силу наберешь, все возьмешь обратно! Ты – на полпути не остановишься! Инструмент ломать собственными руками – спесь, спесь!
– Что им отдавать, – безразлично глядя в потолок, сказал Петр. – Они и так сами все возьмут.
– Спесь! – исступленно, как заклинание, повторил Лакоста. – Мы, евреи, знаем, что это такое… Страшное дело ты делаешь, государь. Предложи им, чем так-то… – Он хотел сказать «лежать», по поостерегся, зачастил, продолжая: – Пошли Шафирова, пусть торгуется, пусть…
– Разве я о себе думаю? – тихо, властно перебил Петр. – Я о себе уже отдумал, меня уже и нет как бы: ну, еще час, еще два… Но со мной ведь все кончится, а в Москве этого только и ждут, и сын, сын мой ждет прежде других! Я двадцать лет работал, а сегодня мы не на двадцать лет – на двести лет назад уйдем. Ты это понимаешь, шут?
– Пошли Шафирова, – повторил Лакоста. – Он на брюхе будет ползать – не ты. Он умеет, ты сам знаешь. Ведь, может, что и получится…
– Все развалят, все сожгут, – продолжал Петр. – Турки страшны – а свои страшней стократно. После меня новая смута начнется, великая азиатская смута. И поляки полезут русские кости растаскивать, и литовцы, и крымчаки. – Подняв руку со сведенными в кулак пальцами, Петр с размаху ударил себя по голове, потом еще раз. – Я здесь в таком же состоянии, в каком был брат мой Карл при Полтаве.
– Государь, Ваше Величество… – ерзая на коленях, испуганно зашептал Лакоста. – Ведь надежда еще есть… Шафиров…
– Надежда пархатая. – Петр с силой зажмурил глаза, и вдруг возникли перед ним Польские ряды в Москве, и сердечный друг Лефорт, и пыхтящий Шафиров, сцепившийся с оборванцем Алексашкой из-за краденой шапки. – Это славно: Шафиров – последняя надежда России… Пусть идет. Скажи ему: я приму любые их условия, кроме капитуляции. Мне нужно сохранить мою армию и Москву.
– А Санкт-Петербург… – почти не веря своим ушам, выдохнул Лакоста.
– Уступить последним, если не останется никакого выхода. – Снова сбросив ноги в ботфортах с кровати, он сел перед стоящим на коленях Лакостой. – Карл будет рвать Север, турки – Юг. Но пушки решают судьбу городов, а не переговоры! Поэтому без армии я отсюда не уйду, да меня только сумасшедший отсюда и выпустит… Если бы Шафиров сторговался!.. – Рывком вскочив с кровати, Петр заметался по шатру, как будто шатер был его лагерем, прижатым к реке, окруженным, запертым со всех сторон. На миг остановившись у стола, он скользнул взглядом по своему завещанию, осторожно, как по живому, провел по нему рукой, и снова забегал. Лакосту он огибал, как кресло или сундук.
– Так Шафиров сейчас пойдет, – сказал Лакоста, подымаясь с колен.
Петр не услышал, не ответил.
Стоя перед Великим визирем Мехметом, Шафиров с наслаждением потягивал крепчайший горьковатый кофе из крошечной чашечки белого китайского фарфора. С внутренней стенки чашечки на него глядел дракон золотыми крупинками глаз… После двух часов стояния на ногах принесли кофе, и это, несомненно, был добрый признак. И хорошо, что турок отослал своих головорезов и, особенно, советника Понятовского: поляк, конечно, отстаивает интересы Карла, и, кроме того, он мыслит весьма здраво, весьма. Теперь сесть вот хоть бы на пол – ноги отекли, отказываются держать.
Мехмет сидел на красном ковре со строгими черными узорами, опершись локтем о пеструю шелковую подушку. Из-под маски вежливого безразличия и напускной усталости проглядывало любопытство: этот жирный русский с бегающими глазами пришел, разумеется, не для того, чтобы объявить неоспоримое: завтра на рассвете царская армия будет уничтожена. Для чего же он явился?
Первые два часа разговор плелся через пень-колоду, а то и вовсе пресекался надолго; и молчание это было тягостным только для стоящего Шафирова. Турки, посмеиваясь, расспрашивали о здоровье государя и царевича Алексея, о том, чистым ли золотом крыты маковки кремлевских церквей. О войне и о завтрашнем дне речь почти и не заходила, и это было оскорбительно. Только раз, в ответ на разведочное предложение Шафирова об уступках, визирь, плавно махнув рукой, заметил вскользь:
– Ну, завтра мы ведь это получим и без ваших уступок…
Только после того, как Шафиров, ласково глядя, заявил, что имеет сообщить визирю с глазу на глаз нечто совершенно чрезвычайное, Мехмет заметно оживился, отослал приближенных и велел подать кофе. Но сесть царскому министру Шафирову покамест не предложил.
Кофе был выпит в молчании, нарушаемом лишь смачным причмокиваньем пьющих.
– Замечательный напиток, – в последний раз взглянув на золотоглавого дракона, сказал Шафиров, и визирь в знак признательности за похвалу чуть наклонил голову.
– Вы правы, господин министр, – гортанно выговаривая французские слова, сказал визирь. – Но вы, мне кажется, хотели говорить об огне.
– И да и нет, – переступив с ноги на ногу, живо возразил Шафиров. Ему с трудом верилось, что этот любезный, говорящий по-французски и напоминающий многими манерами англичанина турок может приказать насадить его, Шафирова, на кол. – Огонь быстро вспыхивает и быстро гаснет, как и военная слава. Есть вещи куда более долговечные, чем огонь.
– Например? – поднял брови визирь.
– Золото, – уверенно, с нажимом сказал Шафиров. – Мы как раз собирались платить жалованье офицерам, и наша казна блестит, как самородок.
– Вы опытный человек, господин министр, – сводя и разводя перед собою пальцы рук, сказал визирь. – Вы ведь не можете не понимать, что завтра, ну, послезавтра этот самородок привезут в мой шатер, вот сюда. – И Мехмет легким жестом указал, куда именно – на большой ковер, посреди шатра. – Что еще вы хотели мне сказать?
– Драгоценности царицы вдвое, если не втрое дороже всей казны, – пробормотал Шафиров. – Одна диадема…
– Я ее получу вместе с головой Ее Величества, – мягко, почти весело вставил Великий визирь.
– С мертвой головой… – уточнил Шафиров.
– Что вы этим хотите сказать? – снова поднял брови Мехмет.
– Почти ничего, – сказал Шафиров. – У царицы необычайно красивая белая шея, и я на миг представил себе ее голову отделенной от туловища.
– Ах, да… – рассеянно сказал визирь. – Я много слышал о вашей царице. Говорят, она красивая женщина.
– Она необыкновенная женщина, – наклонившись вперед, но не трогаясь с места, шепотом сказал Шафиров. – Поэтому царь Петр сделал ее царицей.
– Да что вы говорите! – Визирь улыбнулся сизыми старческими губами и тоже немного наклонился к Шафирову, как бы ожидая подробностей, о которых не принято говорить во весь голос. – Чем же она так необыкновенна? И почему, действительно, ваш царь женился на пленнице?
«Действительно, почему?» – со злостью подумал Шафиров и сказал, опустив глаза:
– Другой такой нет во всем свете. Эти руки, эти божественные руки! Эти губы – полные, чуть-чуть приоткрытые! – Он украдкой взглянул на турка и увидел, что тот слушает внимательно, наставив ухо. – А грудь, грудь! Она как два холма, между которыми помещается райская долина… – Шафиров умолк, подыскивая подходящие слова. – Я клянусь вам, нет мужчины, который, глядя на царицу, не испытал бы волнение крови.
– И вы? – легко спросил турок. – Вы тоже?
– И я тоже… – сказал правду Шафиров. – Но мне, – он горько выделил это «мне», – бессмысленно об этом и мечтать.
– Вот как! – то ли с сочувствием, то ли с иронией сказал визирь. – Да вы садитесь, садитесь вот сюда.
Шафиров опустился на ковер и с трудом подобрал под себя ноги. Сердце его гулко колотилось, во рту было сухо, как в полыхающей печи. Если турок не посадит его на кол, Петр за такие разговоры собственноручно отрубит ему голову. «Шатхен[1]1
Шатхен (евр.) – сват, в переносном смысле – сводник.
[Закрыть] – всплыло в его памяти почти стершееся еврейское слово. – Грязный, вонючий шатхен!»
– Женщина дороже золота, дороже славы, – жалко и сладко улыбаясь, сказал Шафиров. – Такая женщина.
– Но какая же – такая? – уже с жадным любопытством спросил визирь.
– Вы – солдат, мой господин, – торжественно изрек Шафиров. – И я скажу вам как мужчина мужчине: царица Екатерина Алексеевна и мертвеца способна поднять из могилы. Но – живая Екатерина Алексеевна!
– Она большая? – продолжал спрашивать визирь. – Белая?
– Большая, белая, – подтвердил Шафиров. – Многие герои за одну ночь с ней отдали бы жизнь. А вы, мой господин, сохраните жизнь тысячам ваших солдат, познаете ни с чем несравнимое мужское счастье и в придачу получите драгоценности царицы. И казну! – поспешно добавил Шафиров, видя, что визирь улыбается саркастически.
– И Азов, и Таган-Рог, и еще кое-что, о чем мы еще поговорим, – продолжая улыбаться, сказал визирь и пропустил седую бородку сквозь кулак. – Так вы говорите…
– Да, да, – угадал Шафиров. – Славой вы покрыли себя в боях, но победить русскую царицу вы можете только с ее собственного соизволения.
– Вы приведете ее сюда? – покусывая губы, спросил визирь. – Когда?
– Ради чести отечества она пожертвует своей честью, – мучительно выговорил Шафиров. Лицо его покрылось мелкими капельками пота, он вынул большой белый платок и приложил его ко лбу.
– Так когда же? – нетерпеливо спросил визирь.
– Ночью, – сказал Шафиров. – Это, разумеется, составит секретный параграф нашего соглашения.
– Секреты хранятся в железном сундуке, – жестко сказал визирь. – Но и железо против времени не выстоит, господин министр.
– Военная слава со временем меркнет и превращается в исторический анекдот, – в тон ему продолжал Шафиров, – а победа над женщиной, одержанная вовремя, может изменить течение истории. И вы сегодня ночью, мой господин, войдете в историю куда прочней, чем могли бы войти завтра утром, под гром пушек.
Они замолчали, глядя в разные стороны. Шафиров потрясенно думал о том, что не согласись с ним турок или Екатерина – и завтра придет конец Петру, и русская история свернет на другую дорогу и, скорей всего, полетит в очередной раз вверх тормашками. А Мехмет, потягивая дым из кальяна, размышлял над тем, что этот жирный русский министр наверняка считает его, Великого визиря, варваром и восточным дураком – а ведь он на старости лет просто хочет спать с необыкновенной царицей Екатериной, вот и все.
– Кофе! – отвалившись от кальяна, крикнул Великий визирь и ударил в ладоши.
Грохот турецких пушек вдруг пресекся, как перерубленный топором. Из-за реки еще тявкнула раз-другой какая-то далекая пушчонка, а потом смолкла и она. На русский лагерь обрушилась ночная глубокая тишина, и эта внезапная тишина более всего удивила фельдмаршала Шереметева.
Не в силах влиять ни на что – ни на ход турецкого удушения, ни на шафировские переговоры, – фельдмаршал, попивая чай, праздно сидел в своей палатке. Опытный военный, он отдавал себе отчет в том, что дело проиграно бесповоротно, что только чудо может спасти царя, остатки армии и его самого, Шереметева. Но в чудеса он не верил. Да и чего, собственно, он мог желать, спустись вдруг со звездного южного неба чудо на своих шелковых крыльях? Плена вместо смерти? Но Шереметев был старым человеком, прожившим ослепительную жизнь и уставшим от этого огненно-золотого блеска; к смерти он относился почти по-товарищески. Сидя над своим чаем, в темноте палатки, он с благодарностью к Богу предчувствовал наступление покоя – и он улыбался. Турецкий плен с его неизбежной новизной, с его волнениями и, весьма возможно, изрядными физическими неудобствами никак его не устраивал. Плен в двадцать лет, ну в тридцать – это еще куда ни шло, это опыт, но для усталого и больного старика смерть куда предпочтительней плена. И, в конце концов, кому еще, как не фельдмаршалу, надлежит умереть в сутолоке побоища, под аккомпанемент артиллерийской канонады? Потягивая чай и размышляя таким образом, Шереметев вполне смирился с подступающей смертью и был готов к ней.
Поэтому грянувшая тишина, нарушив его планы, безмерно удивила фельдмаршала. Вытянув шею, он придирчиво вслушался; тишина была полной. Десятки тысяч людей в Петровом лагере, и там, у турок, и за рекой недоверчиво слушали сейчас, вместе с русским полководцем, нежданную тишину.
Поспешно поднявшись из-за стола, Шереметев натянул парик и вышел из палатки. До шатра Екатерины было рукой подать, но он не вошел туда. Кряхтя, опустился он в прохладную траву под старым вязом, в виду шатра, и прислонился спиной к надежному и дружелюбному стволу дерева. Чем вызвано прекращение огня? Этот вопрос мучил его, не отпускал, как зубная боль. Как ни прикидывал, как ни переставлял он возможности – вывод получался один: капитуляция. Но не мог же, не мог жид Шафиров по собственному усмотрению решиться на такое! Да и царица не могла. Нет, впрочем, могла: немка, баба… Шереметев вспомнил взятие Мариенбурга, вспомнил пленную служанку пастора Глюка – услужливую и гладкую девочку Марту, хотел улыбнуться – и не смог. Кто бы тогда предположил, что девять лет спустя эта пленница, выуженная фельдмаршалом из-под унтер-офицерской телеги, будет решать судьбу России? Покачивая головой в растрепанном парике, он перевел глаза с царицыного шатра на темный и немой, как надгробье, шатер Петра.
Граф Головкин подошел неслышно, остановился около фельдмаршала. Обернувшись, Шереметев встретил вопрошающий взгляд хозяина дипломатического ведомства и пожал плечами.
– Не знаю, граф, – сказал Шереметев и, описав рукою полукруг, словно погладил тишину перед собой. – Просто ума не приложу…
– Но это Шафиров?! – полуспросил Головкин.
– Кому ж еще быть! – сказал Шереметев. – Он…
– Что он дал взамен! – уже не адресуясь к фельдмаршалу, а – к тишине, сказал Головкин. – Что он мог им дать!
Шереметев снова пожал плечами и уставился в землю.
– Скоро узнаем, граф, – сказал Шереметев, помолчав. – Он мимо нас не пройдет.
Так они ждали довольно долго, почти не разговаривая друг с другом. Ни один из них не мог бы сказать с уверенностью, сколько времени они прождали здесь, под деревом. Когда наконец появился Шафиров, они вышли из тени и встали на его пути.
С откинутой на короткой шее головой, он смотрел на них вызывающе, почти презрительно.
– Ну, что? – нетерпеливо спросил Головкин. – Почему они прекратили стрелять?
Шафиров сжал губы в ниточку, засопел и еще дальше откинул голову.
– Я прошу вас, господа, запомнить эту ночь, – торжественно, в нос сказал Шафиров. – В эту ночь я спас Россию! Я!
Шереметев скептически улыбался, отвернувшись в сторону. Ну, Шафиров, ну, жид! Может, и вправду, спас… Но зачем же сопеть, зачем словами такими бросаться? Это только царю позволено – не какому-то там жиду. А еще дипломат! Ведь эти слова Головкин, начальник его, ему до самой смерти не забудет!
– Объясните, – сухо сказал Головкин.
– Я дам отчет о переговорах Ее Величеству, – обронил Шафиров и двинулся было к шатру.
– Не валяйте дурака! – уже зло сказал Головкин. – Я вам приказываю: говорите! Вы слышали?
– Вы настаиваете? – спросил Шафиров. Выпуклые его глаза победоносно поблескивали в темноте.
– Несомненно! – избегая глядеть на своего заместителя, сказал Головкин.
– Мы возвращаем Азов, жертвуем таганрогскими укреплениями, – сказал Шафиров. – Продолжать?
– Раз начал, так уж и кончай! – шепотом прикрикнул Шереметев. – Что еще?
– Государыня должна подтвердить соглашение, – раздумчиво наклонив голову к плечу, сказал Шафиров. – Все пункты соглашения.
– Вы не в своем уме, – пожевав губами, сказал Головкин. – При чем тут государыня? Царь подпишет соглашение, если пожелает… Что с вами, Шафиров?
Отставив ногу, Шафиров ковырял землю носком башмака. Губы его были сложены в трубочку.
– Это требование Великого визиря, – сказал Шафиров. – Государыня Екатерина Алексеевна должна сейчас, немедленно прибыть в его ставку. Или через три часа начнется штурм. – И добавил, мстительно сощурив глаза: – Вы мне приказали говорить – я говорю. Но Великий визирь не настаивал, чтобы это требование было доведено до вашего сведения.
– Да как же это ты язык себе не отрубил! – отступив на шаг и перекрестившись, простонал Шереметев. – Государыню! Под бусурмана!
– Под мужика можно! – сквозь зубы пробормотал Шафиров. – Под тебя можно! А под бусурманина – нельзя!
– Да как у тебя язык повернется ей сказать-то! – продолжал причитать Шереметев.
– Русский язык не повернется, а жидовский повернется, – холодно и отчетливо, словно бы разнимая слова по косточкам, сказал Головкин. – Ступайте, Шафиров. Ее Величество, надо полагать, ждет вас.
Шафиров чувствовал облегчение, как будто гора у него с плеч свалилась: чудовищная, идиотская и страшная тайна не принадлежала больше ему одному, он не должен был таскать ее в себе, как заряженную артиллерийскую бомбу.
Всю обратную дорогу из турецкого лагеря эта тайна фамильярно и нагло подмаргивала ему своими блудливыми глазами: «Пришел твой звездный час, дипломат Шафиров! Тебе обеспечено место в Истории – если не как мудрому книгочею и политическому комбинатору, то как удачливому своднику. И потомки до скончания веков будут ломать голову над тем, почему Великий визирь выпустил в последнюю минуту горло Петра из своих мягких пальцев». Шагая следом за приставленным к нему для сопровождения агой, Шафиров ловил себя на желании подойти к первому встречному коню или кусту, прижаться губами к чему бы ни попало и прошептать в совершеннейшем восторге: «Фунт сладкого царицыного мяса – вот истинная цена этого мира!» Тайна была потрясающа и вместе с тем предельно проста, куда проще смазных сапог. Тайна уходила корнями в прохладную великолепную древность, и поэтому казалась еще более живой и ароматной: господин и госпожа, мужик и баба. И весь этот железный мусор – усовершенствованные пушки, дальнобойные фузеи и секретные метательные ножи – ничто, пустой звук рядом с тем, что перед рассветом будет делать с царицею Великий визирь. Вот цена мира, цена жизни десятков тысяч людей и российского будущего: жидовская башка и немецкая шахна. А разговоры о невиданном доныне прогрессе и о полезных изменениях человеческой натуры – не более как барабанные упражнения; и вот голый пример.
Тайна клокотала в Шафирове, как кипяток в самоваре. Тайной надлежало поделиться хоть с человеком, хоть с конем, скорей разомкнуть натужно сведенные уста – и тем освободиться от внутреннего, распирающего напряжения… Перекинувшись несколькими словами с Головкиным и Шереметевым, Шафиров как бы выпустил избыток пара и почувствовал облегчение, но вместе с тем и страх: главный, чудовищный разговор с царицей лишь предстоял.
Екатерина ждала Шафирова, сидя в том же кресле, в каком он оставил ее, уходя: она, по-видимому, не ложилась. Ровный свет двух свечей на столе и третьей из угла, шандальной, на высокой бронзовой ножке, освещал круглое белое лицо царицы и ее плотные плечи, вольно откинутые на мягкую спинку кресла. Увидев вошедшего посла, она движением нежного полного подбородка указала ему на стул близ себя. Шафиров сел, наклонившись вперед – маленький рядом с этой беременной и отечной, и все же принадлежащей как бы к другой, особой породе людей женщиной в тяжелом платье, украшенном жемчугами по подолу и коротким, до локтей, рукавом. И он почувствовал жалость к ней и раскаяние – таким немощным показался ему по сравнению с этой совершенной детородной машиной старый турецкий визирь, к которому она по его, Шафирова, замыслу должна была сейчас отправиться, старательно, как купленная прачка, его обнимать, греть его обтянутую сухой кожей плешивую голову вот на этих двух мощных полушариях, налитых горячей молочной силой.
Шафиров нагнулся еще ниже, сполз на пол и встал на колени перед царицей.
– Мы спасены, Ваше Величество, – опустив голову, сказал Шафиров. – Быть может, мы спасены…
– Санкт-Петербург? – быстро спросила Екатерина.
– Упаси Бог, – сказал Шафиров, – вовсе нет!.. Но визирь требует жертву более тяжкую. Поверьте, Ваше Величество, куда легче было б расстаться с Санкт-Петербургом, чем…
– Чем – что? – Екатерина застучала, зацокала пальцами по подлокотнику.
– Город можно отвоевать, или новый построить, – глухо сказал Шафиров. – А тут…
– Да говорите же! – пришлепнула ладонью Екатерина.
– Язык не поворачивается сказать, Ваше Величество, – вспомнив Шереметева, выдавил Шафиров. – От вас визирь требует жертвы, от вас!








