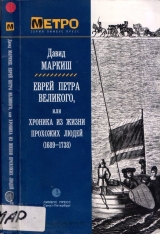
Текст книги "Еврей Петра Великого (Роман)"
Автор книги: Давид Маркиш
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
– Ну, тут-то никакой помехи бы не было! – воскликнул Рене. – Жидовочка в меня влюблена без памяти.
– С чего это ты взял? – недоверчиво покосился Растопчин.
– Я знаю женщин, – наклонив голову к плечу, сказал Рене Лемор. – Я по одному взгляду могу определить.
– Спорю на дюжину шампанеи – ты там ничего не добьешься! – покраснев, крикнул Туляков.
– А ты, Туляков, на этом сладком деле, кажется, уже хватил горечи! – прищурился из-за Марфуткина плеча Никита Кривошеин. – Добавляю к спору еще дюжину.
Растопчин подумал и тоже прибавил полдюжины.
– Мне это что-то не нравится, – сказал Гагарин. – Она, в конце концов, не собака, не лошадь и не дворовая девка. Она почти из нашей среды. Да и жид Лакоста – не Вытащи и не Кабысдох, хоть и шут.
– Но ведь это только шутка! – безмятежно улыбнулся Рене. – И потом мы все вместе разопьем шампанею здесь, в Шалашке. Послезавтра, а? Вечером?
– Ну, это мы еще поглядим… – процедил Туляков.
Появление дико улыбавшегося Головина и огромной Агашки – круглолицей, раскрасневшейся – положило конец этому спору.
Гости разъехались в четвертом часу утра.
Востроглазый Семен явился с доносом к Дивьеру в половине девятого.
Дивьер разыскал Лакосту в шесть вечера.
А за час до этого, в пять, крытый возок отъехал от Лакостовой избы. В возке бок о бок, тесно, сидели Рене Лемор и Маша. В ногах у седоков помещался сундучок с Машиными вещами на первую надобность. Рене Лемор ехал налегке.
– Ну, вот, – сказал Рене, когда возок, миновав окраинные кособокие бараки, въехал в тяжелую тьму лесной дороги, раскисшей от дождей, скользкой. – Вот мы почти и счастливы, как я обещал: тьма, тесный возок и мы, Машенька, в этой уютной тесноте – чужие этой варварской стране и потому такие близкие друг другу. Прекрасная Франция ждет нас!
Машенька шмыгнула носом и едва удержалась, чтоб не расплакаться. Франция ждет! Ждет родовой замок благородного кавалера Рене Лемора, ждут его добрые родители, которые никогда не узнают, что она, Машенька, – дочь шута!.. И до огненного жжения было стыдно перед отцом, перед шутом Лакостой.
А Рене Лемор вдруг, со сладким спазмом в горле, поверил в то, что кто-то где-то его ждет, что в несуществующем замке несуществующие слуги готовят брачные покои для возвращающегося из варварской России молодого хозяина. Ему так хотелось в это верить, вот он и поверил! Они только переночуют на омерзительном постоялом дворе, а потом поедут в прекрасную Францию, где столько великолепных замков и преданных, предупредительных слуг.
– Мы поженимся, как только приедем во Францию! – совершенно искренне сказал Рене. – Вот увидишь, мои родители тебя полюбят. Летом мы будем жить в замке, а зимой – в Париже, в нашем дворце.
– Ты себе даже не представляешь, как ужасно быть дочерью шута, – сказала Машенька благодарно. – Все шушукаются за твоей спиной, как будто ты дочь палача…
– Поскорей позабудь об этом! – решительно предложил Рене, и ему показалось, что, действительно, в его силах оградить Машеньку от ядовитого шепота – и так он непременно и сделает. – Теперь ты мадам Лемор, и я сумею тебя защитить… Почти мадам Лемор, – мягко и значительно поправился он и, взяв руку девушки, поцеловал ее пальцы, а потом запястье – так высоко, как позволял огорчительно узкий рукав платья.
Наткнувшись на преграду в виде рукава, Рене сообразно обстоятельствам сменил тему и легко, увлеченно заговорил о рукавах, вырезах, кружевах и подолах, мужских и дамских. Машенька слушала внимательно: надо было многому научиться, прежде чем явиться во французский замок.
– Мой батюшка педант по части этикета: переодевается по три раза на дню, даже если гостей никого нет и он один в целом замке, – сказал Рене, решительно отметая неприятные воспоминания о том, что батюшка много лет назад был взят в тюрьму за долги и умер в заточении от разлития желчи.
– Я научусь, – жарко пообещала Машенька, – я всему научусь, вот увидите.
Она испытывала к Рене Лемору захлестывающую безответную благодарность, почти как к Богу – за то, что увозит ее из России во Францию, что женится на ней, шутовской дочке. Она готова была безоглядно сделать для него все, что он захочет – будь то стыдно, позорно или больно. Шута Лакосту, отца, она уже предала ради него – Рене на коленях уговаривал ее не говорить ему ни слова об их тайном отъезде во Францию, и она послушалась: отцу скажут потом, когда приедут в замок и все уже будет позади. И хотя отец будет плакать и рвать на себе волосы – прав все-таки Рене: ведь здесь, в России, кавалер Лемор не может жениться на дочери шута. И если кто-нибудь виноват в том, что произошло и еще произойдет, – так это он сам, отец: зачем стал царским шутом, зачем сделал дочь отверженной и несчастной? Конечно, это он во всем виноват!
К постоялому двору подъехали в совершенной тьме. На стук дверь замызганной избы отворил сонный хозяин, угрюмо корябавший патлатую голову. «Вшей тут наберешься, – озабоченно подумал Рене Лемор. – А то своих не хватает…»
Следом за хозяином, несшим сундучок, они вошли в тесную каморку с дощатыми стенами, не достающими до потолка. Кроме них, на постоялом дворе никого не было. Хозяин, покачивавшийся то ли со сна, то ли по нетрезвому делу, грохнул сундучком об пол у широкого топчана, застланного линялым лоскутным одеялом.
– Плата двойная, – сказал почему-то хозяин.
– Ладно, ладно! – прикрикнул Рене Лемор. – Ишь, ты! Ступай отсюда…
Лавки здесь не было, поэтому Машенька присела на краешек топчана. Так хотелось очутиться сразу в замке, минуя этот мерзкий и страшный постоялый двор! Но она не решилась сказать об этом Рене Лемору.
А Рене вдруг заторопился, стал суетлив. Ни о кружевах он больше не заговаривал, ни о замке.
– Духота здесь, – сказал Рене. – И воняет чем-то… Завтра встанем чуть свет, поедем дальше. А ты ложись, ложись пока, я отвернусь.
Подбежав к лучине, он наклонился над ней и прицельно плюнул. Лучина зашипела и погасла.
В безысходной тьме Машенька откинула одеяло и поползла по широкому топчану к бревенчатой стене.
– Одежду сними! – сухо, как чужой человек, указал Рене.
Машенька послушалась, подчинилась. Она не испытывала ни стыда – темно ведь, ни страха, ни любопытства. Стягивая платье, она с коротким, сдавленным вздохом подумала о том, что надо, все же надо было сказать отцу об отъезде во Францию – и тогда, наверно, эта грязная изба не показалась бы ей такой грязной и отвратительной. А потом затрещал топчан, как будто на него свалилось с неба бревно, и неприятно холодные руки Рене пошли гулять по Машенькиному телу – походя стискивая, царапая, раздвигая.
Машенька проснулась от стука посуды в соседней большой комнате, от звука голосов. Серый свет мерцал в окне, затянутом тусклым бычьим пузырем.
Машенька была одна на топчане, одна в каморке. Натянув повыше одеяло и оглядевшись, вглядевшись в сумеречные углы, она позвала:
– Рене!
И дверь тотчас приотворилась, и в проеме появилась патлатая голова хозяина.
– Уехал твой Хрене, – глядя дерзко и насмешливо, сказал патлатый. – Вставай, барынька, плати да поезжай.
– Как уехал? Куда? – опешила Машенька.
– А вот не доложился! – Патлатый осклабился, в чащобе бороды сверкнули отменные волчьи зубы. – Взял возок да и поехал… Деньги-то у тебя есть – платить?
– Сейчас, – сказала Машенька. – Минуточку только…
Она не готова была ни топиться, ни вешаться. Она хотела сейчас только одного: вернуться домой, к шуту Лакосте, к отцу. И, торопя время, глядела она, как патлатый рылся в ее сундучке, отбирая одежку в уплату за ночной постой.
Домой, в Санкт-Петербург, она добралась после полудня. Лакоста – растрепанный, с тяжелыми красными глазами – молча обнял дочь и, пряча от нее лицо, несколько раз крепко, до боли сжал веки.
– Ничего… – сказал Лакоста. – Ничего…
Руки его легко перелетали с головы дочери на ее плечи, обратно на голову, на щеки. Машенька вспомнила рыскающие руки Рене и заплакала.
– Ничего, ничего… – повторял Лакоста. – Я все устрою, деточка. Я все сделаю.
– Он обещал… – сказала Маша, едва смыкая плачущие губы. – А я… А теперь…
Он дождался ее, свою Ривку, увидел ее живой. Теперь он знал точно, что ему следует делать.
– Не надо об этом говорить, – попросил он. – Иди к себе, поспи. И, знаешь – плачь!
Доведя дочь до порога ее комнаты, он затворил за ней дверь, удовлетворенно прислушался к двойному стуку сбрасываемых башмачков – и вдруг преобразился: движения его стали крадущимися и стремительными. Скользнув к овальному большому зеркалу в золоченой раме, он, пристально глядя, пригладил руками волосы, ощупал набрякшие подглазья и с силой провел ладонями от лба к подбородку, как бы наново формуя отекшее от бессоницы и слез лицо. Затем, легко откинув горбатую крышку сундука, зажегшимся взглядом прошелся от рукояти до тусклого острия абордажного палаша – давнишнего подарка Дивьера. Серебристый палаш, как хищная опасная рыба, лежал на волнистом куске сочно-синего утрехтского бархата, и это было красиво; и Лакоста холодно это отметил.
Он закрыл сундук и с улыбкою, бормоча что-то себе под нос, прошелся по комнате. В нем словно бы раскручивалась огромная мощная пружина, и все его движения подчинялись этой неостановимой пружинной силе: от дочкиной двери мимо зеркала, мимо сундука, и вот эта проходка по комнате, и Бог знает, на сколько еще рассчитан завод… С развивом накинув плащ, Лакоста повернулся на каблуках и вышел из дома.
Дивьер, настоящий друг, еще вчера помог ему всем, что было в его силах: назвал имя кавалера Рене Лемора, начертил планчик с указанием дома кавалера, и как к нему пройти. Вкладывая свернутый в аккуратную трубочку планчик в руку Лакосты, Дивьер сказал негромко, но с нажимом:
– Дуэли запрещены государем под страхом смертной казни обеих сторон. Кроме того, кавалер Лемор лучше тебя владеет оружием: он учился, ты – нет… Хороший вариант – утопить его в реке, и концы в воду.
– Я попробую… – хрипло сказал Лакоста. – Но, Антуан, как его выманить из дома к реке?
– Это один из вариантов, – терпеливо наклонил голову Дивьер. – Другой: подстереги его перед хутором Еловый Шалаш, по московской дороге. Действуй дубинкой или палкой с железной шишкой на цепочке, как простой грабитель. Остальное сделают волки.
Просить Дивьера о чем-то большем, чем дружеский совет, Лакоста не собирался. Придерживая хлопающий на сыром ветру плащ, он отправился к Вытащи.
Вытащи жил на берегу Куликова болота, в просторной чистой избе. В красном углу, под образом, под ровно светящейся лампадкой, покачивался на веревочке пучок душистых засушенных трав. Озадаченно глядя на нежданного гостя, Вытащи пригладил стриженные в скобку волосы, а потом вежливо почесал грудь.
– Заходи, что ль… – сойдя наконец с порога, сказал Вытащи. – Садись вот.
– Я по делу, – не садясь, сказал Лакоста. – Ты мне можешь помочь? Помочь – можешь?
– Помочь? – возвышаясь над гостем, переспросил Вытащи. Его никто и никогда не просил о помощи, и он был озадачен и приятно встревожен. – А что ж… Как помочь-то?
– А вот, – коротко объяснил Лакоста. – Мы сейчас пойдем к одному человеку, и ты ему скажешь: «Шут Лакоста вызывает тебя на дуэль». Запомнишь? «На дуэль».
– Драться, что ли, с ним хочешь? – посветлел Вытащи. – Да ты мне только скажи – кто, я ему голову оторву! Я тебе помогу!
– Нет! – отвел Лакоста. – Я сам должен. Спасибо тебе.
– А он – что? – спросил Вытащи. – Обидел тебя, или как? – В этом чистом доме голос его звучал участливо и тревожно.
Лакоста подошел к столу, сел, покусал губы.
– Он дочку мою… испортил… – сказал Лакоста.
– Чего сидишь-то? – надвинулся Вытащи. – Пошли тогда!
Лакоста, горбясь напряженно и поглядывая исподлобья по сторонам и в оконце, за которым чугунными пластами катилась Нева, ждал в сыром углу кабака, в пяти минутах хода от дома, где квартировал кавалер Рене Лемор. Ждать пришлось недолго: швырнув дверь, Вытащи ввалился в помещение.
– Эй, кто там! Казенки штоф! – приказал Вытащи, обнаружив Лакосту в его углу.
Лакоста, сплетя над столешницей ладони, вертя большими пальцами, вопросительно глядел. Вытащи сел, громыхнув лавкой.
– Так что он передал, – строго сказал Вытащи: – Дворянин с шутом драться на дуэли никак не может. Нельзя.
– А еще что? – расплетя руки, Лакоста дотронулся до плеча Вытащи. – Ну, вспомни!
– А я помню, – наклонил голову Вытащи. – Он сказал: «Шута надо учить не шпагой, а палкой».
– Хорошо, – удовлетворенно пожевал губами Лакоста. – Я так и думал…
– Давай выпьем, – сказал Вытащи, наливая. – Это и меня, значит, палкой? Да об меня палка обломится!
– Я так и думал… – улыбаясь, повторил Лакоста. – Шута – палкой, а благородного кавалера можно учить палашом.
– Кнут всех подряд одинаково дерет! – со знанием дела заметил Вытащи. – Главное, чтоб хвост не размок; тогда хорошо.
– Шут – не человек, – продолжал Лакоста. – Шут – жаба, мразь. Шута – палкой! А чадо его – это для лакомки сласть особая, с пряностями… Вот ты – тебя ведь Степаном зовут?
– Степаном звали Медведем, – степенно подтвердил Вытащи.
– У тебя, Степан, семья есть? Дети?
– Не дал Господь, – просто объяснил Вытащи. – Поломойка ходит, чистая женчина.
Они выпили, захрустели крупно нарезанным луком.
– Ты хлеб-то бери! – посоветовал Вытащи. – Солью вот посыпь и ешь.
– Я к тебе пришел, просить тебя, – откусывая от ломтя, сказал Лакоста, – потому что мы, в сущности, одинаково несчастные люди. Ну, я, в придачу, еще и жид. Зато ты – кнутмейстер. Но, прежде всего, мы с тобой – шуты!
– А что, в жидовской земле или в какой другой шуту лучше? – с надеждой спросил Вытащи. – Я так думаю, что везде одинаково; такое дело.
– Что это значит – шут? – не слушая, продолжал свое Лакоста. – На службе ты – шут, а дома? Вон я у тебя дома был, разве ты в своей избе – шут? Или мы с тобой, Степан, только наполовину шуты? А нас все презирают, всякий час, всякую минуту, и смеются не над шутками нашими – над нами самими!
– Смеются, – признал Вытащи. – Плевал я на это… – И, смачно сплюнув на пол, растер плевок огромной ногой.
– Наливай! – сказал Лакоста. – Вот ты скажи мне, скажи мне, Степан, ты чувствовал когда-нибудь, что люди на тебя смотрят, как на зверя какого? Тебе это как: неприятно, тошно?
– Со мной никто не разговаривает, – проглотив водку и глядя на Лакосту доверчиво, сказал Вытащи. – Поломойка одна…
– Весь род наш проклят, – нависнув и покачиваясь над столом, сказал Лакоста. – Проклят! Мы прокаженные, мы и наши дети. Нельзя нам иметь детей! У тебя вот нет, Степан, и тебе лучше, чем мне.
– Поломойка не хочет, – вздохнув, сказал Вытащи. – Я уж ее и Христом-Богом просил, и бил, и по-всякому… Детишку-то сладко иметь маленькую, это и волк понимает. А мы хоть и шуты, а все же как бы человеки.
– Вот ты верно сказал – «как бы человеки»! – горестно вскинулся Лакоста. – «Как бы» – значит, плюнуть можно, палкой стукнуть…
– Ну, это каждого можно, – перебил Вытащи. – Очень даже просто.
– Значит, нам еще хуже, – сказал Лакоста. – Нам только одно остается: бежать. Вот и Ривка бежать хотела с кем попало, куда глаза глядят… Это ведь так нам понятно, Степан!
– Постой, постой! – насторожился Вытащи. – Куда бежать-то? Я тут родился, тут мое место. Бежать! Чем горе на чужбине мыкать, так лучше дома!
– Свое место… – тихо сказал Лакоста. – А у меня и этого нет. Как я сюда зашел мимоходом, так и уйду дальше.
– Да ты что! – жарко дыхнул Вытащи. – Да ты куда! Да если кто тебя пальцем тронет, я с того всю кожу сдеру – только скажи! Вот как крест свят…
– Спасибо тебе, Степан, – сказал Лакоста и обнял Вытащи за каменные плечи.
Востроглазый Семен был сосредоточен в этот вечер более обычного: шампанея была заказана во множестве, и хозяин Шалашка терпеливо ожидал необыкновенного буйства, вплоть до мордобоя. Туляков вот уже битый час молотил перед собою кулаками и кричал, никому не давая рта раскрыть:
– А я вам говорю, что ничего у него не вышло! Жидовка закрылась на замок! Шут пожаловался государю!
Никита Кривошеин возражал рассудительно:
– Ну, не получилось – потом, может, получится. Вот и прелестная Марфутка того же мнения.
– А я попрошу не спорить! – как личную обиду принимал возражения Туляков. – А я лучше знаю! Жидовка лучше повесится!
Только Агашка могла бы угомонить расходившегося Тулякова – но она объелась за обедом пельменями, страдала желудочными коликами и отказалась выйти к гостям. Известие об Агашкином раздутии не прибавило радости сосредоточенному Семену. Он, конечно, не виноват, что именно в его Шалашке, а не в другом месте, этот дохлый французишка пообещал клюнуть дочку проклятого шута – но Дивьер, когда Семен явился с доносом, погрозил пальчиком. Пальчиком погрозил! А что это значит, каждая собака знает в Санкт-Петербурге: в другой раз ножкой топнет, и заберут заведение в казну, и пойдет Семен с котомкой по дворам просить Христа ради хлебные огрызки. А то и на Урал погонят с колодкой на шее, на железорудные заводы.
Время шло, гости галдели и пили все подряд, Агашка пукала в сенном сарае, а кавалер Рене Лемор все не появлялся. Туляков устал кричать и хмуро сидел. Девки скучали без дела по углам залы и слушали заумные речи мужчин как далекую чужеземную музыку, китайскую или персидскую.
– Опасное явление это кумирство, – выпив и причмокнув, сказал Растопчин. – Взять хотя бы вот жидовку: стройна, смугла, губки коралловые, все мы о ней говорим в положительном смысле, а Туляков так и головой за нее готов рискнуть… А ведь пройдут годы и станет она серая и морщинистая, груди у нее усохнут и отвиснут, зубы выпадут, коса вылезет, зато на подбородке вырастет бородавка с пучком волос, – и вот уж никому не интересна, никому не нужна, каждый ей вслед норовит плюнуть: «Ступай, бабка, иди своей дорогой!»… И вот, господа, как только я подумаю жениться – обзавестись, иными словами, постоянной кумиркой, – мне приходит в голову такая противная старуха: «Иди, иди, бабка! Кыш!» И я не женюсь.
– Ну, тут уж ничего не поделаешь! – развел руками Гагарин. – И мы от годов не без урона.
– Новое время пришло, – пересаживая Марфутку с правого колена на левое, сказал Никита Кривошеин. – А которое еще новей – то в дороге. И вот завтра придет какой-нибудь старик с палкой, нищий и жидкий в ногах, зато хитрован и болтун, и скажет: «Я знаю, как каждому голодному дать по куску мяса, а каждому несчастному – по кульку счастья». И все людишки за ним похромают, а кто не пойдет, тех утопят в реке. Вот этот жидкий старик и будет – кумир!
– Ну, подлил ты мраку, Кривошеин! – досадливо поморщился Растопчин и треснул себя ладонями по крепким круглым коленям.
– Рене, Рене пришел! – закричал Гагарин, оборачиваясь к заскрипевшей двери.
Туляков набычился, пьяно уставился на дверь.
Через порог шагнул чернявый мужик, держа под мышкой свою скрипку.
– Вот, черт! – выругался Гагарин. – Да куда он делся!.. Давайте выпьем, что ли!
– А мне овса, – сказал Туляков. – Овса мне!
Семен, не удивясь ничуть, слетал в амбар и вернулся с оловянной тарелкой с овсом.
Туляков набрал овса в горсти, посыпал им голову и сказал горько:
– Я лошадь!
Лошадь Рене Лемора, чавкая по крутой грязи, шла дорожной обочиной, вдоль черных мокрых елок. Смеркалось, сырой сумрак пополам с тяжелым туманом стлался низко над лесом. Рене сидел в седле, свесившись на левый бок. Еще немного – и за последним поворотом на Шалашок можно будет пустить измотанную гнусной дорогой кобылу рысью.
На самом повороте из леса, как леший, выдвинулся одетый в черную аптекарскую одежду всадник и встал, перегородив дорогу перед самой мордой леморовской кобылы. Кобыла безразлично остановилась и свесила голову. Черный всадник резко наклонился вперед, ударил Рене Лемора в бок рукояткой абордажного палаша и вышиб его из седла. Вслед затем он и сам живо спрыгнул в дорожную грязь и помог сброшенному подняться на ноги.
– У меня ничего нет! – сказал Лемор, прижимая ладони к ушибленному боку. – Я бедный иностранец!
– У вас есть шпага, молодой господин, – сказал Лакоста. – Или вы предпочитаете учить шута палкой? Тогда возьмите палку!
– Но я же сказал, что не хочу с вами драться, – отступая и держа шпагу эфесом вперед, сказал Рене Лемор. – Я не могу! Это просто глупо! Я дворянин…
– А я – шут, – размахивая палашом, сказал Лакоста, – Защищайтесь, или я зарублю вас, как простого мужика.
– Я женюсь на ней! – вскрикнул Лемор, морщась от свиста клинка над своей головой.
– Ей – рано, – проворчал Лакоста, замахиваясь. – Тебе – поздно.
Тогда Рене сделал выпад, и острие его шпаги оцарапало руку Лакосты пониже плеча. И в тот же миг палаш Лакосты обрушился на его шею.
Петр вытачивал из слонового бивня коробочку для английских облаток, помогающих от почечных колик. Наклонив голову к плечу и прищурившись, он придирчиво вслушивался в ровный ход токарного станка, установленного под большим окном мастерской. Он любил эту комнату под самой крышей дворца, не слишком большую, но и не тесную, светлую и уютную. И сегодня, вернувшись с похорон жены сына – принцессы Софии-Шарлотты, скончавшейся в послеродовой горячке, – он первым делом поднялся сюда, в мастерскую. На похоронах было невыносимо душно и чадно, зыбкая церковная полутьма неприятно укачивала, многолюдная шушукающаяся толпа раздражала. Обязательные соболезнования звучали неискренне. Пьяный уже третий день, овдовевший царевич Алексей не скрывал над гробом облегчения: брак с принцессой, заключенный четыре года тому назад по велению Петра, оказался неудачен, жена тяготила Алексея. Хорошо еще, что он по пьяному делу не привел в церковь эту свою девку, худородную Ефросинью: с царевича все могло статься… После отпевания у Петра разболелась голова, и привычная, тянущая боль наполнила правый бок, пониже ребер. Рассеянно оглядывая толпу, царь раздраженно думал над тем, что может он возразить сыну, отстаивающему перед ним толстомясую Ефросинью: ведь и мачеха Екатерина не на троне родилась. Своеволен царевич Алексей и упрям, да умом недалек – в мать вышел характером, в Евдокию Лопухину. Нашел, щенок неразумный, с кем сравнивать свою Фроську!
Потерев крышку коробочки о рукав кафтана, Петр потянулся к приставному столику за новым резцом. Вдоль стен мастерской помещались в резных ларцах и сундуках наборы инструментов плотницких, столярных и токарных, привезенных из Голландии, Германии и с Британских островов, присланных со всех концов света дружественными и злокозненными правителями, знавшими вкусы московского царя. Слева от окна, в углу, стоял застланный персидским ковром диван, к нему примыкала стойка с гнездами для полудюжины разноразмерных и разновесных дубинок. Самая маленькая из них, размещенная в крайнем левом гнездышке, напоминала скорее небольшую изящную трость; самой же большой, грозно болтавшейся в правом гнезде, можно было умеючи уложить корову или лошадь.
У двери, сонно помаргивая, лежала на вытертом шелковом одеяльце любимая царева собачка Лизетка. В головах дивана, сбоку от него, возился в деревянном ящике с высокими бортами Кабысдох, одряхлевший и впавший в детство. Поседевший карла то тянул унылую колыбельную песню про серого волка, то вдруг принимался ругаться и трясти свой ящик.
Немногие из приближенных царя имели доступ в эту комнату. Войти сюда было честью, выйти на своих ногах – удачей.
Пел станок, пел Кабысдох в ящике. Наклонив голову и сверяясь с рисунком придворного гравера Зубова, Петр вырезал на крышке коробочки змею над чашей. На рабочем столике, на мягкой белой тряпочке, горели зеленым огнем два мадагаскарских изумрудика – змеиные глаза.
Покачиваясь на своих кривых ногах, Лизетка поднялась с подстилки и, рыча, подошла к двери. В дверь постучали.
– Шут Лакоста, Ваше Величество! – доложил дежурный офицер.
Петр, продолжая резать, коротко кивнул головой.
Обнюхав башмаки Лакосты, Лизетка поплелась на свое место.
– Позвольте, Ваше Величество, – прозвучал тихий голос шута, – принести вам поздравления по случаю рождения внука. И соболезнования по поводу кончины принцессы Софии-Шарлотты Вольфенбюттельской.
– Ты зарубил француза? – все так же не оборачиваясь, спросил Петр.
– Я, Ваше Величество, – сказал Лакоста, глядя в затылок царя.
– Ты знаешь, что тебе за это полагается? – Петр отложил наконец коробочку, обернулся и кругло, не мигая, уставился на шута. Отвисающие подглазные мешки царя наливались серым.
– Знаю, Ваше Величество, – сказал Лакоста и вздохнул. – Но он соблазнил мою дочь.
– Ну и что, дурак! – дергая головой, закричал Петр. – Она лучше других?
– Хуже, Ваше Величество, – тихо сказал Лакоста.
Оглядывая щуплого шута с ног до головы, царь боком, прыгающей походкой подошел к стойке с дубинками. Взяв одну, из середины, он прикинул ее вес и вернул обратно в гнездо: тяжела. Вторая слева, с инкрустированной золотой проволокой ручкой и обтянутой черной кожей головкой соответствовала живому весу и комплекции шута.
– Повернись! – приказал царь и, размахнувшись, ударил Лакосту дубинкой по спине.
Лакоста присел от удара и закрыл голову руками. Царская дубинка гуляла по плечам, по бокам, по рукам посетителя: Петр бил, не выбирая места.
– Вот ты жид, почти немец, а дичей последнего холопа, – закончив и утирая лоб рукавом, а потом большим полотняным платком, сказал Петр. – Ты человека убил своей волей!.. Сядь вон на диван.
– Каждый день на площадях убивают людей, – с трудом садясь, сказал Лакоста. – Разве это – новое?
– То по моей воле, – строго, но без злобы сказал Петр. – Царствовать – значит учить, и я учу моих людей: кого лаской, а кого – казнью. Люди передо мной в ответе, а я перед Богом.
– Но это ведь люди, не звери! – жалобно возразил Лакоста. – Каждый человек по-своему думает…
– Да, это люди, – садясь рядом с Лакостой, сказал Петр. – Но – мои люди, как мои пальцы, ногти, волосы. Это тебе трудно понять, шут. Да и не только тебе.
– Я это хорошо понимаю, Ваше Величество… – скороговоркой пробормотал Лакоста.
– Каждый человек внутри себя либо вор, либо бездельник пустой, – продолжал Петр. – И не воруют люди только лишь по лености натуры или по злому умыслу. Кто не ворует – того опасаться следует вдвойне!
– Человек – злодей! – убежденно сказал Лакоста, с удивлением сознавая, что не испытывает к царю ни обиды, ни злобы за битье – как к дубинке с кожаным колпачком, которою был бит. – В детстве он бабочкам крылышки отрывает, стрекозам головы откручивает, вешает кошек – младенческая жестокость, кровавый интерес. А вырастет – убивает себе подобных: развитое, совершенное злодейство. И ничто его от этого не может уберечь, кроме власти, кроме царской руки.
– Значит, понимаешь! – кивнул Петр. – А француза зарубил! А сказал бы мне – я б его жениться заставил!
Лакоста упрямо молчал, уставившись на притихшего Кабысдоха.
– Если царская рука послабление себе позволит, – рывком встав с дивана, сказал Петр, – не только людишки – вся эпоха озвереет! Верно ты сказал: начнется с жуков да с кошек, а кончится человекоистреблением ужасным. Это в Голландии – законами, а у нас палкой надобно погонять людей.
– Когда-то и в Голландии палкой погоняли, – не подымая головы, сказал Лакоста.
Петр подошел, за уши отвел назад Лакостову голову, сказал, близко глядя ему в глаза:
– Если б я три жизни прожил – может, научил бы наших русаков жить по разумным законам. А мне отведена – одна, да и та через вас к концу идет!
Отпустив Лакосту, он подошел к станку и тронул приводное колесо.
– Уходи, шут, – сказал он, глядя в окно. – Не хочу с тобой говорить: умен ты, а не свой… Ишь ты, голландские законы! Кто в них тут поверит, когда и сам я уже не верю.
Услышав мягкий стук затворившейся за Лакостой двери, Петр подошел к ящику Кабысдоха, опустился на корточки и принялся толкать, ворошить дремлющего карлу острой щепкой.








