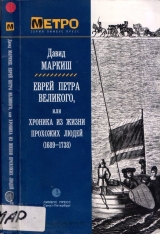
Текст книги "Еврей Петра Великого (Роман)"
Автор книги: Давид Маркиш
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
10
ЦАРЕВИЧ. 1717-1718
Над Веной билась, зацепив ее крылом, типичная восточноевропейская непогодь, отвратительная и бесшабашная. Перед лицом дикой степной гостьи австрийская столица выглядела испуганной и отчасти даже жалкой: стремительные порывы ветра несли в себе хриплое дыхание Азии. Казалось, из взвихренной, слоистой тьмы вот-вот высыпятся орды косоглазых всадников, поскачут со всех сторон к императорскому дворцу, к Собору, к Грабенштрассе.
Град сыпал на Грабенштрассе как из ведра, ледяные ядра дерзко стучали в окна особняка российского резидента Авраама Веселовского. Веселовский, только что вернувшийся от вице-канцлера Шенборна, намерзшийся и продрогший, грел зад у камина овальной гостиной, с письмом в руке. Письмо было из Санкт-Петербурга, от двоюродного дяди Петра Павловича Шафирова.
«Милый Абраша, – писал Шафиров, – побег царевича продолжает беспокоить Государя сверх всякой меры. В этом злосчастном происшествии он усматривает связь с замыслами своих еще уцелевших противников и поэтому придает делу первостепенное значение. Всякий, хоть сколько-нибудь причастный к этому преступлению или сыску, находится под пристальным наблюдением, – и ты, разумеется, из первых. Гвардии-капитан Александр Румянцев, посланный тебе в помощь, доносит о каждом твоем шаге. Если ты сумеешь добиться выдачи царевича, либо похитить его, либо, на самый крайний случай, вообще бесследно от него избавиться – тебя ждет богатая награда и дальнейшая блестящая карьера. В противном же случае, при неблагоприятном стечении обстоятельств, ты подвергнешь смертельной опасности себя и своих братьев Исаака и Федора; один только Яшка ходит в любимчиках князя Меншикова и ему ничего не грозит. Мое положение, как ты знаешь, достаточно прочно, но и я от твоего падения могу впасть в жестокую опалу».
Прочитав про грозящую опалу, Веселовский придвинул кресло поближе к огню, сел, закурил трубочку и усмехнулся задумчиво. Не зря беспокоится дядюшка Петр Павлович, не зря! Да и не один он, надо думать, беспокоится в Санкт-Петербурге, и как раз это и доказывает, что есть у царевича Алексея шансы на выигрыш. У него друзья не только в России остались – вот и австрийский двор его укрывает, и шведский Карл его поддержит, и, может, турки. Россия устала от реформ, Россия язык на плечо свесила, задыхается – тут не только царевич Алексей, а и самозванец пришлый, проходимец ветреный, рискнув, дотянется до трона. И кто ему помешает, тот лишится головы. А кто поможет, даже незаметно, – тот возвысится. Не надо мешать, и это и будет помощью! И тогда всем будет хорошо: и Исааку, и Федору, и даже Яшке, не говоря уже о таком опытном и всенеобходимом человеке, как дядюшка Петр Павлович. Тут ведь речь идет не о том, что Алексей разрешит русским людям носить бороды, а на солдат снова натянет стрелецкие кафтаны, – речь идет о будущем России, а значит, о будущем Швеции, Турции, Польши. Царевич, став царем, отдаст, пожалуй, старым владельцам и Северные, и Южные морские ворота. Впрочем, может, и не отдаст: цари отличаются от царевичей. Но какое, в сущности, дело братьям Веселовским до того, кто будет сидеть на русском троне? Кто к ним, братьям, более благоволен, тот пусть и сидит, с Божьей помощью… А Алексей, в его положении, даст, пожалуй, больше, чем его отец. На обещания он, во всяком случае, не скупится.
«Коллеге моему, – читал далее Веселовский, – вице-канцлеру Шенборну намекни, что дальнейшее тайное укрывательство царевича Алексея в австрийских пределах может привести к весьма нежелательной для целой Европы русско-австрийской войне. Государь посылает к вам в Вену для тайных переговоров Петра Толстого, и если его миссия закончится неудачей, война станет неизбежной… Письмо это по прочтении уничтожь не мешкая».
Прочитав еще раз на выборку несколько фраз, Веселовский аккуратно разорвал листок на четыре части, бросил в камин и, поворошив прах кочергой, потянулся к шнурку звонка. В ответ на звяк колокольчика дверь овальной гостиной отворилась и вошел лакей.
– Кто принес письмо? – спросил Веселовский.
– По виду иностранец, – стоя навытяжку, доложил лакей. – Он отогревается в кухне.
– Позови его! – сказал Веселовский.
Посланцем Шафирова оказался старый еврей в капоте, в островерхой черной шляпе, из-под которой ниже ушей свешивались седые косицы пейсов.
– Ты из Санкт-Петербурга? – с сомнением в голосе спросил Веселовский. – Ты там получил письмо?
– Нет, с вашего позволения, – часто мигая красными старческими глазами, ответил еврей. – Я торгую клеем в Варшаве. Письмо мне передал один еврей из Смоленска… Вы можете не беспокоиться: наша еврейская почта работает даже лучше английской королевской!
– Ты знаешь, от кого это письмо? – немного помешкав, спросил Веселовский.
– Я же говорю, – наклонив голову и пожимая плечами, сказал старик, – от одного еврея из Смоленска. Он торгует кошерным мясом.
– Значит, это кошерный торговец послал мне письмо? – втягиваясь в игру, переспросил Веселовский.
– Совершенно верно, рэб Абрам, – помигал старик. – Вы же знаете, его зовут Рувим. Он торгует кошерным мясом и птицей.
– Ах да, – сказал Веселовский. – Ну конечно… – Он вдруг вспомнил семейную легенду о том, как Петр Павлович Шафиров торговал когда-то одежкой в Панских рядах и подрался там из-за краденой шапки с будущим князем Меншиковым. – Значит, Рувим?
Старик развел руками и улыбнулся.
– Ну, пусть будет Рувим! – сказал старик.
– Ты можешь здесь переночевать, – предложил Веселовский.
– Нет, с вашего позволения, – отклонил старик. – У меня есть еще поручение-другое от Рувима.
Проводив старика глазами, Веселовский позвонил лакею.
– Скажи там, чтоб заложили коляску, – сказал Веселовский. – Я еду во дворец.
Но поехал он не во дворец, а к вице-канцлеру Шенборну, на дом. А гвардии-капитан Александр Румянцев, уведомленный лакеем, отправился во дворец, искал близ него коляску резидента Веселовского и не нашел.
Шенборн – рослый розовый старик с длинными руками и большими ногами – отличался завидным здоровьем и образцовой невозмутимостью, вошедшей в пословицу. Он был, действительно, доволен совершенно всем: пищеварением, женой и любовницей, службой и международным положением Австрийской империи. Выражался он, как на службе, так и в семейном кругу, слогом красивым и звучным, но отнюдь не тяжелым; его умение говорить ставили в пример, и это было ему приятно. Слово «справедливость» он употреблял столь же часто, как «воздух» или «хлеб». Между тем, именно «справедливость» было понятием, категорически и совершенно не принимаемым вице-канцлером Шенборном всерьез.
Поздний визит Веселовского вначале несколько раздосадовал вице-канцлера. Этот русский резидент прибыл явно не вовремя: Шенборн был занят делом ответственным и кропотливым. В теплом колпаке, в потрепанном домашнем халате, никак не соответствовавшем служебному положению хозяина, вице-канцлер принимал роды у роскошной персидской кошки Фатьмы. Виновником создавшегося положения был голубоглазый красавец Султан – подарок персидского шаха австрийскому императору Карлу VI. Немалых трудов и дипломатических уверток стоило Шенборну уговорить императора согласиться на кратковременный союз Султана с Фатьмой. Карл, тайно интриговавший на Востоке, дорожил шахским подарком, а среди претендентов, помимо вице-канцлера, значились три министра, включая военного, и один князь. Каждому лестно было хотя бы и таким косвенным путем породниться с императором, достойно обронить в кругу гостей: «Исключительной красоты котята, не правда ли? Это детки Султана, да-да, того, разумеется, императорского…» Но Карл весьма дорожил родственными связями, выбирал вдумчиво и котом своим не разбрасывался. Шенборн упрашивал и уговаривал императора полтора месяца. Последний аргумент был такой: «Я стар, Ваше Величество, не за горами тот печальный день, когда я вынужден буду просить Ваше Величество разрешить мне выйти в отставку… Удовлетворение моей нижайшей просьбы я сочту знаком высочайшего расположения, наградой, которая значительно укрепит мои силы на службе Вашему Величеству».
Когда наконец сопротивление было сломлено, Султана доставили к Шенборну в дворцовой карете, в сопровождении офицера дворцовой охраны и двух лакеев. В результате этого визита Фатьма затяжелела, и вот наступил день ее разрешения от бремени. Происшествие это, разумеется, перерастало в разряд событий ответственных и в своем роде исключительных. И именно в этот день и час пожаловал, не спросясь, русский резидент Веселовский. Неудивительно, что вице-канцлер Шенборн досадовал.
Любопытство, однако же, очень скоро взяло верх над досадою, тем более, что Фатьма, пока Веселовский маялся в прихожей, успела благополучно окотиться. Что, какие неожиданные новости привели царского резидента в неурочный, столь поздний час? Шенборн не сомневался ни минуты, что причиной тому – царевич, но ведь не далее как сегодня, он, Шенборн, битый час толковал с Веселовским на эту тему и ничего нового к недосказанному прибавить не мог.
– Входите, мой друг, входите! – разогнувшись над голубым бархатным, замаранным мерзкой слизью пуховичком, сказал Шенборн. – Не правда ли, исключительной красоты котятки? Это детки Султана, да-да, того самого, разумеется, императорского…
– Действительно, само очарование, – брезгливо косясь на голые слепые комочки, охотно согласился Веселовский.
– Вы уж меня извините, я по-домашнему, – запахивая халат, сказал Шенборн. – Не сочтите за неуважение, упаси Бог!
– Ну что вы! – с широчайшей улыбкой на костлявом энергичном лице возразил Веселовский. – Это я врываюсь к вам, как тать ночной… Поверьте, исключительные обстоятельства привели меня к вам в такой час, в такую непогодь.
– Верю, верю! – добродушно отмахнулся большой рукой хозяин, показывая тем, что ночной наскок нисколько его не потревожил.
– Я только что, уже после нашей сегодняшней встречи, получил чрезвычайное послание из Санкт-Петербурга, – сказал Веселовский и, словно бы ища письмо, суетливо похлопал себя по карманам.
Шенборн, поджав губы и задумчиво хмурясь, следил за его действиями: последний фельдъегерь прибыл из России третьего дня, содержимое его сумки было известно вице-канцлеру. Кто ж привез послание, да и было ли оно вообще?
– Забыл! – воскликнул гость, и хозяин понимающе покачал головой. – Запер в стол и в последнюю минуту забыл… Но я помню его наизусть – те части, во всяком случае, которые я считаю необходимым по-дружески вам передать.
Хозяин готовно придвинулся к гостю вместе с тяжелым кожаным креслом и, облапив подлокотники, подался вперед. Глаза его под крутыми надбровными дугами, вольно заросшими рыжими бровями, сделались внимательны.
– Речь идет об известной вам персоне, – почти шепотом, но твердо и отчетливо выговаривая слова, сказал Веселовский. – Дальнейшее тайное пребывание названной персоны в крепости Эренберг, в Тироле, приведет к скорой и неизбежной войне между нашими странами… Поверьте мне, я говорю вам это с болью, говорю как друг.
– Но, мой дорогой, – живо откликнулся Шенборн, – я рассматриваю визит этого милого молодого человека в Тироль как сугубо частное предприятие! Вы меня просто поразили, потрясли вашим сообщением. Война! Сейчас! Чего ради?
– Вот именно, – терпеливо кивнул Веселовский. – Ради чего?
– Но любое решение, разумеется, должно исходить от самого молодого путешественника, – продолжал Шенборн. – Мы не вправе его удерживать, равно как и навязывать ему маршрут. Но если, скажем, после тирольских песен он соблаговолит послушать неаполитанские романсы…
– Ну конечно, – снова кивнул Веселовский. – В конце концов, как бы в дальнейшем ни сложились обстоятельства, куда приятней в такую погоду сидеть в Италии, чем в Тироле. Поверьте, я желаю вашему гостю всяческих благ…
– А я это знаю, – беззастенчиво глядя на русского резидента большими голубыми глазами перебил Шенборн.
– Да, да… – смутился, смешался на миг Веселовский. – И я прошу вас, ваше высокопревосходительство, ради общего блага разрешить мне встречу с нашим путешественником. Я готов хоть сейчас скакать в Эренберг.
Опершись о подлокотники, Шенборн легко поднялся из кресла и, посмеиваясь, прошелся по комнате.
– Чудесные, действительно, котятки, – склонившись над измаранным пуховичком, сказал он. – Но ваш господин Румянцев не прыток, нет не прыток! – Подойдя к гостю, Шенборн близко заглянул ему в лицо и довольно улыбнулся, показывая крупные желтые зубы. – Как же это он вам не донес, что путешествующая персона, пресытившись горным покоем, вот уже второй день как в Вене! Отчитайте, отчитайте гвардии капитана Румянцева: зря ему жалованье платят.
– Значит, и нужды нет ехать в Тироль, – не отводя глаз, сказал Веселовский. – А что до Румянцева, то я с вами совершенно согласен.
– Война! – вновь принявшись ходить по комнате, словно бы сам с собою говорил Шенборн. – Такая война не принесет никому из нас ничего, кроме орденов. А справедливость! Не вовремя начатая война не может считаться справедливой, в то время как ни у кого не вызывает сомнения справедливость войны, начатой в подходящее время. И разве можно забыть о справедливейших интересах этого несчастного скитальца, этого милейшего молодого человека, столь ужасно попранных! И кем, кем попранных? Родным отцом!.. Такой пример может поколебать монархическую гармонию во всей Европе… Что вы сказали?
– Война поколеблет европейскую гармонию в еще большей степени, – сказал Веселовский, и не думавший прерывать вице-канцлера, а, напротив, слушавший его, боясь пропустить хоть слово.
– Ах, война! – беспечным тоном откликнулся Шенборн. – Ну, ее нетрудно избежать.
– Итак, – провожая взглядом вышагивающего хозяина, сказал Веселовский, – где и когда я могу встретиться с царевичем?
– Здесь, – резко остановившись, сказал Шенборн. – Сейчас… Если, разумеется, мой гость еще не спит. И я прошу вас, мой дорогой, не утомлять его политическими разговорами: в этой области наш юный друг, к сожалению, еще не силен.
– Мудрые советы вашего превосходительства обогатят и нищего, – внятно пробормотал Веселовский, выходя из гостиной вслед за хозяином.
Царевич Алексей стоял у высокого сводчатого окна своей комнаты во втором этаже шенборновского особняка и, отведя гардину тонкого белого шелка, глядел на улицу. Темень перед домом была проницаема: усовершенствованные масляные фонари горели ровным желто-золотистым светом… Вспомнив буйную тьму кривых московских улиц, царевич вздохнул, отпустил гардину и вернулся к низкому резному столику, на котором стояла пузатая бутылка порто, бокал тонкого стекла и серебряная ваза с сахарным печеньем.
В сущности, было бы замечательно завести в Москве такие вот фонари, такие гардины и бокалы. Но Москва шиш получит, отец все хорошее, все лучшее забирает к себе в Санкт-Петербург – а Москва пусть в грязи сидит, грязью умывается. Отец Москву ненавидит, ненавидит! И его, Алешу, ненавидит, и его мать, Евдокию Лопухину, и вообще всех Лопухиных. А кого он не ненавидит, кого любит? За что мать в монастырь сослал, в Суздаль? Променял ее на немку свою, на Катьку-портомою. Он одних немцев и любит, подголосков своих, а чуть кто за русское, за благостное вступится – тому голову с плеч… Ну, и его русские люди ненавидят: сидит, как пугало, в своем Парадизе. Родного сына решил власти лишить, Божьего наследства – ан нет, не получится, не выйдет! И из Руси Немецкую слободу устроить не выйдет! Вон дедушка Алексей Тишайший по морям, как рыба-кит, не плавал, в Царьград да к шведам на рога не лез – а на Руси тишь была да благодать, дай Бог нынче… Фонари! Да хоть бы и во мраке кромешном – а в Москве, в Кремле, на золотом троне, и чтоб рядом – мать, страдалица несчастная, суздальская черничка. Сначала жену в монастырь заточил, а теперь настроился и сына головой в клобук сунуть! Ну, да ничего. Господь поможет праведным – вытащим мать из медвежьей глухомани, спасем, а народ нам за это ноги целовать станет: народ любит униженных, покаранных безвинно. И Апраксин, и Стрешнев, и Шафиров-жид с нами пойдут: у них у всех от Меншиковых пирогов животы пучит. А Санкт-Петербург закроем, сроем: там не столица, там отец Петр Алексеич не на святом троне сидит, а на складной голландской табуретке.
Это ведь только подумать: сына родного, законного наследника – в монастырь! Правильно, вот правильно Кикин сказал, верный друг: «А хоть бы и в монастырь – клобук-то не гвоздем к голове прибит». Правда и из монастыря выйдет на свет Божий, и из тюрьмы, – только надо ей помочь. А помощники у нас есть, помощники и за правое дело готовы потрудиться, и за богатую награду. Правда да награда – они вместе должны идти.
Маслянистое, терпкое вино заметно убывало в бутылке. Царевич пил с охотой, с удовольствием. После третьего бокала отошли, рассеялись сомнения, тревожившие душу: поддержит ли Шереметев со своею воинской силой, с кем пойдет канцлер Головкин? Осталось только одно, незыблемое: животный страх перед отцом, перед его бешеным взглядом.
В дверь постучали тихонько, любовно.
– К вам гость, Ваше Высочество! – послышался приподнято-веселый, как всегда в разговорах с царевичем, голос Шенборна. – Не спите еще?
– Пожалуйста! – откликнулся Алексей («Вот гнусный Шенборнишка! Что он мне вечно как дураку ненормальному поет!»). – Прикажите еще вина, такого же, бутылку.
Пропуская Веселовского, Шенборн выразительно шевельнул толстыми рыжими бровями: пьет молодой путешественник, закладывает за воротник.
– Я вас, с вашего позволения, оставлю одних, – не отпуская дверной ручки, сказал Шенборн. – Вот русский язык одолею, тогда уж вместе вволю наговоримся… А вино сейчас подадут.
Ступая неслышно, он бегом спустился с лестницы и растолкал спавшего уже мирным сном своего специального секретаря по русским делам Вильгельма Крузе. Этот молодой человек был поселен в доме вице-канцлера под видом приезжего племянника позавчера – как только стало известно о приезде царевича из Эренберга.
– Беги наверх, – шепотом приказал Шенборн, – в соседнюю с Алексисом комнату. Слушай и записывай. Запись разговора принеси мне сразу, как уйдет гость… Ну, живо!
Царевичеву комнату соединяла с соседней тайная дырка, скрытая картиной, на которой изображена была Диана в окружении диких зверей. По другую сторону дырки стоял вплотную к стене стол с письменными принадлежностями. За этот стол, пробежав по скрадывающему шум шагов ковру, и сел молодой человек Вильгельм Крузе, фигурировавший в выплатных ведомостях Антуана Дивьера под кличкой Водонос.
– Садись, Авраам, в ногах правды нет, – сказал Алексей, указывая на кресло против себя. – Ты дядьку моего знаешь, Лопухина? Его тоже Авраамом звать, как тебя.
– Встречать не встречал, Ваше Высочество, только слышал, – рассчитано опускаясь на краешек кресла, сказал Веселовский.
– Сиди, сиди свободно! – заметил Алексей. – Придет время, я тебя, может, по правую руку посажу. – Он, на миг опустив глаза, улыбнулся. – Как Шафирова!.. А ты, я слышал, тоже из жидов?
– Крещен, Ваше Высочество, – чуть поджал губы Веселовский. – Дед мой еще крестился в православную веру, царствие ему небесное…
– Ну что ж, – глядя безразлично, сказал Алексей. – А хоть бы и жид – что ж поделать: ты ведь в этом не виноват. Да и среди вас людей хороших много: купцы, врачи, или вот хоть тебя взять.
– Врачи замечательные! – оживился Веселовский. – Если бы в Россию пригласить человек пятьдесят-шестьдесят еврейских врачей, и чтоб они там школу врачебную открыли…
– Они и зубы лечат? – перебил Алексей, страдавший зубами.
– И зубы, Ваше Высочество, – подтвердил Веселовский. – Ведь если человек здоров, он и служит лучше, и спрос с него больший, а государю от этого польза. – Он искоса взглянул на царевича, недоверчиво ища в его лице понимание и интерес.
– А что ж, – одобрил Алексеи, – и пригласим. И особый врачебный приказ можно учредить, для надзора над болезнями… Вот тебе я бы такой приказ и отдал.
– Благодарствую, Ваше Высочество!.. – смешался Веселовский.
– А что ж! – продолжал Алексей. – Ты вот говоришь: врачи. Мать моя, царица Евдокия, кишечной болью которой год уже мается. Смогут твои врачи ее вылечить?
– Опытнейших найду, – зачастил Веселовский, – знаменитейших! А покамест, Ваше Высочество, если поподробней узнать о состоянии здоровья Ее Величества, можно и на расстоянии совет дать и лекарством помочь.
– Как лекарство-то пошлешь? – вздохнул Алексей. – В Суздаль?
– Я найду, как! – воскликнул Веселовский. – У меня есть торговые люди, они хоть куда доберутся!
– Я маму мою люблю, – выставив костлявые кулаки на стол, раздельно произнес Алексей. – Ей, несчастной, кроме меня, во всем мире никто не поможет. Если ты, Авраам, доброе дело для нее сделаешь – я тебе этого не забуду, вот как Бог свят! – Он привычно взглянул в угол и, не найдя там иконы, снова повернулся к Веселовскому. Лицо его было взволнованно и мрачно.
– Сделаю, Ваше Высочество, все сделаю! – пробормотал Веселовский, с внезапным страхом глядя в гневные, налитые упрямой ненавистью, петровские круглые глаза.
Вошел лакей в аккуратном паричке, с подносом. Приседая на сильных, обтянутых свежими белыми чулками ногах, он поставил на столик, между собеседниками, бутылку вина и бокал.
– Я бы сейчас водки с тобой выпил по-нашему, по-русски, – сказал Алексей, наклоняя бутылку над бокалами, – да хозяина не хочу просить: скажет – пьяница… А ты чего пришел?
– Поберегите себя, Ваше Высочество! – привстав с кресла, понизил голос Веселовский. Привстал по ту сторону стены и молодой человек Вильгельм Крузе и приблизил ухо к дыре. – Не выезжайте без охраны из Эренберга, чужих к себе не допускайте! И не возвращайтесь в Россию до срока…
– Я знаю, отец меня уничтожить хочет, – тускло, без страха и без злобы сказал Алексей. – Но не только у него сила… А тебе спасибо, Веселовский: ведь ты мне, пожалуй, государственную тайну открыл, а?
– Я эти сведения получил по своим каналам, не государственным, – ударяя на «своим», сказал Веселовский. – По этим каналам и лекарство пойдет в Суздаль.
– Кто предупредил тебя? – продолжал спрашивать Алексей. – Врагов своих я знаю, хочу знать и друзей.
Дипломат Веселовский не задержался с ответом ни на миг:
– Это маленький человек, Ваше Высочество, – дворцовый лакей. Лакеи часто знают не меньше своих хозяев… Из Санкт-Петербурга едет сюда Петр Толстой – опасайтесь его: у него есть приказ доставить вас к отцу.
– Не поеду! – откинувшись в кресле, крикнул царевич, как будто Петр Толстой уже стоял перед ним и требовал его возвращения.
– Позвольте дать вам совет, Ваше Высочество, – немного подождав, сказал Веселовский. – В Эренберге вам оставаться опасно. Если Шенборн предложит вам переехать в другое место, подальше отсюда, – соглашайтесь.
– Предложит! – обиженно, как-то по-детски фыркнул царевич. – Разве же он предлагает! Он диктует!.. Когда ты пошлешь своего человека в Суздаль?
– Завтра же утром, Ваше Высочество, я займусь этим делом, – сказал Веселовский и поднялся из-за стола.
По дороге домой, на Грабенштрассе, он размышлял над тем, за что царь Петр отрубил бы ему голову, если б узнал о содержании его разговора с сыном: тайно вступил в сговор с бунтовщиком, открыл приезд Петра Толстого, назвал царицей ссыльную Евдокию Лопухину.
Вопрос «За что?» давно уже перестал жечь инокиню Елену – бывшую царицу Евдокию Лопухину, мать наследника Алексея. Разве что в первый из девятнадцати ссылочных суздальских лет молодая женщина искала ответ на этот наивный, вечный вопрос брошенных – а потом стойкая ненависть к мужу-мучителю вытеснила из ее души и робкие предположения, и позорные догадки. Сладкие воспоминания более не тревожили ее. Не найдя своей вины в происшедшем – а искала придирчиво, перебирала день за днем, ночь за ночью все девять лет брака! – она всю вину возложила на Петра. И теперь она желала и ждала одного: смерти мужа, воцарения сына.
Сын, вопреки запрету отца, посылал иногда матери нежные письма, подарки. Сын, сев на трон, по справедливости отомстит многим, а прежде всего кровавому монстру Ромодановскому, оскорбителю. Как он, монстр, мучил тогда, истязал: «Царь тебя больше не хочет. Уходи сама в монастырь, состриги волосы с головы – не то и голову с волосами потеряешь!» Не согласилась царица Евдокия, не поддалась ни уговорам, ни угрозам. И увезли ее в Суздаль силком, как арестантку.
Меж тем Петр, избавившись от жены, вовсе о ней позабыл – как будто никогда ее и не было, как будто царевича Алексея, наследника, под капустой в огороде нашли или аист его принес в клюве. Доставивший опальную царицу в Суздальский монастырь Семен Языков, осмотрев отведенную ей келью, остался, кажется, доволен и ускакал обратно в Москву. Никаких новых распоряжений относительно узницы из столицы не поступало, и начальство заштатного монастыря вскоре оставило ее в совершенном покое: она поменяла убогую монашескую одежду на мирскую и, сидя в своей келье, кормилась пищею, присылаемой родней и друзьями. Коротко говоря, Евдокия, отказавшись от пожизненной службы Богу, сделалась пожизненной привилегированной арестанткой. Из всех строгих указаний, привезенных Семеном Языковым, оставалось в силе лишь одно: запрещение матери вступать в общение с сыном, сыну – с матерью. И за соблюдением этого запрета внимательно следили из Москвы, а затем из Санкт-Петербурга.
Появление в Суздале бродячего рыжего коробейника Янкеля вызвало настоящую сенсацию – как если бы въехал в город индийский царь на слоне и в алмазной шапке. Дело было в том, что город Суздаль никогда еще, со дня своего основания, не видел ни индийского царя, ни еврейского мелочного торговца – Янкель забрел сюда первым. И если об алмазном индийце суздальские лапотники имели все же отдаленное представление, то явление пейсатого рыжего коробейника в черной капоте поразило их как гром с ясного неба. Ликующие дети бежали за Янкелем, осыпая его градом шишек и небольших камней, а взрослые осеняли себя крестным знамением и незаметно сплевывали через левое плечо: черный гость смахивал почему-то на беса. Жидовина в торговце признали не вдруг, поначалу никто не знал, кто таков Янкель и из каких отдаленных пределов пожаловал в Суздаль – и эта неопределенность и таинственность тоже подсыпали перца в кашу. К моменту водворения рыжего Янкеля в торговых рядах весь город уже о нем судачил. И товар его – щепотки пряностей, крестики из святоземельского масличного дерева, бирюзовые сережки и перстеньки, зеркальца в рамках – пользовался повышенным спросом. Подходя к торговцу, капитан Степан Глебов – человек бывалый, бывавший не раз в Москве и Санкт-Петербурге и вхожий к тому ж вот уже десятый год в келью инокини Елены – вдруг приостановился, тихонько хлопнул себя ладонью по лбу и произнес:
– Дак ведь это жид!
Открытие никого особенно не покоробило: жид так жид! Толпясь вокруг коробейника, горожане посмеивались: приняли ведь обыкновенного жида за важнецкую заморскую птицу… Впрочем, было интересно поглазеть и на жида.
Поторговав в рядах, Янкель отправился после обеда по богатым дворам. Там он показывал и другой товар: крестики серебряные, колечки золотые. Перед вечером, по-прежнему сопровождаемый толпой ребятишек, он постучал в монастырские ворота.
Его, с некоторой опаской, но и с любопытством, ждали и здесь. Настоятельнице матери Пелагее предложены были крестики простые и с распятиями костяными и серебряными, а также цепочки к ним различной длины и цены. Самую длинную цепочку с самым красивым крестиком Янкель преподнес недоверчиво косившейся Пелагее со словами:
– Святой товар и жидовские руки не испортят!
Подумав, Пелагея согласилась с Янкелем, подарок приняла, но все же просила его снять ненадолго широкополую черную шляпу. Не обнаружив под ней рогов, настоятельница окончательно успокоилась и разрешила еврею разложить товар для всеобщего обозрения в малой галерее, перед трапезной. Там и застал Янкеля капитан Глебов и, поманив его рукою, повел за собой.
Келья инокини Елены помещалась во втором этаже, в конце коридора. Переступив порог, Янкель остановился и молча поклонился нестарой еще, статной и красивой женщине, читавшей книгу за простым столом, покрытым богатой парчовой скатертью.
– Это тот коробейник, я тебе говорил! – сказал Глебов в ответ на удивленный взгляд хозяйки и, отдуваясь, опустился в кресло у самого входа: подъем на второй этаж был крут, а капитан – тучен.
Комната эта с высоким и мелким сводчатым окном мало чем напоминала келью. Широкая кровать застлана была лисьим одеялом, пол – персидским ковром. Под окном стоял большой платяной сундук вологодской работы. В изразцовой печи в гудящем пламени лениво постреливали дрова. Справа от окна, в углу, в зыбком свете лампадки темнела икона, сверкал золотом и камнями драгоценный оклад.
Стоя перед хозяйкой, рыжий Янкель извлек из своего мешка и опустил на стол потертую кожаную коробку с медными уголками, с висячим кованым замочком. Ключик от замочка он долго ловил за пазухой, наклонялся, шаря рукою под рубахой, и, наконец, поймал с довольной и лукавой улыбкой. Эти его действия позабавили, но слегка и озадачили Евдокию; она приняла маленький узорный ключик со смешанным чувством любопытства и тревоги. Под направляющим взглядом Янкеля она отперла замочек, откинула крышку. В коробке, на куске красного китайского шелка, лежали зеркальца, нитки серого речного жемчуга, круглые серебряные баночки с белилами и румянами. Не спеша покопавшись в этом добре короткими и острыми, холеными пальцами, Евдокия вопросительно взглянула на коробейника. Неприметно поведя жидкой бороденкой в сторону сопящего у двери Глебова, Янкель запустил красные, с въевшейся то ли копотью, то ли грязью руки в коробку и щипком, быстрыми костлявыми пальцами ухватил китайскую тряпку за край и приподнял ее. Под тряпкой, на дне коробки, Евдокия увидела пакет и узнала на нем печать царевича Алексея. Рывком, как от слепящей вспышки света, она опустила крышку – Янкель едва успел отдернуть руки.
– Вещи чудесные, – скороговоркой сказала Евдокия, не выпуская коробки. – Ты мне оставь ее пока, я выберу побольше… Степан! – Глебов повернулся, кресло под ним заскрипело. – Проводи его вниз, у него вон еще товару сколько. И постой там с ним, постой!
Глебов, вздохнув, тяжело поднялся на ноги. Нелегко быть сердечным другом царицы, хотя бы и бывшей.
Воскликнув с легкостью: «Войны нетрудно избежать!» – вице-канцлер Шенборн шутил. Присылка Петра Толстого – дипломата и шпиона, человека страшного – была последней каплей стремительно наполнявшейся чаши: не получится у Толстого – получится, весьма вероятно, у фельдмаршала Шереметева с его полками. Жаль, очень жаль, что ничего не выходит с этим милым несчастным царевичем, со всей этой очаровательной авантюрой. Но подставлять австрийские бока под российские кулаки еще жальче. Петр, как видно, весьма строгий отец, да он, в сущности, и прав: путешествие сына могло бы дорого ему обойтись. А теперь по счету придется платить самому Алексису.








