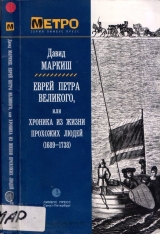
Текст книги "Еврей Петра Великого (Роман)"
Автор книги: Давид Маркиш
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
– Его государевой милостью, – услышал он скрипучий голос Макарова и, поведя глазами, увидел перед собой топор, глубоко врубившийся в плаху рядом с его шеей, – за оказанные им государству услуги, смертная казнь заменяется ссылкою в Сибирь.
Помощник резво соскочил с его ног, другой поднял его с бревна и нахлобучил парик на голову, третий накинул на плечи шубенку. Шафиров плакал, кривя рот. Его свели под руки – почти снесли – по лесенке вниз с эшафота, повели в Сенат выслушивать поздравления с царской милостью. Ноги не слушались его, голова тряслась и моталась из стороны в сторону. В Сенате, в знакомом длинном коридоре, силы вовсе ему отказали, и он, бормоча что-то себе под нос и прижимая руки к груди, к сердцу, сел на пол. Лейб-медик Гови отворил ему кровь. Опустошенно глядя на ее бег, он выговорил негромко, но внятно, и был услышан:
– Лучше было бы, если б выпустили мне кровь из большой жилы, чтобы прекратить мои мучения…
Впрочем, это пожелание было риторическим: царская милость, как и царский гнев, не имеют обратной силы.
Попугай Федя копошился в своей клетке, суетливо переступал с жердочки на пол корявыми мужицкими ногами и укоризненно поглядывал на хозяина: за весь вечер Дивьер не сказал ему ни слова, ни разу не почесал ему лазоревую грудку серебряной чесалкой в форме руки с вытянутым указательным пальцем. Попугай был недоволен.
Был недоволен и Дивьер. Откинувшись в кресле, он разбросал ноги с выпуклыми сильными икрами и следил за ходом часовой стрелки. На столе рядом с золотыми часами стоял жбан имбирного пива и кружка, из которой Дивьер время от времени отпивал. Лакоста должен был явиться с минуты на минуту. Предстоящий разговор с ним тяготил Антуана Дивьера.
Дело как будто было совершенно ясным, единственно возможный выход из положения найден своевременно. Документ составлен предельно убедительно и мягко… Но как объяснить все это Яну? Как подготовить его? «Дорогой Ян, обстоятельства сложились таким образом…» Нет, это слишком сухо. «Дорогой Ян, лучше сегодня проиграть парик, чем завтра – голову…» Тоже не годится, чересчур игриво и колко для Лакосты, человека нежного. Может, начать с Яшки, с его будущего? А какое у него теперь может быть будущее? О, черт побери этот вечер и этот разговор!
Увидев покорно улыбающегося Лакосту, Дивьер подобрался в кресле, поджал губы.
– Садись, Ян, дорогой, – сказал он. – Пива? Вот кружка… Я должен подготовить тебя к одной неожиданности. Ты едешь в ссылку, в Сибирь. Я исхлопотал ее для тебя.
Теперь Лакоста улыбался недоверчиво. Из-за кружки глаза его поблескивали тревожно.
– Если ты сегодня не поедешь в ссылку, – сердито продолжал Дивьер, – завтра тебе отрубят голову. Ну, через месяц. Я знаю, что говорю.
– Но за что? – опуская кружку, спросил Лакоста.
– Какая разница! – удивился Дивьер непониманию Лакосты. – Ссылку я тебе устроил за нерадение по службе: в позапрошлом месяце ты самовольно отлучился в Москву. Через неделю тебя обвинят в том, что ты ездил туда для тайного сговора с государственным преступником Шафировым.
– Но его же помиловал царь! – потерянно возразил Лакоста. – И, потом…
– Его помиловали, а тебя не помилуют, – перебил Дивьер. – Петр Павлович сидит не в Сибири, а в Новгороде и, надо думать, долго там не просидит – вернется. А для тебя, Ян, ссылка – это спасение от смерти.
– А… надолго я туда должен ехать? – спросил Лакоста.
– До освобождения, – сказал Дивьер и, придвинувшись поближе к Лакосте, понизил голос: – Шафиров осужден, Веселовские в бегах, теперь ты… Получается, что один я остался, и это очень заметно. Я не знаю, сколько я продержусь.
– А Яша… – тоскливо сказал Лакоста. – Что с ним будет?
– Пусть пока живет у меня, – сказал Дивьер. – Шафиров вернется – мальчик пойдет к нему. Так лучше для всех.
– Куда я должен ехать? – спросил Лакоста. – И когда?
– Вот предписание, – сказал Дивьер, вынимая из кармана бумагу. – Село Воскресенское, на Байкале. Это, правда, далеко, зато почти безопасно: там о тебе никто не вспомнит, даст Бог. Содержание тебе тоже определено небольшое, чтоб не бросалось в глаза.
– А ты ведь меня, действительно, спасаешь от смерти, – кладя руку на плечо Дивьера, сказал Лакоста.
– Да, – сказал Дивьер. – Хорошо, что ты это понимаешь… Я хотел тебя как-то подготовить, но у меня, наверно, не получилось.
– Еще пять дней… – читая ссылочное предписание, сказал Лакоста. – Туда, наверно, ехать месяца два.
– Около трех, – уточнил Дивьер. – Ты поедешь в повозке, с двумя конвойными. Тут уж ничего не поделаешь.
– Меня посадят на цепь? – робко спросил Лакоста.
– Нет! – усмехнулся Дивьер. – Это я устроил. И конвой – мои люди, они тебе мешать на будут.
– Это все из-за Прута? – помедлив, спросил Лакоста.
– Не только, – глядя в сторону, еле слышно сказал Дивьер. – Прут, Вытащи, Шафиров. Слишком много… Государь иногда не владеет собой, в этом дело. Государь болен, Ян, тяжело болен.
– Это он велел… меня… – выдавил Лакоста.
– К счастью для тебя – нет! – покачал головой Дивьер. – Но нашлись люди, которые ему о тебе напомнили.
– У меня, кажется, не было врагов, – заметил Лакоста.
– Эти люди не хотели сделать тебе плохо, – сказал Дивьер. – Они хотели сделать хорошо себе. Гнев царя одним приносит вред, а другим – пользу. Тот, кто напомнил, рассчитывал получить награду за усердие… Через неделю я доложу государю о том, что ты наказан за плохую службу, и на этом все успокоится.
– А у тебя, Антуан, появится еще один враг, – сказал Лакоста. – Тот, что останется без награды.
– Ну, это не так страшно! – рассудил Дивьер. – Мой час еще не пришел. А придет – какая разница: одним врагом больше, одним меньше.
Они замолчали, каждый всматриваясь в свое перед собою: Дивьер – в непришедший, но уже обозначившийся в пути Час, Лакоста – в село Воскресенское, что на берегу Байкала. Хорошо, что ехать туда можно без колодок, без медвежьей цепи.
– А Шафиров – из-за Прута? – со жгучим, неодолимым любопытством спасшегося спросил Лакоста. – Но, если ты не можешь, Антуан, – не отвечай.
– Из-за Прута, – сведя тонкие брови, сказал Дивьер. – «Плата за Прут» – он сам так и говорил, и, на свою беду, не один раз и недостаточно тихо… Я предупреждал его, Ян. Но эти польские евреи такие самонадеянные, такие спесивые! И так любят высовываться!
– Ему плохо пришлось, – сказал Лакоста. – И в подвале, и там, на площади… Страшно!
– Да! – охотно согласился Дивьер. – Это была скверная шутка. Но, – он привычно перешел на полушепот, – Высочайшая! Я говорю тебе, Ян: Его Величество болен. Возражать ему – значит, подставлять под топор собственную голову. Он всех подозревает, и императрицу тоже. После каждого домашнего скандала он выходит из себя на два-три дня, и тогда летят головы. И голова Екатерины Алексеевны тоже держится только на одной шее.
– Это значит… – Лакоста дотронулся до локтя Дивьера, глядящего мрачно.
– Это значит, – откликнулся Дивьер, – что лучше бы мне всего этого не знать, да и тебе тоже. И еще это значит, что я голоден, как тысяча чертей, и мы сейчас будем есть и пить, много есть и много пить. И что это мы сидим в темноте! Эй! Кто-нибудь! Зажгите свечи! Ужинать!
В комнату стремительно и неслышно вошла Анна Даниловна.
– Одну только минуточку, Антоша! – сказала Анна Даниловна. – Все уже готово давно! Ну, слава Богу – ты хочешь есть, значит, ты здоров. А я уж думала, на тебя лихоимка какая напала негодная!
Лакей поспешно зажигал свечи. Попугай Федя, часто мигая и тряся розовым хохолком, вывалил набок черный квадратный язык, щелкнул клювом и сочно засвистал по-пиратски.
Повозка, запряженная парой лошадей, выехала из Санкт-Петербурга перед полуднем. Позднеапрельское солнце приятно пригревало, густая грязь запеклась и покрылась тонкой ломкой корочкой. Воздух над московской дорогой был насыщен запахом свежей хвои и тем особенным весенним привкусом гниения и зачатия, который заставляет молодых людей думать о бесконечности жизни, а стариков – о близкой смерти.
Лошади быстро брякали копытами по тугой земле, возница, сдвинув шапку на затылок, грел лысину на солнце. Конвоиры, сидя рядышком против Лакосты, обстоятельно рассуждали о ценах на сено и о каком-то офицере по имени Елисей Жубряк. Подъезжали уже к Шалашку.
Мельком взглянув на просеку, ведущую к веселому хутору, Лакоста отвернулся. Какая, действительно, разница, за что ехать в ссылку – за нерадивую службу или за убийство кавалера Рене Лемора! Все это – и служба, и кавалер – осталось уже позади и помещается как бы в ином измерении, где живое необъяснимым образом перевито с мертвым. И каждый прошедший час, и каждая верста весенней дороги навсегда остаются в этом «позади». И все же есть нечто привлекательное в этом долгом и странном путешествии в село Воскресенское, что на Байкале: не надо больше служить грустным шутом, и конвоиры куда менее страшны, чем царь Петр Алексеевич. Лошади тянут повозку, ты сидишь в этой повозке. Это, пожалуй, впервые за много-много лет, может, впервые в сознательной жизни, когда я еду совершенно освобожденно, не испытывая никаких перед кем-либо обязательств – они все перерублены, отделены от меня, и ничего с этим не поделаешь. Да, да, освобожденно! Никто меня не позовет к царю, никто не заставит делать то, чего я делать не хочу. Я один, если не считать этих симпатичных и совершенно чужих мне конвоиров, толкующих о каком-то неведомом мне человеке по имени Елисей Жубряк. Я снова родился на свет чудесно безответственным человеком без корней и без прошлого. Лошади везут, я еду. Наверно, Степан Вытащи хотел испытать подобное чувство, когда говорил, что мечтает стать ребенком. Три месяца дороги, три месяца свободы. А потом – «до освобождения», освобождения из ссылки или освобождения от жизни. И если мне суждено будет когда-нибудь проехать назад по этой дороге, миновать Шалашок и вернуться в Санкт-Петербург – я послушно и нетерпеливо вернусь в свое прошлое, где живое так неразумно и жестоко отделено от мертвого.
ЭПИЛОГ. 1738
В субботний день 15 июля на Адмиралтейском острове, на торговой площади против нового Гостиного двора, многолюдная толпа санкт-петербуржцев наблюдала за тем, как специалисты в красных рубахах укладывали вокруг высокого столба сухие березовые поленья, вязанки хвороста и охапки соломы. Специалисты работали ответственно и прилежно: дело имело скандальный характер, казнь преступников была утверждена самою императрицей Анной Иоанновной. Празднично настроенный народ жевал пироги и лузгал подсолнухи. В толпе толкались потные продавцы кваса и сбитня. Женщины и дети торговали поштучно яблоками. На окраине площади били, повалив на землю, воришку.
Преступников еще не привезли, и люди то и дело поглядывали на огороженный солдатами проход, ведший от строящегося проспекта через площадь к столбу. Хворост и дрова поднялись довольно высоко и почти достигли круглой площадочки, на которую осужденные должны были быть поставлены, чтоб смотреть на них было удобней и чтоб огню, запаленному у самой земли, лучше было разгораться и набирать силу. Один из специалистов, влезши на площадочку и ухватившись одной рукою за тело столба, ловил другой, свободной, бросаемые ему снизу чурки и аккуратно укладывал их вокруг себя. Зрители в шутку советовали ему не свалиться. Но, если б он свалился, это только повеселило бы публику и скрасило ожидание, становящееся уже томительным.
Появление тюремной повозки было встречено гулом оживления, тотчас, впрочем, улегшимся: предстоявшее требовало внимания и сосредоточенности. Повозка была открытая, без бортов. К чурбану, укрепленному посреди повозки, прикованы были двое – кряжистый плотный старик, по глаза заросший пушистой белой бородой, и средних лет высокий русоголовый мужчина с раздутым, черно-синим от побоев лицом. Избитый стоял спокойно, не совсем, видно, понимая, что тут происходит, а старик яростно рвался с цепи. Не доезжая столба, кляча, запряженная в повозку, остановилась, и палач отцепил приговоренных от чурбана. Руки их остались скованными, и старик потрясал оковами, а избитый шел сам, мелкими шаркающими шагами: один его глаз совсем затек, а другой плохо видел. Около лесенки, ведущей на столб, на его площадочку, старик и русый остановились, и их сразу плотно облепил конвой и палачи. Первым затащили наверх старика и, уперев его ногами в площадочку, поднятые его руки приковали к вбитому в столб, уже у самой его верхушки, крюку – так, что старик почти повис, едва касаясь носками опоры. Со вторым, избитым, было куда меньше возни.
Скороговоркой прочитанный приговор никого не интересовал – все его и так знали. Проверив работу подручных, главный палач не спеша двинулся вокруг столба, поджигая проложенный соломой хворост. Закурился легкий голубой дымок, из груды искусно сложенных дров вырвались желтые ленты пламени. Толпа, затаив дыхание, ждала первого вопля казнимых.
В этой чуткой, зыбкой тишине к пустым торговым рядам подъехала крестьянская телега. В телеге, укрытые рогожами, лежали две свиные туши и сидел в задке тощий старик в лаптях и в рядновых портах, с волосатым диким лицом лешего.
– Эй, леший, приехали! – слезая с облучка, сказал возница – рябой мужик с высокими татарскими скулами. – Плати, что ль!
Покопавшись за пазухой, старик достал медную монетку, черную от времени.
– Вот, – сказал старик. – Как договаривались.
– Ты б добавил! – попросил рябой. – Торговли, вон, нет никакой – опять человеков казнят смертью, все глядеть побегли… Добавь!
– Да откуда я тебе возьму! – удивленно спросил старик и охолодил просящего взглядом густо-коричневых острых глаз. – Как договаривались!
– Ну, заладил! – отступил рябой. – Не хочешь – не надо… Ишь, уставился глазами-то своими. Леший ты, а не каторжник!
– А я и не каторжник, и не леший, – примирительно улыбнулся старик. – А вез ты свободного старика Яна Лакосту. На-ка вот тебе еще полушку по этому случаю.
Отвернувшись от рябого мужика, Лакоста пошагал на площадь. Там, из-за спин и голов, он недолго глядел на рвущийся в небо огненный вихрь, в сердцевине которого чернели две человеческие фигурки, похожие на личинки, а потом спросил:
– Кого жгут и за что?
– Жида Бороха Лейбова за совращение им в жидовскую веру отставного морского флота капитан-поручика Возницына, – охотно ответили Лакосте. – Слева жид, а справа, во-он тамочки, Возницын.
Костер вошел в высшую свою силу, и уже нельзя было отделить в нем жида от капитана. До боли в глазах вглядываясь в пламя, Лакоста старался угадать там Бороха Лейбова – и видел перед собою подвал шафировского дворца, и пасхальный стол, и Бороха, с отвагой безумца протягивающего царю Петру черную ермолку… Значит, Борох слева. Несчастный Борох.
Выбравшись из толпы, Лакоста обогнул площадь и, взглянув в последний раз на опадающий уже костер, пошел вдоль реки. До Дивьера идти было недалеко, и Лакоста не спешил… Вот прошлое и открылось, в первый же день – мертвое и слева, и справа. Петр Алексеевич давным-давно в могиле, а костры продолжают пылать на площадях. «Жида Бороха Лейбова за совращение»… На дворе 1738-й год, а в центре Санкт-Петербурга инквизиторы волокут людей в огонь. Двести лет назад его, Лакосты, предки и предки Дивьера бежали из Испании от таких вот инквизиторов – и вот их потомки попали из огня да в полымя. Бог знает, сколько за этим костром последует других, и кто в них будет гореть! Он, Лакоста? Или ему, старику, посчастливится умереть своей смертью, а сожгут внука его, Якова? Или детей и внуков Якова? В благословенном Гамбурге еврею грозят неприятности от своих же евреев, и это в порядке вещей – но там никому и в голову не придет убивать тебя только за то, что ты еврей! Это просто невозможно! Яша смог бы стать там почтенным врачом или адвокатом, и никто бы не послал его ни в ссылку, ни на костер.
Дом Дивьера не изменился за эти годы – все такой же прочный и красивый, он приветливо глядел на воду своими высокими окнами. На стук отворил молодой нарядный лакей и, не отпуская двери, уставился на Лакосту презрительно и нагло.
– Мне к Антон Мануйловичу, – просительно сказал Лакоста. – К Дивьеру!
– Ты спятил, что ли, дед? – скривился в ухмылке лакей. – К Дивьеру в Сибирь езжай, на каторгу. А ну, проваливай отсюда!
Вот и Дивьер. Оставался еще Шафиров.
К нему Лакоста предусмотрительно явился с черного хода, и там кухарка подозрительно оглядела его порты и лапти.
– Ты рыбу, что ль, принес? – закончив огляд, спросила наконец опрятная кухарка.
– Значит, Петр Павлович… здесь… – задыхаясь от вдруг налетевшего волнения, сказал Лакоста. – Передайте ему – Лакоста пришел. Ла-кос-та!
Шафиров выбежал на коротеньких ножках, обнял. Расцепив руки, поправил парик и коснулся пальцами уголков повлажневших глаз.
– Боже мой, это вы… Боже мой!
– Извините меня за этот вид, – сказал Лакоста, не решаясь сесть. – Я сегодня только оттуда.
– В последний раз вы меня видели не в лучшем виде, – улыбнулся Шафиров. – А теперь я снова, слава Богу, и в чинах, и в орденах… Но что ж это я! Сейчас вам принесут одежду.
– Один только вопрос, – шагнул Лакоста. – Мой внук… он…
– Он у меня, – сказал Шафиров. – Дивьер привел его ко мне.
– Антуан на каторге? – спросил Лакоста.
– В ссылке! – возражающе махнул рукой Шафиров. – И знаете с кем? С этим подлецом Скорняковым-Писаревым! Все-таки я дождался! А Меншиков, светлейший мерзавец? Умер! В ссылке! Нищим! А я сухим вышел из воды! Мне матушка Екатерина Алексеевна шпагу Великого Петра подарила! За заслуги!.. Что это вы улыбаетесь?
– Вы все такой же, Петр Павлович! – сказал Лакоста. – Время вас не берет.
– Конечно, – согласился Шафиров, оборачиваясь к зеркалу. Там, в светлом венецианском стекле, улыбались друг другу два ветхих старика – один улыбкою победной, а другой доброй и жалкой.
Одежды по распоряжению хозяина принесли целый ворох, так что можно было одеть пяток голых. Из этого блещущего серебряным и золотым шитьем холма Лакоста вытянул просторный кафтан мышиного цвета, коричневые суконные штаны и крепкие дорожные башмаки.
– Если бы я не знал, что вы сегодня вернулись из ссылки, у меня создалось бы впечатление, что вы туда отправляетесь, – состроив озабоченную мину, пошутил Шафиров. – К чему вам эти ужасные башмаки? Наденьте вот эти легкие, с пряжками!
– Я только возвращаюсь из ссылки, – одергивая кафтан, тихонько сказал Лакоста. – Мне еще ехать и ехать…
– Куда? – удивленно воскликнул Шафиров.
– В Гамбург, – сказал Лакоста.
– Да вы просто сошли с ума, – сердито сказал Шафиров. – Какой Гамбург? Зачем?.. Я устрою вам здесь приличное содержание, квартиру. И о Яше подумайте – ему жениться пора!
– Я подумал, – упрямо сказал Лакоста. – Я был сегодня утром в Гостином дворе.
– Ну, и что? – спросил Шафиров.
– Я видел, как сожгли Бороха Лейбова…
– Ну, и что?! – повторил Шафиров. – Он был сумасшедший, маниак! Вы помните, как он напялил ермолку на Петра Алексеевича? Меня тогда чуть удар не хватил! И на кой черт он ввязался в эту дикую историю с капитаном! Мы все-таки живем в России, и надо об этом помнить!
– Когда я жил в Гамбурге, я об этом не помнил, – сказал Лакоста. – Зато теперь вспоминаю часто.
– Но что вам дался этот Борох Лейбов? – продолжал наседать Шафиров. – Кто он вам – родственник, друг? Да сколько раз вы его видели в жизни – один, два?
– Сегодня он, завтра – я, – покачивая головой, сказал Лакоста. – И не то что я так уж смертельно боюсь, не только в этом дело. Просто я, Петр Павлович, отвык за эти годы жить в постоянном страхе: вот, придет какой-то хам и потащит тебя в застенок за то, что ты сумасшедший старый еврей. Мне, следовательно, остаются два пути: либо вернуться в Воскресенское, либо – в Гамбург. Согласитесь, что разумнее вернуться в Гамбург.
– Но Яшу-то вы оставите здесь? – неуверенно спросил Шафиров. – Он ведь уже почти русский.
– Нет, – сказал Лакоста. – Яша пойдет со мной.
Они вышли в тот же день, перед вечером – старик в крепких новых башмаках и одетый подорожному юноша. Шафировская коляска с дорожным сундучком путников ждала на четвертой версте Литовской дороги: Лакоста решил непременно начать свой путь на родину пешком и, окажись у него под рукой горстка пепла, он незаметно от внука посыпал бы им свою плешь. Возвращение на родину после сорока шести лет странствий, легкомысленных и страшных, не должно было состояться в роскошной коляске. Собственно, это было даже и не обыкновенное возвращение – это было бегство, и первые шаги бегства следовало проделать пешком, сбивая ноги. И сбивание ног перед посадкой в шафировскую коляску имело для Лакосты особое значение.
Коляска должна была доставить путников на ближайший постоялый двор, откуда они собирались отправиться дальше на попутных. После трех часов езды по лесной дороге подъехали ко двору, в совершенной тьме. На стук дверь замызганной избы отворил сонный хозяин, угрюмо корябавший патлатую голову.
Следом за хозяином, несшим сундучок, они вошли в тесную каморку с дощатыми стенами, не достающими до потолка. Кроме них, на постоялом дворе никого не было. Хозяин, покачивавшийся то ли со сна, то ли по нетрезвому делу, грохнул сундучком об пол у широкого топчана, застланного линялым лоскутным одеялом. И ничего бы не изменилось, если бы дед с внуком узнали о том, что именно этим одеялом прикрывалась Маша Лакоста в то утро, когда патлатый хозяин рылся в ее дорожном сундучке, отбирая одежку в уплату за предприимчивость кавалера Рене Лемора…
Им повезло: наутро они сторговались с проезжим купчиком, отправлявшимся с грузом сырых кож в Смоленск, и он пустил их в свою телегу.
Шпили гамбургских соборов они увидели два месяца спустя, девятнадцатого сентября 1738 года.
Двадцать пятого августа 1943 года прямые потомки Яна Лакосты: мужчины Иозеф, Иоганн и Генрих, женщины Хильда и Розалинда, дети Ганс, Хьюберт и Минна были убиты в газовой камере и сожжены в печи крематория концентрационного лагеря Бухенвальд, в Германии.
1981–1982.








