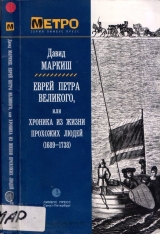
Текст книги "Еврей Петра Великого (Роман)"
Автор книги: Давид Маркиш
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
3
ЕВРЕЙСКИЙ АНЕКДОТ. 1698
Над зимним Лондоном сияло удивительно чистое, серебристое низкое небо. Коридоры каменных улиц были ясны и гулки, и квадратная площадка перед Королевским монетным двором звенела под колесами редких ранних экипажей, как будто была отлита из металла.
Поеживаясь от холода, смотритель Монетного двора скинул ночную рубаху, подул в озябшие пальцы и, сев на край кровати, принялся натягивать чулки на отекшие за ночь ноги. Живот мешал ему нагибаться, он кряхтел и трудно дышал. Он не находил смысла в ношении чулок – они почти не грели, быстро рвались, стоили дорого и натягивать их каждое утро было обременительно и противно, – но отказаться от них он не мог себе позволить: его бы сочли окончательно сумасшедшим и, возможно, выгнали бы со службы. Лейбниц, во всяком случае, был бы этому рад. Проклятый Лейбниц!
Справившись наконец с чулками, он тяжело поднялся с кровати и, влезши в просторные, до колен, штаны и мешковатый кафтан, медленно выпрямился во весь свой небольшой рост.
– Лейбниц – негодяй, мерзавец и вор! – отчетливо и громко произнес смотритель.
Вот уже много лет подряд он произносил эту фразу каждое утро – так же, как натягивал чулки.
В свои 56 лет смотритель выглядел куда старше: он был желчен, болен и одинок. Затянувшийся на всю жизнь спор с Лейбницем стоил ему здоровья и бесил его уже вполне привычно; хвати Лейбница смертельный удар, смотритель Монетного двора почувствовал бы себя обокраденным среди бела дня. Впрочем, об ударе нечего было и помышлять: проклятый Лейбниц был вполне здоров и благополучен.
Одевшись, смотритель хмуро усмехнулся и хлопнул в ладоши. Никто не появился, как он того и ожидал. Тогда, подняв с пола медный полый шар, тонкостенный, служивший ему когда-то в постановке опыта по свободному падению тел, он прошел из спальни в гостиную, открыл дверь и осторожно пустил шар по узкой каменной лестнице, ведущей в первый этаж. Дом наполнился переливчатым медным грохотом, в который смотритель вслушался удовлетворенно.
Малое время спустя в гостиную поднялся заспанный слуга с тарелкой овсяной каши и кувшином молока на подносе. В свободной руке слуга держал медный шар, который он первым делом заученно опустил, под пристальным взглядом хозяина, на то самое место на полу, откуда смотритель его поднял.
На подносе, под тарелкой, смотритель обнаружил письмо на дорогой бумаге. Писал Карл Монтегю – тот предприимчивый родственник покойной жены, стараниями которого и была получена эта королевская служба, этот дом и этот придурковатый слуга, принесший шар, кашу и письмо от Карла Монтегю. Карл Монтегю-служба-дом-слуга-шар-каша-письмо от Карла Монтегю-Карл Монтегю-служба-дом… Глотая кашу, смотритель сердито тряхнул слегка закружившейся головой: чушь какая-то, какая-то зыбкая гениальная чушь – круговая связь между шаром, придурковатым слугой и предприимчивым родственником жены. Связь между одушевленными и неодушевленными предметами, между причиной и следствием.
«Дорогой сэр Исаак Ньютон, – писал Монтегю, – я прошу Вас не отказать мне в любезности: принять путешествующего инкогнито русского царя Петра, проявляющего интерес к достижениям нашей науки. Пусть Вас не покоробит и не смутит определенная странность в поведении монарха – он, как мне рассказывали, хочет показаться проще, чем он есть. Это, несомненно, незамысловатая азиатская хитрость, и Вы должны быть к ней подготовлены».
Держа ложку на отлете, Ньютон задумался. Чего ради Монтегю, человек предприимчивый, посылает к нему азиатского русского царя, к тому же странного? В России, как известно, нет ни ученых, ни науки. Может, в дело замешана политика, и свояк решил погреть на этом руки? А может, этот странный царь вовсе и не царь, а самозванец и авантюрист, он попросит показать ему монеточеканные машины, а потом ограбит Двор, и его, Исаака Ньютона, обвинят в соучастии в преступлении? Может быть, может быть… Нельзя исключить и того, что все это происки проклятого Лейбница, что это он подослал азиата, а Монтегю служит посредником. Этот Монтегю, между прочим, всегда увиливал от прямого ответа: кому принадлежит приоритет открытия и исследования бесконечно малых величин – ему или Лейбницу.
Подвергая все же некоторому сомнению участие Лейбница в заговоре, Ньютон сердито допил молоко и поднялся из-за стола. Предстоящий визит будоражил его; не прибегая больше к помощи пустотелого шара, он кликнул слугу. И пока слуга, двигаясь нерасторопно (проклятый слуга! проклятый Монетный двор! проклятый Карл Монтегю!), прибирал в комнате, Ньютон не отходил от окна, выглядывая на улицу сквозь холодные стекла в ромбических свинцовых переплетах. Он решительно не знал, о чем он будет говорить с русским царем, но ему живо хотелось на него поглядеть. Поймав себя на этом желании, Ньютон прижался лбом к стеклу и чуть улыбнулся: значит, ничто человеческое ему не чуждо, значит, клевещут его недоброжелатели, уверяя всех и каждого на свете, что он уже давным-давно выжил из ума и что все его открытия – плод воспаленного разума и яйца выеденного не стоят. За исключением, разумеется, тех, что приписывает себе этот бандит Лейбниц. Ну, и Гаук.
Визитеры явились в подозрительной коляске, запряженной разномастной парой. «Ах да, инкогнито, – вспомнил Ньютон. – Но кто же из них царь?»
К дому шагали трое мужчин, впереди других – верзила с тяжелой тростью, в расстегнутом кафтане, без парика. Оглядывая дом, верзила говорил что-то тщательно одетому толстячку. Третий, с красивым крупным лицом, на котором без труда можно было прочитать крайнюю степень изнурения, шел чуть в стороне и чему-то ухмылялся. Перед самой дверью верзила, обернувшись, что-то сказал, засмеялся и сильно ткнул красавца кулаком под ребра – как видно, в шутку, а не ради развязывания драки. Миг спустя слегка озадаченный Ньютон услышал уверенный стук в дверь.
– Пускай, пускай! – махнул он рукой слуге, появившемуся на пороге. – Ну!
Толстячок, назвавшийся мистером Шафировым, заговорил по-английски:
– Мой господин, – он отвесил поклон в сторону верзилы, бесцеремонно оглядывавшего комнату: стол со стульями, буфет, угловой шкапчик, – много наслышан о ваших изобретениях в области движения предметов, в частности артиллерийских бомб. Мы хотели бы послушать ваши объяснения – в общем виде, разумеется. – Шафиров тщательно подбирал слова, намереваясь сегодня же вечером описать в особой книге встречу царя со знаменитым открывателем природных законов, которому, как говорят, яблоко однажды свалилось на голову, что и послужило началом его научных рассуждений.
– А кто этот господин? – спросил Ньютон, указывая на красавца. – Эксперт? – Он не решил еще окончательно, кто здесь царь.
– Да нет… – замешкался Шафиров, не находя, как представить англичанину Меншикова. – Это так… Сопровождающее лицо.
– Вот как… – сказал Ньютон и оглядел Алексашку изучающе. Он склонен был предположить, что Алексашка – не сопровождающее, а главное действующее лицо этой сцены, а верзила – просто охранник. Шафиров, разумеется, в счет не шел: хозяин безошибочно признал в нем еврея, и поэтому он никак не мог быть русским царем, хотя бы и инкогнито.
– Вот как… – задумчиво повторил Ньютон, глядя на Меншикова, уставившегося туманными глазами на медный пустотелый шар – единственный предмет в этой комнате, назначение которого было трудноопределимо. Почувствовав на себе пристальный взгляд, Меншиков отвел глаза от шара и зачарованно улыбнулся, – и Ньютон поколебался в своем предположении: улыбка у Алексашки была простецкая, не монаршая.
– Шарик хороший, – сказал Алексашка. Шафиров этого переводить не стал.
Тем временем Петр, закончив осмотр комнаты, подошел к столу и, громко двинув стул по полу, сел. Немного пригнув голову к плечу и отведя руку с зажатой в ней тростью, он кругло, не мигая, глядел на хозяина. Он всегда так глядел после бессонной ночи или перед накатывающим гневом, но только на пятом десятке это сделалось у него постоянной привычкой. «Вот царь, – решил Ньютон. – Действительно, странный».
– Ну, пусть приступает, – разрешил царь, кивнув переводчику. – Только не очень путано – голова раскалывается.
– А я говорил, – капризно, со слезой в голосе ввел фразу Меншиков, – а я говорил, мин херц: в баню надобно ехать отмокать после вчерашнего, а не к этому старичку.
– Погуляли – и хватит, – ворчливо заметил Петр. – А ты, я гляжу, уморился, Александр.
– Как же не уморился! – согласно пожал плечами Меншиков. – В Амстердаме девки куда нежней и обстоятельней. А тут – разве можно так?! Волки, а не девки… Поедем в баню, Ваше Величество.
Из этого разговора Ньютон понял, и то с трудом, всего два слова: «мин херц» – и удивился до испуга и неприятной дрожи в спине: если верзила действительно царь, то как и кому он разрешает себя так называть, а если он не царь – то кто он и с какой целью сюда пожаловал? Кроме того, Ньютон теперь был уверен, что все трое не вполне трезвы в этот ранний утренний час.
– Ну! – Петр пристукнул тростью по полу. – Что ж он молчит? Шафиров, переводи!
– Как вам нравится Лондон? – спросил Ньютон, кляня в душе Карла Монтегю и желая лишь одного – чтоб подозрительные гости поскорее ушли. – Вы, как я понимаю, приехали издалека.
– Весьма нравится, – сказал Петр. В горле у него пересохло, он хотел пить. – Шафиров, спроси у него, знает он артиллерийское дело?
– Баллистика – это не совсем моя область, – сказал Ньютон, морщась болезненно. – Как вам известно, мне принадлежит приоритет в открытии ряда законов механики и оптики. Что же касается некоего Лейбница, если вы слышали это имя…
– Пушечное дело он может поставить у нас или нет? – перебил Петр, нетерпеливо постукивая длинной тонкой ногой, обутой в грубый башмак. – Если да – скажи ему, что я хочу его нанять на русскую службу… Не кисни так, Александр, душа моя! Отсюда поедем в баню, потерпи.
– Да здесь разве же это баня… – горько пожаловался Меншиков. – Что они могут в этом понимать!.. Шафиров, будь другом, спроси у него: баня хорошая у них тут есть или нет?
Выслушав вопрос, Ньютон сделался сер. Сомнений больше не было: подлец Лейбниц подослал этих проходимцев, этих хулиганов, чтобы еще раз унизить его, Ньютона, выставить его на посмешище. Весь мир ополчился против него, он один в целом свете – но он выстоит, его открытия обессмертят его имя, и только мерзавцы и дураки этого еще не понимают.
– Вы дураки! – высоко подняв голову и гневно оглядывая визитеров, закричал Ньютон. – Вы низкие дураки вместе с вашим Лейбницем! Баня! Да как вы смеете! Мне! Вон отсюда!
– Он не хочет на службу, – перевел Шафиров. – Пойдемте, Ваше Величество… – и, проходя мимо Ньютона, спросил вполголоса, почти с мольбой: – Сэр Ньютон, простите, Бога ради: а то, что вы в саду сидели и яблоко вам на голову упало, – это правда или нет? – Ему с самого начала хотелось это спросить, но никак не подворачивался подходящий момент.
– Вон! – взревел Ньютон. – Яблоко! Невежда! Клевета Лейбница!
Перевод не требовался. Проходя мимо пустотелого шара, Алексашка нагнулся и завистливо щелкнул ногтем по блестящей звонкой поверхности.
– Шарик хороший… – с мечтательной улыбкой сказал Алексашка. – Спроси: может, продаст? – и, достав кошелек, позвенел монетками.
Из серого Ньютон сделался бурым. В углах его рта появились пузырьки пены.
– Шарик!.. – огрызнулся Шафиров. – Сам ты не видишь, что ли: припадок у человека. – Он искренне сожалел о том, что исторический разговор повернул совсем не в ту сторону.
Размашисто спустившись по узкой лестнице во двор, Петр с удовольствием вдохнул чистый морозный воздух.
– Сердитый у тебя хозяин, – мешая английские слова с голландскими, сказал Петр безразличному слуге, торчавшему у дверей.
– Да он тронутый, – без всякого выражения сообщил слуга и покрутил большим пальцем у виска. – Давно уже – с пожара, когда какие-то его книги сгорели.
– Старичок гнойный, – беззаботно выразил свое отношение и Алексашка.
Шафиров засопел, взглянул на Меншикова презрительно.
«Нелегко, ох нелегко понять русскую душу, – горестно подумал Шафиров. – Вот, сэр Исаак Ньютон, великий человек – а не понял».
Это забавное недоразумение с лондонским смотрителем Монетного двора никого, однако, не огорчило, кроме Шафирова и позарившегося на пустотелый медный шар Меншикова; но и тот вскоре об этом позабыл. Посольские чины всецело были довольны своей новой, такой интересной и необыкновенной жизнью за границей. Искренне жаловался только Вытащи – на отсутствие жил в мясе, да его малорослый коллега по шутейной части Кабысдох: ему была назначена казной одна шестая часть содержания от средней нормы, и это казалось карле обидно недостаточным.
Меж тем, дела посольства складывались не так уж гладко: не за тем ехал Петр на Запад, чтоб учиться топором махать, чинить часы и плясать по-голландски. Царь поставил своей целью окончательно закрепиться на берегах Черного моря – и, не в силах справиться с турками в одиночку, отправился в Европу искать себе союзников для новой антитурецкой коалиции. Европейцы, однако, не спешили впрягаться с Петром в одну телегу: русский царь представлялся человеком несерьезным и доверия собеседникам не внушал. Кроме того, Турция особых хлопот Европе не доставляла, а уж волноваться из-за судьбы бывшего храма Св. Софии, перестроенного турками в мусульманскую мечеть, право же, и вовсе не стоило. Речь, следовательно, шла прежде всего о русских интересах, и охотников влезать ради этого в турецкую авантюру не нашлось. Европейцев куда больше занимали перспективы дележа испанского наследства.
Об ударе по Швеции и выходе к Балтийскому морю Петр тогда еще и не думал: единомышленников для этого предприятия он бы не сыскал ни в галантной Голландии, ни в дружественной Англии, а церемониальный австрийский император Леопольд, поймав намек (говорить впрямую о войне со Швецией было бы с ним просто невероятно), первым делом предупредил бы Карла XII об опасных затеях неуравновешенного азиата.
Однако, выход к морю был целью жизни Петра, российские пруды и речки становились тесны для его размаха. А морей, к которым можно было выйти, насчитывалось только два: Черное и Балтийское, турецкое и шведское. Турецкое оказывалось огорчительно защищенным от русской экспансии; зато оставалось шведское. Все дело сводилось лишь к отысканию союзников.
Союзником Петра согласился стать, на свою беду, ветреный польский король Август II, первый шляхтич, дебошан. В застольных, в четыре глаза разговорах, за обильными ужинами, переходящими в хмельные завтраки, с перерывами для здоровых мужских утех, молодые люди основали Северный союз. Война со Швецией была предрешена.
Назавтра после прощального банкета, после обмена подарками и шпагами ветреный Август начисто забыл количество пунктов нигде не записанного договора, их порядок и, отчасти, содержание. Зато в легкой памяти остался образ Петра – замечательного парня, весельчака, выдумщика, к тому же такого богатого. Петр запомнил – каждую ненаписанную букву, каждую непоставленную точку.
Ромодановский писал: стрельцы вновь взбунтовались, Шеин разбил бунтовщиков наголову под Новым Иерусалимом, зачинщики казнены. Рядовые мятежники отправлены в ссылку и в дальние гарнизоны. Дознанием установлена причастность к мятежу царевны Софьи.
«Семья Ивана Михайловича Милославского растет, в чем прошу быть вас крепкими, – писал Петр в ответном послании. – А кроме сего ничем сей огнь угасить не мочно… Хотя зело нам жаль нынешнего полезного дела, однако сей ради причины будем к вам так, как вы не чаете».
Разумеется, приятней было пьянствовать с податливым Августом и втягивать его в будущую войну со шведами. Однако, нечего было и думать о серьезной войне, не разрешив раз и навсегда проблему непокорных, ненадежных стрельцов. Сочиняя ответ Ромодановскому, Петр знал, что он сделает, вернувшись в Москву: соберет оставшихся в живых стрельцов, ссыльных и вольных, молодых и старых, повесит, отрубит головы, колесует. Ликвидирует Стрелецкий приказ. Покончит со стрелечеством на вечные времена: перед большой войной необходима чистка, кровавая чистка народа. Будущие правители России скажут ему, Петру, спасибо за эту кровавую науку.
С чисткой следовало спешить. Чистка представлялась Петру работой полезной и, несомненно, приятной – но отнюдь не легкой. К чистке следовало подготовиться, чтобы она стала действием всеохватным, зрелищем назидательным. Чтоб о ней не только говорили – вспоминали с ужасом. Ужасались бы и вспоминать.
Подъезжая к России, Петр думал над тем, как декорировать Чистку: через какие ворота везти стрельцов, на каких телегах, где установить вешалки, где колеса, где колы, кому поручить общее руководство, кому – местное, площадное. Надо бы и бояр недовольных, шептунов заугольных привлечь к делу: пусть и они попотеют для отечества, порубят стрелецкие головушки. А кто откажется – рядом с бунтовщиками ляжет на плаху… Чистка – слово-то какое хорошее, свежее, грозовое! Быть великой Чистке, быть царской грозе очистительной.
Перед самой границей, в польском местечке Колерово, Петр остановился на последний отдых. Он на много дней опередил посольство, гнал дорожные возки день и ночь. В возках помещались ближайшие приятели во главе с Алексашкой Меншиковым, провиант, походная аптечка, двуглавый младенец в банке, полученный в подарок от английского короля, а также карла Кабысдох и Антуан Дивьер. О пирате Петр вспомнил, уже почти садясь в возок, приказал его доставить и теперь был этому рад… Все было бы хорошо и прекрасно, если бы не стрельцы. От неотвязных дум о последышах Ивашки Милославского, врага, у царя портилось настроение, дергалась щека и голова, он мрачнел и никого не желал к себе подпускать.
Местечко, заброшенное на окраину владений ветреного Августа, славилось не водкой и не девками, а костелом Богородицы Скорбящей. Богородица эта, по словам знатоков, плакала вот уже много лет подряд, святые ее слезы стекали в специально подставленную плошку, и всякий человек мог смочить в них пальцы. Любитель диковин, Петр решил осмотреть храм, и именно поэтому местом отдыха и ночлега выбрал местечко Колерово.
С августовской сверкающей жары в храме показалось зябко, как в склепе, и полутемно. Десятки паломников из соседних деревенек и городков, распевая молитвы, запрудили придел, свечки в их руках теплились и мигали, и пятна легкого золотистого света бродили по черным стенам храма. Поморгав и попривыкнув к полумраку, Петр шагнул с порога в гущу богомольцев. Алексашка поспевал за ним, протискивался, наступая на чьи-то ноги и полы. Ему было слегка муторно: а вдруг Богородица и вправду плачет? Он вдруг, неизвестно для чего и с какой стати, вспомнил строгое лицо покойного тяти Данилы Меншикова и приготовился было креститься – уже и пальцы сложил, класть поклоны и, быть может, даже пасть на колени. Но, глядя на привольно, как в рыночной толчее, шагавшего царя, почувствовал облегчение, передумал и пальцы распустил. За всех истово крестился и молился Шафиров. Губ он не разжимал, потому что в этом случае соседи могли бы расслышать непонятное: «Шма, Исраэль, Адонай элогейну, мелех аолам».
Подойдя вплотную к деревянной, искусно выкрашенной статуе, Петр сощурил глаза и всмотрелся. Фигура Богородицы, выполненная в человеческий рост, была поднята на пьедестал, крест-накрест покрытый полосами парчи и украшенный по углам золотой резьбой в форме виноградных листьев, ягод и крылатых младенцев. Строгие, ясные глаза Богородицы глядели вдаль, поверх молящихся.
Повернувшись, Петр подмигнул притихшему Алексашке.
– Плачет, мин херц… – дрогнувшим голосом вымолвил Алексашка.
Из правого глаза Богородицы выкатилась слеза и скользнула по навощенному стоку вниз, в плошку. По первым рядам богомольцев прошел гул, прокатился волной через весь храм к выходу. Алексашке сделалось не по себе.
– Погоди, погоди… – недоверчиво проворчал Петр. – А что ж левый?
Но следом за правым глазом увлажнился и левый, и слеза скатилась в плошку.
Цепко оглядев еще раз фигуру – складчатую мантию, стоки, голову с нимбом, – Петр легонько пихнул задумчивого Алексашку, сунул палец в плошку и пошел к выходу.
– Плачет, мин херц, Ваше Величество, – упрямо, даже с укором повторил Алексашка, когда они вышли во двор, на солнце. – Слезочки аж текут…
– Видел! – рявкнул Петр. – Слезы пресные, не соленые! Это исследовать необходимо!.. Приготовь свечей, да побольше – вечером еще раз придем. И лестницу!
Перед вечером в местечко по Немецкой дороге въехала пароконная повозка, густо обложенная пылью. В повозке, помимо возницы, помещались двое: помощник царского резидента в Гамбурге Антип Гусаков и нанятый им на русскую службу жид Лакоста. Лакоста терпеливо сидел в задке повозки, на сундучке с имуществом: двумя парами белья, отцовской субботней капотой, перьевой подушкой, книгами Священного Писания и вавилонского Талмуда. На руках он держал дитя, годовалую девочку, бережно завернутую не то в полотенце, не то в занавеску. Девочка морщила носик и чихала, а Лакоста сдувал пыль с ее лица и рукою отгонял мух.
Повозка подкатила к корчме, возница с Гусаковым соскочили, а Лакоста остался сидеть на сундучке. Лучше на свежем воздухе с ребеночком посидеть, тем более, больше не трясет. Пока еще там зажарят яичницу, натопят это их свиное сало… Нанявшись по горькой необходимости на русскую краесветную службу, Лакоста окончательно отказался от заповедной кошерности, здраво полагая, что не то важно, что в животе у еврея, а то, что у него в голове и в сердце. Питаясь круглый год мацой, ни на полшага не станешь ближе к Богу. Придя к этому заключению не вчера и не третьего дня, вольнодумец Лакоста подвергся в Гамбурге яростным атакам единоверцев и, не наймись он на эту службу, его, пожалуй, в самом скором времени прокляли бы по всем правилам, отлучили от синагоги и изгнали бы из общины. За двадцать пять лет своей жизни Лакоста перенес немало неприятных потрясений, но это, неотвратимо ему грозившее и такое, казалось бы, смехотворное по нынешним прогрессивным временам, – это потрясение явилось бы, несомненно, самым неприятным и болезненным из всех: Лакоста не хотел ссориться и порывать со своим упрямым, как вол, странным и со стороны неприглядным народом. «Рабами мы были в Египте, и Ты вывел нас оттуда рукою крепкою» – это Лакоста желал ежегодно повторять за праздничным пасхальным столом, и петь трогательную, такую родную песенку про козленка – но на этом и исчерпывались его протокольные отношения с Богом. Зато личные отношения были беспредельны, и, ощущая это, Лакоста испытывал радость. Трясясь на сундуке, с ребенком на руках, он не заглядывал в туманное северное будущее – но размышлял над тем, что и эта дорога ведет к Тому, кто ее предрек. И гамбургские ревнители кошерности ничего не могут с этим поделать.
Все, что они могли, они уже сделали: они способствовали краху его, Лакосты, предприятий, благодаря им все его коммерческие начинания, столь перспективные, сгорели дотла, не оставив даже горстки золы. Не в прямом, конечно, смысле: гамбургские законы следовало уважать, поджогом тут и не пахло. Просто еврейские фирмы вдруг отказались от его посреднических услуг. Он открыл торговлю медом – ретивые единоверцы обходили его лавочку стороной. Его золотой, бриллиантовый план вложений и компенсаций был поднят ими на смех – и вот теперь он везет его русскому царю. И еще эта ужасная история с женой… Одним словом, дела Лакосты свернули с дороги в кусты и покатились под гору. И в этом Лакоста видел отнюдь не Божью сильную руку, а только происки своих кошерных гонителей. Проще всего было бы, разумеется, вернуться – или хотя бы сделать вид, что вернулся, – к исполнению всех этих смешных и нелепых традиционных правил, – но конфликт с общиной приобрел уже духовный, принципиальный характер, и поступиться своими принципами Лакоста не хотел. Отступление от принципов ради, в конечном счете, коммерческого успеха Бог, несомненно, не одобрил бы. Впрочем, в глубине души Лакоста с горечью полагал, что между человеком и Богом существует лишь односторонняя связь и что он, Лакоста, никаких сигналов от Него получить поэтому не может. Одобрение и неодобрение своим поступкам следовало искать единственно в собственной душе.
Размышления Лакосты были прерваны возницей: подойдя, он громко постукал кнутовищем в стенку сундучка. Лакоста поспешно поднялся и, прижимая ребенка к груди, косолапо спрыгнул с повозки.
Антип Гусаков был возбужден, деятелен.
– Ну вот, – сказал Антип, – ну вот, что я тебе скажу: царь Петр стоит в этом городишке! Ты давай ешь и пошли: может, допустят к государю. Что он спросит – ты отвечай толково, лучше давай по-голландски, он это любит. По-русски слова которые выучил – тоже давай говори. Ты так скажи: меня Антипка, мол, Гусаков нашел для службы Вашему Величеству. А я опередь доложу, как положено, кто ты таков и что умеешь делать. Понял? Сейчас, может, судьба твоя решится, и моя тоже.
«А что я такое, действительно, умею делать? – не без лукавства думал Лакоста, шагая с ребенком на руках следом за Гусаковым по горячим и пыльным улицам местечка, мимо пустого уже в этот час базара, мимо грязного зловонного пруда к костелу. – На месте царя Петра я бы, безусловно, меня на службу не взял».
Стрельчатая дверь костела была затворена. Рядом с дверью сидел на круглом камне сторож.
– Чего надо? – не вставая, крикнул сторож. – Не велено пускать!
– Встать! – выкатив вперед подбородок, гаркнул Гусаков. – Не знаешь ты, что ли, к кому мы? – и с размаху, грозно швырнул монетку под ноги смешавшемуся сторожу.
В храме было светло, светлей, чем днем. Два десятка толстых свечей горели ровным пламенем, освещая царя Петра, стоявшего в задумчивости на лестнице против фигуры Богородицы Скорбящей, вровень с ней. Меншиков, задрав голову, поддерживал лестницу, чтоб не поехала.
– Чего надо? – взглянув через плечо, шепотом спросил Меншиков. – Кто пустил?
– Финансового советника везу, Ваше Величество, – обращаясь к спине Петра, закаменевшим вмиг языком дал справку Антипка. – Из Гамбурга. Я сам Антипка Гусаков, твой раб, помощник резидента.
С осторожностью переступая ногами по узкой перекладине, Петр медленно повернулся.
– Финансовый советник? – переспросил Петр, глядя сверху вниз. – Из Гамбурга? А что это у тебя в руках?
– Дитя, – сказал Лакоста. – Мое дитя. Ей всего годик. – Он поиграл пальцами перед лицом ребенка.
Петр смеялся. Тряслась его голова, тряслась лестница под ним. Алексашка, вцепившись, намертво держал.
– Это так ты едешь в Россию? – Петр перестал смеяться, спрашивал резко, сердито. – Младенца зачем с собой таскаешь? Где мамка ее?
– Она сбежала от меня, Ваше Величество, потому что мне не повезло и я обанкротился, – вздохнув, сказал Лакоста. – Это очень тяжелый удар… Но вы только посмотрите, какой это замечательный ребенок, какой удачный! – Он шагнул к лестнице, поднял девочку к царю. Тесный его дорожный кафтанец обтянул его спину, ветхие нитки не выдержали натяжки, и ткань с треском расползлась под мышками.
Алексашка фыркнул, снова усмехнулся и Петр.
– Правильно сделала, что бросила, раз ты такой дуралей, – сказал Петр. – Руки-то опусти, а то и штаны, гляди, у тебя упадут!.. Что ж ты мне за советы будешь давать, если сам себе не смог присоветовать и обнищал? Ты что ж, думаешь, в России одни дураки живут, дурей тебя? Или я тебе деньги буду платить за то, что ты немец?
– Жид он, Ваше Величество, – подал голос Антипка. – У него план жидовский есть, финансовый.
– Ну вот, – кивнул головой Петр. – Ну вот… Да вы что, – он повысил голос, – сбесились все, что ль? Или смешить меня пришли? Жид с младенцем, жена сбежала от дурака, план какой-то… Мне сегодня не до смеха. – Он, отвлекшись было, вернулся теперь мыслью к стрельцам, и к великой Чистке, и что деньги для этого понадобятся немалые. – Ну, что там за план у тебя? Давай покороче!
– План простой, Ваше Величество, – зачастил Лакоста, – но хитрейший. Судите сами: каждый человек дорожит своим сбережением, не так ли? – Он сделал короткую паузу, и Петр на лестнице вынужденно пожал плечами: ну да, каждый, это и дураку понятно. – Дом, скотина, – вдохновенно продолжал Лакоста, – телега – всего этого хозяин может лишиться: дом сгорит, скотина сдохнет, телегу украдут. Человек боится, что он все потеряет нажитое, что дети его, – Лакоста со вздохом, с любовью взглянул на ребенка на своих руках, – останутся нищими. Страх за имущество не дает покою хорошему хозяину. – Лакоста снова остановился, поглядел на царя, слушавшего с интересом. – Этот страх мы купим и продадим с обоюдной пользой. Это будет добровольный налог на страх, страховой налог! Владельцы имущества сами принесут нам деньги, каждый год будут приносить – ну, скажем, три процента от суммы владения, а если что случится с их имуществом – пожар, наводнение, мор, грабеж, – мы им выплатим все сто процентов. И жизнь можно будет страховать в пользу наследников… Я прикинул: чистый доход с предприятия – процентов шестьдесят, а то и все шестьдесят пять.
Петр хохотал. Сотрясалось его большое тяжелое тело, сотрясалась лестница, в которую Алексашка вновь вцепился. Глаза Петра налились легкими слезами.
– Это, значит, ты думаешь, – сказал он через смех, – что наш русак потащит тебе деньги до того, как изба его сгорела или корова сдохла? Да лучше он эти деньги в кабаке пропьет с товарищами! Это у вас в Гамбурге потащат, а у нас так говорят: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится»… Сам жив, не околел еще – а деньги неси на всякий случай… Ну, ты меня насмешил, финансовый советник, как тебя там…
– Лакоста, Ваше Величество, – подсказал Антипка Гусаков, улыбаясь жалко.
– Лакоста, – повторил Петр. – Финансовый советник… Кто тебя нанял – голову ему надо оторвать!
Антипка Гусаков обмяк, как от удара по голове, и прислонился к колонне.
– Не все же горят, Ваше Величество, – с последней надеждой выдавил Лакоста. – И наводнения случаются довольно редко… Так что деньги у нас останутся! – Он чувствовал, что ему предстоит дорога назад в Гамбург.
– Да, Лакоста, план у тебя жидовский, – прямо в лицо Богородице проговорил Петр. – Хороший план. Но нам он подходит как корове седло. Лет через сто-двести, может быть… А ну-ка, лезь сюда!
Передав ребенка оторопевшему Меншикову, Лакоста полез по шатким ступенькам к царю.
– Гляди-ка, – сказал царь. – Плачет она?
– Нет, – мельком взглянув на лицо Богородицы, сказал Лакоста. – Деревяшка не может плакать. Человек может плакать, глядя на деревяшку.
– Плачет, плачет! – подал голос Ментиков. – Не слушай, мин херц, жидовскую ересь! Если Господь захочет, и железо заплачет.








