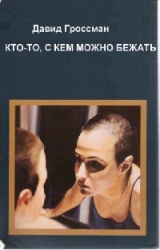
Текст книги "Кто-то, с кем можно бежать"
Автор книги: Давид Гроссман
Жанры:
Боевики
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 23 страниц)
А, когда его мама говорила "это счастье", она всегда имела в виду то, что у неё родились он, Рели и Муки. Потому что мама оставалась не замужем до позднего возраста (так она, по крайней мере, считала), и, когда встретила его папу, уже была уверена, что никогда не выйдет замуж, и вдруг, из-за короткого замыкания и неполадок с предохранителем, она встретила этого милого, круглого и весёлого электрика, который мигом согласился прийти, почти ночью, и всё исправил, а во время ремонта она чувствовала, что должна его развлекать, и, стоя рядом с ним, спросила его о чём-то и была очень удивлена, что он начал рассказывать ей о своей маме, то есть – прямо сразу начал и признался, что ему необходимо уйти из маминого дома и снять себе квартиру, но мама просто цепляется за него и не отпускает, он говорил, не глядя на неё, и казался ей застенчивым, не имеющим опыта с женщинами, и потому её так поразила его откровенность (которая очень удивила и его самого), потому что, как только она задала ему правильный вопрос, вопрос от сердца, из него вырвался поток слов, мыслей и сомнений, который, очевидно, годами сдерживался внутри. Она стояла у открытого электрошкафа рядом с ним, немного выше и шире него, держала свечку и чувствовала – и тут даётся знак Асафу и Рели, а в последний год и Муки, кричать хором: как он выбил все её пробки.
Потом, с течением лет, Асаф перестал размышлять о её дневнике. Приучил себя не думать о нём. Привык видеть, как мама, обычно по вечерам, уходит в маленькую комнату, свою "канцелярию", садится на старый диван в широких шароварах и громадной свободной блузе, опираясь на высокие подушки, "как важная восточная госпожа", по её словам, но, грызя ручку, как школьница, и пишет.
И теперь это почему-то опять забурлило в нём, как в прошлые годы: может быть, она уже несколько недель и месяцев назад писала там о том, что Рели под большим секретом рассказывала ей из Америки? Может быть, её дневник знал о новом друге Рели ещё тогда, когда я и Носорог о нём даже и не подозревали?
Он снова открыл тетрадь. Динка искоса бросила на него быстрый взгляд. Ему послышалось её лёгкое угрожающее рычание. Закрыл.
– Я не её родители, – объяснил он ей и себе, – и не знаком с ней. Ей будет действительно всё равно, если я прочитаю, поняла?
Молчание. Динка смотрит на небо.
– Я же, в сущности, для неё стараюсь, чтобы привести тебя к ней, так? – Молчание. Но уже слегка смягчившееся. Да, это казалось логичным. Можно продолжать в том же направлении. – Поэтому я вынужден использовать всё, каждую подсказку, каждую информацию, чтобы узнать, где она!
Динка издала короткий лай, немного порыла когтями землю, как всегда, когда была растеряна. Он продолжал наступать:
– Послушай, она даже не узнает, что я читал. Я найду её, отдам ей тебя и всё, – его прямо восхищало, насколько он убедителен, – и больше никогда в жизни ей не придётся со мной встретиться, мы будем, как чужие, навсегда!
Она вдруг перестала рыть землю. Повернулась всем туловищем и встала перед ним. Её коричневые глаза изучающе смотрели в глубь его глаз. Асаф не двигался. Такого взгляда он никогда не видел у собаки. Взгляд говорил ему с этакой собачьей усмешкой: "Ну, в самом деле". И Асаф моргнул первым.
– Я читаю! – сообщил он и демонстративно повернулся спиной. Сперва быстро пролистал, привыкая к тому, что он здесь делает. Ему чудился лёгкий запах крема для рук, возможно, перешедшего с её руки, прижатой к листам. Потом быстро пробежал глазами несколько строк. Не читая, только так, чтобы он и её буквы привыкли друг к другу. Он видел детский почерк, маленькие рисунки карандашом на полях. Улитки и лабиринты.
И вдруг, в одно мгновение, он погрузился в него: ...но откуда Мор и Лиат и все знают, что они будут делать, кем работать и с кем поженятся, а она всё время погружена в свои глупости и фантазии, ни капли не представляя себе, как сделать, чтобы её будущее наконец-то началось! Она боится, что женщина во сне была права, и что у такой лентяйки и мечтательницы, как она, вся жизнь будет ошибкой, жизнь-ошибка!!!
Он положил тетрадь на колени. Ничего не понял. О ком она здесь говорит? Но написанное – сами слова, ритм мыслей и восклицание в конце – вызвали в нём странное волнение. Он ещё полистал. Много коротких кусочков. Описание сумасшедшего, которого видела на улице. Котёнка-сироты, усыновлённого Динкой. Страница с одной единственной строчкой: как вообще можно жить, зная, что случилось во время Холокоста. Вдруг он увидел иностранные буквы. Пригляделся получше, и понял, что это иврит, написанный зеркальным почерком. У него не было достаточно времени на расшифровку; но, перевернув лист, он подумал, что у неё, наверно, была особая причина зашифровать то, что она там написала. С упорством и усилием он медленно прочитал: иногда она думает, что, наверно, есть такой мир – чтение этой страницы займёт у него несколько часов. Он подошёл к велосипеду. С помощью маленькой отвёртки, которая всегда была приклеена сзади к его ботинку («Отвёртка – это как носовой платок, – учил его отец, – никогда не знаешь, где пригодится»), он отвинтил зеркало. Вернулся к дневнику и бегло прочитал: что, наверно, есть такой мир, где люди уходят утром на работу или в школу, а вечером каждый возвращается в другой дом, и там, в другом доме, каждый как бы играет свою роль, роль «Отец», или «Мать», или «Ребёнок», «Бабушка» и т. д. И весь вечер они там разговаривают, смеются, едят, ссорятся, смотрят вместе телевизор, и каждый ведёт себя точно по своей роли. Потом идут спать, а утром встают и снова идут на работу и в школу, и вечером возвращаются, но тоже в другой дом, и там – всё с начала. Отец – он отец другой семьи, Дочка – дочка в другой семье, и, так как за день они забывают, что было вчера вечером, им всегда кажется, что они у себя дома, в правильном доме. И так всю жизнь.
Он медленно отложил тетрадь. Эта фантазия взволновала его, лишила покоя. Он, конечно, сразу же подумал о своём доме. Что, если это правда? Что, если он каждый вечер идёт в другой дом, встречает других людей, совершенно чужих, и зовёт их мамой и папой? Нет. Он сразу же отмахнулся, у нас такого не может быть. Запах своей мамы он различит среди тысячи других мам. И прикосновение папиной руки к своей щеке, и его неизменные, действующие на нервы шуточки, не говоря уже о Муки, которую он узнает с закрытыми глазами среди тысячи шестилетних девочек.
Открыл другую тетрадь, более позднюю. Полистал. Закрыл. Её странная фантазия не оставляла его. А может, она всё-таки немного права? Если она совсем ошибается, то откуда у него это ощущение в сердце, похожее на ожог, где-то далеко-далеко?
Он перевернул лист: Но она некрасивая. Некрасивая. Неважно, что все говорят, почему они её обманывают. Лиат как-то сказала ей, года два назад: «Сегодня ты почти красивая». Для неё это был самый большой комплимент, потому что «почти» доказывало, что это правда. Но, когда она думает об этом сейчас, ей хочется кричать из-за того, что внешняя красота определит её судьбу!!! (Но она и вправду красивая, запротестовал Асаф, вспомнив, как описала её Теодора, и даже тайный агент был вынужден признать это; Асаф немного пожалел её и, вместе с тем, почувствовал странное облегчение, именно потому, что, может быть, она не такая уж ослепительная красавица.) ...После школы она пошла в кафе «Итра». Там была одна пожилая женщина, лет сорока, примерно. С прямыми короткими волосами до шеи, в чёрных очках, толстых и не модных, и с совершенно ужасной кожей. Сидела и мешала ложечкой кофе, наверно, полчаса мешала и не пила. Но она не мечтала, потому что у неё был нервный взгляд. Потом она вынула книгу, о которой я подумала, что она на английском, и ещё полчаса, не меньше, читала, но когда я, проходя мимо, заглянула, то увидела, что книга на иврите! И что она читает её задом наперёд! Я записываю в памяти, что всё полно тайн. Я уже не так наивна, как в детстве, и знаю, что у каждого человека свои тайные игры. И ещё одна мысль с сегодняшнего урока физкультуры: что была какая-то мутация, что вся одежда на свете исчезла, испарилась и всё, нет одежды! И все должны были бы ходить голыми везде, в рестораны, в школу, на концерты. Бррррр! Кстати о женщине в кафе, она выглядела, как журналистка или судья. Она понимает, что такой будет она сама лет через двадцать пять, как умная и печальная судья, рядом с которой никто не садится.
Асаф сидел смущённый. Одно дело открыть чей-то дневник, чтобы найти подсказки, которые приведут к нему. И совсем другое дело так заглядывать в душу. Но это заглядывание уже делало своё дело. Что-то было там, в словах, в грусти, в одиночестве, от чего Асаф не мог отделаться. Он открыл другую тетрадь, потолще. Будь у него несколько спокойных дней, он бы сел и всё прочитал. От начала и до конца, проникая в её жизнь. Но Динка снова забеспокоилась, и он сам, из-за того, что нашёл в дневнике, испытывал нетерпение и ещё больше стремился наконец-то добраться до неё. Поэтому, поспешно пролистав, он перешёл к другой тетради, увидел изменившийся почерк, более взрослый, уже не было нарисованных улиток на полях. Он замешкался перед ещё одним листом, исписанным зеркальным почерком: 3.3.98 И. и А. всё время над всем смеются. Они обладают той лёгкостью, которой нет у неё. Раньше и у неё она была. Когда была маленькая, она почти уверена, что была. И. и А. тоже не всегда были такими весёлыми. Но они как бы умеют играть и «роль весельчаков» тоже. Может, у них это действительно по-другому, потому что у них нет того, что есть у неё. Сегодня мысли особенно черны. Везде крысы. Что случилось? Ничего. Нужна причина? Вчера была у Тео, и они разговаривали о фильме «Небо над Берлином». Какой божественный фильм! Если она вырастет, она будет снимать сюрреалистические картины, в которых всё возможно. Эта идея, что ангелы могут ходить среди людей и слышать их мысли. Ужасно здорово. (И просто ужасно). Был большой спор, есть ли жизнь после смерти, или нет. Т. не верит в Бога и всё равно убеждена, что есть, и что её жизнь в «юдоли плача» не имеет смысла, если нет какой-то гарантии жизни после этого. Я сидела тихо и послушно, пока она не кончила говорить, а потом сказала, что у меня всё наоборот! То есть, что мне необходимо знать, что жизнь только здесь, и не дай Бог, чтобы было переселение душ!!! Только представить, что придётся пройти через это всё ещё раз!
Он захлопнул тетрадь, как будто заглянул в открытую рану. Его больше не сбивали с толку внезапные переходы между "я" и "она". Эта Тамар, она такая – он искал, но не находил слово. Такая умная, конечно. И грустная, очень, и без всяких иллюзий. Берётся голыми руками за электричество. Её грусть не была обычной грустью, такой, которая знакома и ему тоже, из-за поражения "Апоэля", допустим, или плохой отметки. Это была грусть совсем другого рода, как у стариков, которые уже всё знают о жизни. У Асафа тоже иногда бывали проблески такой грусти, но он не умел описать её словами и предпочитал даже не пытаться, потому что, если формулируешь что-то словами, это остаётся навсегда, как приговор тебе; но если бы Тамар была здесь, он говорил бы с ней без страха и попробовал бы, наконец, назвать это по имени, то, что подстерегает за тонким занавесом жизни, обыденности и семьи и даже за самым крепким маминым объятием. Он не любил эти мысли; они окутывали его иногда, когда сидел один в своей комнате или ночью, перед тем, как заснуть. Эта мысль охватывала его внезапно, случалось, что он падал, будто опускаясь прямо в разинутую пасть.
А Тамар – он чувствовал, что она говорит о тех же самых вещах. И что она единственный человек в мире, который так ясно и разумно сказал ему что-то об этих увёртливых и пугающих вещах. Он сидел, раскачиваясь и ударяя кулаками по коленям, раз за разом закрывая тетрадь и открывая снова, будто закрывая и открывая плотину, регулирующую поток, разливающийся в тетрадях и в нём, и, хотя ничего вокруг, в мире за зарослями кустов, не изменилось, Асаф был до ужаса потерян, паря в космическом пространстве, как одинокая человеческая крошка, отчаянно желая знать, что ещё одна человеческая крошка парит где-то там, в пустых просторах, и зовут её Тамар.
И ещё он знал, ни на мгновение себя не обманывая, что разница между ними в том, что она, как видно, не боится этих мыслей или, по крайней мере, не бежит от них, тогда как он всегда только заглянет и убегает, вспомнит и забывает. Она говорила о своих чёрных мыслях, о крысиной шайке, как о старых знакомых. Иногда даже с улыбкой и ему казалось, что ей чуть ли не доставляет странное удовольствие их вторжение. Когда он увидел страницу, на которой она сто раз, как в наказание, написала слово "странная", ему захотелось перечеркнуть её крест-накрест и написать сверху "редкая". Если я приведу ей Динку, думал он с жаром, как же она обрадуется! И ему хотелось сделать для неё что-то большее, чем это, намного большее.
Он встал. Сел. Закрыл, открыл. Всё тело его кололо и горело. Динка следила за ним взглядом, ему казалось, что она ищет глазами его глаза: теперь ты понимаешь, о чём я всё время говорила? Вдруг ему захотелось встать и идти. Он должен был бежать. Разрядить бурление в крови. У него вдруг появилось много слов, они кипели у него в голове. Потому что она была ещё какая-то, Тамар – не просто умная, не просто грустная, не просто редкая. Она была волнующая. Вот то слово, которое он искал и вдруг нашёл, то, что его мама любила говорить, посмотрев хороший фильм: "Ах! Это было так волнующе!" И само это слова в устах его мамы волновало его ещё тогда, когда он не совсем его понимал; и в том, что писала Тамар, он точно ощутил это волнение, будто кто-то сильно перемешивает всё, что у него в сердце, в голове, во внутренностях.
Динка залаяла. Время не ждёт, время не ждёт! Он продолжал перескакивать с тетради на тетрадь, сердце его опускалось от понимания, что не успеет прочитать всё. Добрался до Тамар-пятнадцатилетней: здесь всё вдруг пробудилось. Исчезла угнетающая грусть. Он вдруг увидел радостную девочку. Весёлую даже. Как здорово, обрадовался он и тут же слегка остыл: похоже, из-за её дружбы с Иданом и Ади. Их имена заполняли листы, особенно имя парня: Идан сказал так и сделал так, Идан сообщил, что... Асаф догадался, что, наверно, Идан и есть тот парень, гитарист, которого она ищет. Она казалась совершенно влюблённой в него. Он продолжал читать и, читая, ощутил между строк, что Идан не предан ей по-настоящему, что он немного играет ею, а, может, и той второй, Ади, что, если он и любит кого-то, то только себя, и его удивило, как Тамар этого не чувствует, почему она не читает то, что сама здесь пишет! Скажи мне, Динка, как она, с её умом и требовательностью, может восхищаться этим Иданом?!
Взглянув на дату в конце последней тетради, он обнаружил, что дневник заканчивается ровно год назад. Быстро проверил даты в других тетрадях. Сложил по порядку, и понял, что, если была ещё одна тетрадь – за последний год, которая может прояснить, зачем Тамар отправилась в этот путь – то её здесь нет.
Минуту сидел, разочарованный. Растерянный от множества противоречивых чувств. Но времени предаваться отчаянию у него не было. Нужно было бежать дальше. Странно: не произошло ничего, что могло бы вызвать эту новую спешку. И всё же в последние минуты он чувствовал, как где-то там истекает время в больших песочных часах, и что всё катится с большей скоростью и приближается к своей вершине.
Он сложил всё обратно в рюкзак. Одежду, сандалии, тетради. Он не знал, куда теперь идти. Может, на Бен-Иегуда, искать гитариста, о котором говорил Сергей? У него не было никакого желания с ним встречаться. У него не было сил даже на что-то более лёгкое: просто идти по шумной улице, или видеть чужих людей, или говорить словами, которыми пользуются все. Он чувствовал, что за то короткое время, что он прятался в кустах, произошло что-то новое, праздничное. Не только с ним, но и вообще в мире. Не может всё продолжаться так, как было час назад. Ему вдруг очень срочно понадобилось её увидеть, чтобы рассказать об этом. А может, даже и рассказывать не понадобится, может, она уже всё поняла в эту самую минуту, где бы она сейчас ни находилась, даже не зная, кто он, не зная о нём ничего, она уже всё чувствует.
4. "Почему звезда одна идёт на риск"
***
Она не знала, когда снова увидит Шая. В день после их первой встречи он не пришёл на ужин. Тамар не знала, находится ли он в Иерусалиме или остался ночевать в отдалённом городе, или, может, нарочно избегает встречи с ней. Она сидела и ела своё ежедневное пюре, а её взгляд непрерывно устремлялся к двери. На следующий день Шай пришёл, сел и не поднимал головы до конца ужина, не отвечал на её пронзительные взгляды и слова, которые она кричала ему пальцами. Доел и ушёл, а назавтра его опять не было.
Зато Песах Бейт-Алеви пришёл, сел с ними ужинать и пребывал в хорошем настроении. Шорты лопались у него на бёдрах, Тамар подумала, что он, наверно, никогда не меняет и не стирает свою сетчатую майку. Он шутил и сыпал историями и воспоминаниями о своей армейской службе – он был интендантом какого-то военного ансамбля – похвалялся рассказами о соревнованиях по борьбе, в которых участвовал в юности, а Тамар думала, что если она будет ждать, пока Шай решится пойти ей навстречу, и не предпримет что-нибудь немедленно, то просто сойдёт с ума.
Она украдкой посмотрела в грубое лицо Песаха и была поражена резким противоречием, которое обнаружила в нём. Его мясистые губы выражали порочность, даже скотство, в изобилии мяса на его лице, в мёртвых глазах был непробиваемый деспотизм, и, вместе с тем, в этом лице была неуклюжая симпатия и неприкрытое стремление считаться "хорошим парнем" и быть всеми любимым и почитаемым. Он встал, похлопал по карманам своих шортов и сказал, что забыл свою пачку в машине, и кто угостит его сигаретой? И моментально со всех сторон посыпались предложения, эта их угодливость вызвала у Тамар отвращение, но тут она вспомнила, как он хлопал руками по карманам, и её сердце забилось: карманы пусты, а в майке-сетке нет карманов. Сейчас или никогда.
Она подождала, пока какой-то счастливый избранник зажёг ему сигарету, и он жадно всосал в себя первый дым. Тогда она встала, громко сообщила Шели, что идёт в туалет, и чтоб её тарелку не убирали. Вышла из столовой и побежала со всех ног.
Коридор был пуст. На стенах раскачивались тени от одиноко висящей на проводе лампочки. Тамар нажала на ручку. Была уверена, что дверь заперта. Вся эта затея была сплошной авантюрой и не имела шансов. Дверь открылась.
В кабинете Песаха было темно, и она пробиралась на ощупь. Обошла стул, наткнулась на другой, нашла стол. Туда немного просачивался лунный свет. Она открыла верхний ящик. Папки и бумаги заполняли его в большом беспорядке, но Тамар искала красный блокнот. До этого самого вечера она не видела Песаха без него. Быстро шарила, стараясь сохранить определённый порядок в этой неразберихе. Блокнота там не было. Что ты думала. Он, наверно, держит его в потайном поясе, где-то под шортами. Открыла второй ящик. Там были старые кляссеры и блокноты, пачки парковочных талонов из разных городов.
За дверью в коридоре послышались голоса. Там кто-то шёл. Может, двое. Шли быстро. Тамар согнулась и попыталась спрятаться за ящиком. Боже, подумала она, хотя я в тебя и не верю, хотя Тео и будет смеяться надо мной, что в минуту страха я сломалась и позвала тебя, прошу тебя, сделай так, чтобы они сюда не зашли.
– Увидишь, я, в конце концов, уговорю его продать, – она узнала Шишко, – такой клёвый маг я обязан иметь у себя в машине.
– Дашь две тысячи – продаст, – сказал другой голос, незнакомый, – как миленький, продаст, что скажешь, нет? Наверняка продаст!
Они прошли мимо двери и удалились по коридору.
Она подождала ещё немного, совершенно выжатая от ужаса. В нижнем ящике был замок. А что же. Поэтому он и не берёт блокнот с собой. Ему достаточно ключа. Тамар потянула ящик без всякой надежды. Потом с минуту смотрела, не веря своим глазам: первый раз в жизни, думала она, мне так повезло.
Блокнот был там, красный и толстый с исцарапанной обложкой, засаленной пальцами Песаха.
Сначала она ничего не понимала. Листы были заполнены столбцами и строками, сокращениями, именами и цифрами. Она повернула листы к окну, пытаясь уловить ещё немного света. Её взгляд бегал по строчкам, углы рта опускались: это было похоже на код, и она понимала, что у неё нет времени на его расшифровку. Закрыла блокнот. Зажмурилась. Собралась. Открыв глаза, обнаружила, что строки – это названия городов, а столбцы – даты выступлений. Столбцы и строки пересекались, образуя клетки. Кровь стучала у неё в висках, в шее, даже за глазами. Она поискала столбец с сегодняшним числом. Нашла. Дошла до строки "Тель-Авив". В клетке, где они пересекались, обнаружила своё имя. Таким образом, она расшифровала сокращения: П.Д. означало Площадь Дизенгофа, где она выступала утром. А С.Д. было Центром Сюзан Далаль. Блокнот дрожал в её руке. Она постаралась забыть обо всём, что находится за дверью. Обо всех, кто может войти в эту комнату. Только теперь она смогла по-настоящему понять смелость Шая, когда он отважился отсюда позвонить. Или глубину его отчаяния. Это было в десять часов вечера, родителей не было дома, и она чуть не упала в обморок, услышав его голос впервые за такой долгий срок. Он говорил сдавленным голосом, возбуждённо. Рассказывал про какую-то аварию, в которую он попал, трудно было понять его речь. Умолял, чтобы пришли его забрать, спасти, только не впутывая полицию, если приведут полицию, ему конец. Она тогда сидела на кухне, это было накануне контрольной по тригонометрии, и она не сразу поняла, что он говорит. Его голос был другим, совершенно изменились мелодия и ритм. Он был чужой. Он сказал, что это ужасное место, вроде тюрьмы, что все остальные здесь наполовину свободны, только у него пожизненное заключение, и, не переводя дыхания, попросил, чтобы она извинилась за него перед папой, и сказал, что драка была вызвана минутным помешательством, а босс здесь, сказал он, такой, что я полгода не мог решить, дьявол он или ангел, что-то смешанное, совершенно ненормальное...
И, пока он говорил, она услышала скрип двери позади него. Она дома на кухне услышала, а Шай здесь не слышал. Он сказал ещё несколько слов, потом замолчал, начал глубоко и часто дышать и забормотал "Нет, нет... нет...", после этого она услышала другой голос, нечеловеческий, будто рычание хищника в прыжке, что-то, поднимающееся из самых внутренностей, и тогда начались удары, один за другим, как мешок с песком об стену. Раз и ещё раз, и крик, и завывание, в первое мгновение показавшееся ей звериным.
Отсюда, из этой комнаты.
Только не думать об этом. Пролистала дальше. Проверить следующие дни. Искала строки, где было написано "Иерусалим". Потом в этих строках искала своё имя и его. Не находила, не находила. Сверху донёсся звон вилок и ложек. Там начали убирать. У неё есть ещё минута-полторы. Её палец бежал по дням. Остановился на ближайшем воскресенье. Только её имя было в строке Иерусалима. Шай был в Тверии. Палец пронёсся по всей строке. Упёрся в следующую пятницу. Её глаза расширились: его имя и её, одно возле другого. Шай будет выступать в месте, обозначенном П.М., а она направляется в С.П., оба выступления между десятью и одиннадцатью часами утра. Она закрыла блокнот и положила в ящик, минуту стояла, дрожа всем телом: через девять дней. Неделя и два дня. Он будет на площадке "Машбира", она – на Сионской площади. Расстояние в несколько сотен метров. Как ей устроить их встречу. Ей это в жизни не удастся. Она вытащит его отсюда через девять дней.
Сейчас уходи, кричали все её чувства. Не меньше пяти минут прошло с тех пор, как она вышла из столовой, и её тарелка осталась на столе, Песах может послать кого-то её искать. Но она ещё не всё сделала. Подбежала к двери, приоткрыла и выглянула. Коридор был пуст. Голая лампочка раскачивалась, рассыпая мутные жёлтые тени. Тамар тихо закрыла дверь и вернулась в комнату, к столу, к телефону. Её пальцы так дрожали, что она не смогла правильно набрать номер. Набрала ещё раз. Где-то зазвонил телефон. Только бы она была дома, умоляла Тамар изо всех сил, только бы она была дома.
Лея взяла трубку. Её голос был решительным и бодрым, как будто она стояла и ждала звонка.
– Лея... – прошептала Тамар.
– Тами, мами! Где ты, девочка, как ты? Приехать?
– Лея, не сейчас. Слушай: в следующий четверг от десяти до одиннадцати, жди с машиной...
– Подожди, не так быстро. Я должна записать...
– Нет, некогда. Запомни: в следующий четверг.
– От десяти до одиннадцати. Куда мне приехать?
– Куда? Постой... – жёлтый Леин "Жук" возник перед её глазами. Она пыталась мысленно увидеть маленькие улочки в центре города. Она не знала, по какой из них разрешён проезд транспорта, на какой одностороннее движение, и какое место будет ближе всего к Шаю, чтобы ему не пришлось слишком далеко бежать.
– Тамар? Ты где?
– Я думаю. Одну минутку.
– Можно тебе что-то сказать, пока ты думаешь?
– Я так рада слышать тебя, Лея, – задохнулась она.
– А я здесь ногти грызу. Уже почти три недели тебя не видно и не слышно! Нойка меня мучает, где мами, где мами, только скажи, родная моя, тебе удалось? Ты попала туда?
– Лея, я должна кончать. – В коридоре послышались шаги. Она бросила трубку и свернулась в маленький испуганный комок позади стола. Подождала ещё несколько ударов сердца. Полная тишина. Наверно, эти звуки ей только показались от страха. По крайней мере, сумела передать сообщение Лее. Теперь нужно выбраться отсюда.
Подкравшись на цыпочках к двери, она испытала непреодолимый порыв позвонить ещё кому-то. Это было глупо, совершенно ненужный слалом между логикой и безрассудством; но желание поговорить ещё с кем-то из прошлой жизни загорелось в ней. Она уже была у двери, держалась за ручку, и остановилась, разрываясь. Нужно уходить отсюда. Кому позвонить? Родителям? Пока нельзя. Разговор с ними сломает её. Идан и Ади сейчас в Турине, а даже, если бы и вернулись, о чём можно с ними говорить. Кто остался. Алина и Тео. Алина или Тео? Как лунатик, она направилась к телефону. Лея, Алина и Тео. Три её подруги. Три её мамы. "Тео – мама ума, – написала она как-то в дневнике, – Лея – сердца, а Алина – голоса". Бессознательно подняла трубку. В её ушах дико выла сирена, но она не могла противиться своему желанию. Разговор с Леей моментально пробудил в ней всё, что она заталкивала и хоронила глубоко внутри себя в течение этих недель, и Тамар была захвачена и омыта воспоминаниями о другой своей жизни, об обыденности, свободе и простоте, и как можно делать всё, не думая семь раз о том, не проверяют ли тебя, не следят ли, и как можно говорить всё, что приходит в голову. Как во сне, будто одурманенная, которая отчаянно нуждается в тепле, в любви, она набрала ещё один номер.
Послышался гудок. Тамар представила чёрный старинный телефонный аппарат с круглым наборным диском и быстрый мягкий перестук матерчатых сандалий:
– Да, алло? – спросил резкий голос с глубоким древним акцентом. – Алло, кто это? Одну минутку, это Тамар? Моя Тамар?
***
Рука. Красная, тяжёлая, с чёрным квадратным перстнем, скреплённым полосой золота, опустилась на телефон и прервала разговор.
– Этого я от тебя не ожидал, – сказал Песах и зажёг лампу, залив комнату светом, – от тебя меньше всего. Личные разговоры по телефону общежития? И кому же звонили колокола? Кому-то, кого мы знаем? Маме-папе? Или вообще кому-нибудь другому? Сядь! – рявкнул он, с силой толкнул её на свой стул и начал расхаживать взад и вперёд позади неё. У неё окаменел затылок. Так проколоться. Точно, как Шай, она прокололась. И в той же комнате.
– Теперь есть две возможности. Или ты скажешь по-хорошему, с кем говорила, или мы тебя заставим. Что выбираешь? – он навалился всей тяжестью на стол перед ней. Исходящая от него жестокость обдавала её мощными горячими волнами, его бицепсы бегали под кожей, как щенки в брюхе. Тамар проглотила слюну.
– Я говорила со своей бабушкой, – прошептала она.
– Бабушка, а? В таком случае есть ещё две возможности, – медленно сказал он, и её поразило, как в одно мгновение ушёл внутрь обильный жир с его лица, и выступили кости в виде призрачного чертежа обнажённого черепа, – или я попрошу у тебя номер, который ты набирала, и ты дашь мне его по-хорошему...
Тамар молчала.
– Тогда вторая возможность: я делаю повторный набор.
Она смотрела на него без выражения. Только бы не показать ему, что я боюсь. Не доставить ему этого удовольствия.
Пошёл повторный набор. Песах прижал к уху трубку. Была тишина. И один гудок. Потом сквозь его щеку Тамар услышала резкое "алло" Теодоры, которое сейчас казалось обеспокоенным и испуганным. Песах молчал и внимательно слушал. Теодора опять крикнула:
– Алло? Алло!! Кто это? Тамар? Тами? Это ты? – он положил трубку.
Его рот слегка искривился в сомнении.
– Хорошо, – сказал он, наконец, с искажённым от отвращения лицом, – это похоже на бабушку. – Плечи Тамар облегчённо опустились. Как такая дурацкая ошибка может превратиться в спасательный круг. Чёрт возьми, тут же подумала она, я забыла сказать Лее название улицы! Она впилась ногтями в ладонь: день и час успела сказать, а улицу нет! Какое ужасное упущение... Песах задумчиво расшагивал вокруг неё по комнате. Потом снова склонился перед ней всей своей величиной, твёрдостью, жестокостью:
– Вставай. На этот раз ты выкрутилась. Чую, что здесь нечисто, но тебе повезло. А теперь раскрой пошире уши. – Она сидела, не шевелясь, и думала, как с первой же минуты здесь сама всё усложнила, когда запела ему "Не зови меня милашкой", и потом, когда назвала Мико вором, и когда отдала деньги русской, она опять и опять действовала, подчиняясь своим импульсам, в полном противоречии с её интересами и целью. – Ещё хоть раз только пощекочешь самый мой краешек – тебе конец. Пусть ты даже поёшь, как Хава Альберштейн и Йорам Гаон[38]38
Хава Альберштейн и Йорам Гаон – израильские певцы.
[Закрыть] вместе взятые, ты вылетишь отсюда так, что больше никогда в жизни не сможешь петь, слово даю, и послушай меня внимательно, милашка, – он назвал её «милашкой», а как же иначе, – мне пока ещё не совсем ясно, что ты тут делаешь, ты меня поняла? Почему я всё время чую какой-то душок от тебя. У меня на тебя чутьё, а я в этих делах ещё ни разу не ошибся. – Она чувствовала, как минута за минутой тает в ней это таинственное вещество, которое должно связывать воедино все органы и черты лица. – Так что заруби себе на носу, ещё не родился тот человек, который проведёт Песаха Бейт-Алеви, мы поняли друг друга?







