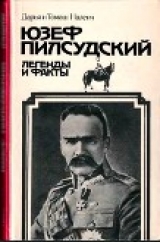
Текст книги "Пилсудский
(Легенды и факты)"
Автор книги: Дарья Наленч
Соавторы: Томаш Наленч
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 27 страниц)
День был ясным, солнечным, морозным. Я знал, что Маршал не будет работать и решил дать ему поспать.
Направился в спальню только в половине двенадцатого. Пилсудский уже не спал.
– Думал, – сказал он, увидев меня, – что вы вообще уже не придете. В этом Вильно все распускаются. Где это видано ломать мне весь распорядок дня.
Я осмелился сказать, что на сегодня нет никаких дел.
– Вы за меня не думайте, я в этом не нуждаюсь.
Пилсудский сидел на кровати, опустив ноги на ковер.
Когда я увидел их, то испугался. Ноги настолько опухли, что не были видны даже щиколотки.
Я не мог сдержаться, чтобы не обратить на это внимание Маршала.
Пилсудский с любопытством, как на какой-то не известный ему предмет, посмотрел на меня и равнодушно кивнул головой.
– Пусть.
Несмотря ни на что, было видно, что он в прекрасном настроении. Встал с кровати и, надев только нижнее белье и тапочки, подошел к окну. Оперся обеими руками о подоконник и смотрел на открывшуюся неповторимую панораму, на окруженный колоннадой внутренний двор дворца и благородные очертания Доминиканского костела.
– Этот костел, – произнес он, – виден во всем великолепии только отсюда. Ни с какого другого места в городе он не выглядит так.
И действительно, вид был замечательный. Покрытые снегом крыши домов, небо в сочетании с тишиной и покоем, характерные для этого старого района Вильно, создавали прекрасное поэтическое целое.
Но я не видел тогда ни этой красоты, ни снежного убранства, ни архитектуры костела, ни дворцовой колоннады. Думал об одном: через две недели Пилсудскому исполнится шестьдесят семь лет… Шестьдесят семь тяжелых, заполненных трудом лет.
1 декабря около девяти утра мы выехали из Вильно в Варшаву.
1935 год
Новый год
31 декабря в 12 часов ночи мы с доктором Войчиньским зашли к Пилсудскому с бокалами вина, чтобы встретить Новый год.
– Желаем Вам, пан Маршал, здоровья, – сказал доктор.
Пилсудский взял бокал и отпил немножко:
– Спасибо.
Раньше Маршал при таких оказиях любил поговорить, вспоминал прежние времена. Теперь же молчал, не проявляя ни малейшего желания к беседе. Мы вышли.
Супруга Пилсудского находилась в Крынице, и поэтому он остался в Генеральном инспекторате Вооруженных сил.
Утром я спросил его, можно ли вечером показать кинофильм.
– Ведь сегодня праздник, – добавил я.
Маршал неожиданно спросил:
– А какой?
– Новый год.
– Новый год? У нас в Литве никто не считает его праздником. Какой еще праздник? Трех королей[223]223
Праздник Трех Королей отмечается 6 января. Согласно западным вариантам перевода евангельской истории, три короля принесли дары младенцу Иисусу Христу. В славянском переводе – поклонение трех волхвов.
[Закрыть] – да, праздник, но Новый год…
Весь день Маршал провел в одиночестве.
Визит Геринга
Бельведер, 31 января
Главу правительства Пруссии Германа Геринга Пилсудский должен был принять в Бельведере 31 января в 6 часов вечера[224]224
Речь идет об одном из приездов Германа Геринга «на охоту» в Польшу. В ходе визита Геринг вел беседы с польскими государственными деятелями. Согласно записи вице-министра иностранных дел Шембека, Геринг «подал мысль о совместном германо-польском походе на Россию, указывая на выгоды, которые эта акция дала бы Польше на Украине».
[Закрыть]. За несколько минут до этого он надел военный френч с маршальскими регалиями и парадный пояс. Геринг приехал пунктуально. Мы с капитаном Пахольским встретили его в вестибюле и проводили в гостиную, где его ожидал Пилсудский.
Этот один из наиболее известных гитлеровцев прекрасно иллюстрировал распространенное мнение о внешнем виде немцев. Толстый, тяжелый и серьезный. Его внушительный живот, который обычно скрадывал мундир, теперь, в гражданской одежде, особенно выделялся. Однако достаточно было бросить взгляд на его мрачное и суровое лицо, чтобы забыть о комплекции этого человека. Оно выражало неукротимую веру – не знаю – в себя или в идею, но во всяком случае веру, ломающую любые преграды и всегда побеждающую. Этот человек наверняка умеет быть другом и врагом не на жизнь, а на смерть. Я смотрел на него с огромным интересом. Присутствие в Бельведере правой руки Гитлера казалось мне чем-то неестественным. Еще свежим был гигантский скачок, который совершил Гитлер из ничтожества на самый верх.
Геринг снял пальто в холле и молча направился к открытой двери первой комнаты. Не глядя ни на кого, с немым выражением лица прошел большими шагами несколько залов. В последнем его ждал Маршал.
Я видел, как они поздоровались, после чего дверь закрылась.
Я задумчиво смотрел на нее. Там, за нею, разыгрывалась историческая сцена. Может, решалась линия польской внешней политики на многие годы.
Несколько лет спустя я имел возможность видеть Геринга на огромном митинге в Вене после присоединения Австрии к германскому рейху. Я никогда не предполагал, что этот толстый, пузатый человек может быть прекрасным оратором и умеет так воздействовать на слушателей. Два часа подряд он держал в напряжении пятнадцатитысячную толпу в огромном зале недействующего вокзала. Его голос не ослабевал ни на минуту. Возбужденная и внимательно слушавшая его речь толпа охрипла от постоянных возгласов «Зиг хайль!».
Через некоторое время встреча в Бельведере закончилась, Геринг снова прошел большими, тяжелыми шагами по залам дворца и, не промолвив ни слова, сел в машину и уехал. Исторический визит завершился.
Тетя Зуля умерла
Воскресенье 3 февраля Пилсудский проводил в Бельведере, и поэтому у меня было свободное время. Около шести вечера меня разыскали в городе.
– Маршал вызывает вас к себе, – сообщил дежурный и тотчас же добавил: —пани Каденацова умерла.
Я помчался в Бельведер.
Когда я вошел в угловую комнату, где сидел Пилсудский, то застал его подавленным и печальным. Увидев меня, он произнес тихим, отрешенным голосом:
– Тетя Зуля умерла.
Меня охватила жалость. Я молча смотрел на сгорбленную фигуру Маршала, который переживал постигший его удар. Понимал его горе. Ведь умерла его старшая сестра, при которой он всегда чувствовал себя «младшим».
С ее уходом он более осязаемо должен был почувствовать тяжесть прожитых лет. Сидел теперь на диване, упершись локтями о стол и водя невидящими глазами по стенам комнаты, шептал про себя: «Тетя Зуля умерла, тетя Зуля умерла»…
Я хотел чем-то утешить Маршала, но не решался прерывать его раздумья.
В какую-то минуту Пилсудский очнулся от забытья и сказал:
– Бедная Зуля. Что она сделала. Я всегда думал, что умру первым, и она похоронит меня, а не я ее.
Маршал снова умолк на долгое время, только пускал клубы дыма.
– Надо заняться похоронами, – прервал я его молчание.
Маршал оживился.
– Да, – промолвил он, – займитесь с Пахольским организацией похорон. За все плачу я.
– Слушаюсь.
– Остальные распоряжения получите завтра утром.
Вошла супруга Маршала, а минуту спустя одна из дочерей.
Я покинул Бельведер и поехал в больницу, где лежала умершая.
На следующий день мы с капитаном Пахольским явились к Маршалу за дальнейшими распоряжениями. Он, видимо, до этого все обдумал, потому что сразу же дал нам подробные указания.
Коротко они заключались в следующем: похороны состоятся в Вильно, вынос тела и похороны будет обслуживать епископ Гавлина, в обеих траурных церемониях примет участие Маршал с женой и детьми.
– К Гавлине пойдите сами и попросите от моего имени.
Весь понедельник ушел на подготовку к выносу тела, после чего вечером мы вместе с сыном умершей Чеславом Каденацовым выехали в Вильно, чтобы приготовить там все, как следует. В соответствии с пожеланием Пилсудского траурное богослужение должно было проходить в костеле Святой Анны, о котором Наполеон якобы сказал, что это единственная вещь, которую он охотно забрал бы из Вильно во Францию.
5 февраля мы обсудили все детали с ксендзом и в среду утром вернулись в Варшаву.
Поскольку Маршал сам руководил подготовкой к похоронам, мы с капитаном Пахольским тотчас же явились к нему, чтобы доложить о результатах поездки в Вильно.
После окончания богослужения в больнице тело умершей было установлено на катафалк и похоронная процессия двинулась в направлении Главного вокзала. Гроб должны были поместить в специально подготовленный вагон, а затем отправить в Вильно. Пилсудский не участвовал в похоронной процессии, а приехал на вокзал, где встретил похоронную процессию, дождался, пока гроб не внесли в вагон, после чего уехал.
Похороны были назначены на 8 февраля. Мы с Пилсудским выехали ночным поездом сразу же после церемонии выноса тела.
Это была печальная поездка. Маршал, который всегда был в прекрасном настроении, направляясь в любимый Вильно, на этот раз молчал и не проявлял никаких чувств.
Утром прибыли в Вильно. С вокзала Пилсудский отправился прямо во Дворец приемов, где остановился. Спустя некоторое время пригласил к себе епископа Гавлину, Чеслава Каденацова и меня. Мы доложили ему о состоянии подготовки к похоронам, а затем он отдал последние инструкции. Маршал особенно хотел сохранить в траурной процессии семейную иерархию, определив места поближе к гробу ближайшим членам семьи, подальше – дальним родственникам. Заявил, что сам будет идти сразу же за гробом и вести под руку старшую дочь умершей Зофью Каденацову. Его последнее заявление напугало нас. Но, к счастью, Маршал не настаивал пройти пешком вместе с похоронной процессией весь путь от костела Святой Анны до кладбища и согласился сопровождать гроб только при выносе тела из костела, а затем – от ворот кладбища до могилы.
Похороны проходили в соответствии с заранее разработанным планом. Никогда не забуду печали в глазах Маршала, когда о крышку опущенного в могилу гроба застучали первые горстки земли. Пилсудский смотрел на исчезающий, засыпанный гроб с окаменевшим выражением лица. У его ног был гроб не только сестры, но и детских воспоминаний, воспоминаний о матери, отце, старых друзьях.
Падал мокрый, липкий снег и оседал на его седых волосах. Зофья Каденацова раскрыла зонтик и подняла его над ним.
Вернулись во дворец. Вечером собралась большая часть семьи Пилсудских и допоздна пробыла у него.
Маршал не спал почти всю ночь, даже не раздевался. Я заглянул к нему в 7 утра. Он сидел на диване и курил.
– Ну, все позади. Теперь я думаю уже о Варшаве.
В 8 утра Пилсудский покинул Вильно. Дорогой он был все еще подавлен и все время молчал. О «тете Зуле» не вспоминал ни словом.
На вокзале в Варшаве его встречало почти все правительство, которое в дни траура старалось продемонстрировать свое сердечное отношение к Маршалу и сочувствие.
Через год… полвека
18 февраля
Было поздно. Может, час или два ночи. Я сидел в своей комнате и просматривал груды документов, привезенных из России. Там были полицейские донесения, фотографии, протоколы, объявления о розыске. Из груды этих пожелтевших листков проглядывала вся жизнь Пилсудского. Жизнь, лишенная дневного света, личного счастья, радости.
Читая эти документы, я никак не мог ассоциировать того, преследуемого шпиками Юзефа Юзефовича Пилсудского, он же Зюка, с сидящим в соседней комнате Первым Маршалом Польши.
Двери были открыты, и я время от времени слышал его покашливания.
Читаю один из этих листков, помятый, испачканный, написанный отчетливым почерком.
«Его превосходительству ректору Харьковского университета от студента Юзефа Пилсудского.
ПРОШЕНИЕ
Желая перевестись в Дерптский университет на второй курс медицинского факультета, имею честь просить Ваше превосходительство переслать мои документы в означенный университет, а в случае принятия меня выслать требуемое свидетельство о моем освобождении по нижеуказанному адресу.
Студент Юзеф Юзефович Пилсудский.
Мой адрес: Вильно, Замковый переулок, дом Липницкого».
На этом прошении виднеется в левом углу наискось написанное примечание университетского инспектора следующего содержания:
«Студент Юзеф Пилсудский своим поведением обращал на себя внимание инспекции, а за участие в беспорядках 18 и 19 февраля 1886 года решением Правления Университета, утвержденным куратором округа, был посажен в карцер, который отсидел, и получил выговор и предупреждение, что если будет замечено, что он ведет себя вопреки действующим предписаниям, то будет безоговорочно исключен из университета.
И. о. инспектора Д. Гаркшевский».
18 февраля 1886 года! Я невольно взглянул на календарь. Тогда тоже было 18 февраля, только год другой, сейчас – 1935-й. Значит, с того дня прошло ровно сорок девять лет. Сорок девять лет борьбы!
«Через год, – подумал я, – исполнится полвека». И в голове зародилась мысль отметить эту дату. Начал строить план. Надо было бы сказать об этом премьеру, а может, и президенту, но вначале необходимо поговорить с Маршалом.
Я взял листок с примечанием университетского инспектора и направился в кабинет Пилсудского.
Маршал сидел в глубоком кожаном кресле за небольшим, покрытым зеленым сукном столиком и, склонившись над пачкой журналов, читал. В последние годы он любил читать зарубежные иллюстрированные журналы. Видимо, был увлечен их содержанием, поскольку не слышал, как я вошел. Только после длительной паузы поднял голову, снял пенсне и промолвил:
– Что у вас?
Хотя время было позднее, вид у Маршала был отнюдь не сонным, а наоборот – он выглядел отдохнувшим. Глаза смотрели живо, блестели. Даже чересчур. Лихорадочное состояние не покидало Пилсудского уже на протяжении нескольких недель. Градусник неизменно показывал вечером на две-три десятых градуса выше предостерегающей красной отметки и приводил в депрессию доктора Войчиньского.
– Пан Маршал, – сказал я, – я тут нашел одну бумажку с харьковских времен.
Пилсудский протянул руку.
– Паскудное было время, – сказал он, взял листок и начал читать. Через минуту оторвал взгляд от документа, оперся на ручку кресла и откинул голову назад. Задумался.
Я продолжал тихонечко стоять в двух шагах от него. Не смел прерывать задумчивость Маршала: тот смотрел открытыми глазами куда-то мимо меня, в угол комнаты. Казалось, что он забыл обо мне и документе, который я принес ему. Я подумал, может, мне следует удалиться в свою комнату, как вдруг Маршал пошевелился в кресле и встал. Сделал жест рукой, как будто бы от чего-то отмахивался, и промолвил:
– Где вы это разыскали?
– В бумагах, – ответил я, – которые большевики добровольно передали нам в прошлом году.
– Ага.
Пилсудский взял в руки один из журналов и начал просматривать его, давая понять, что не намерен продолжать разговор. Но мне хотелось поговорить с ним о годовщине.
– Пан Маршал…
Пилсудский взглянул на меня поверх пенсне.
– Что еще?
– Сегодня исполнилось как раз сорок девять лет со времени того харьковского карцера.
Хм!
– Через год будет пятьдесят.
Маршал кивнул головой.
– Невелика премудрость, – сказал он, – уметь прибавить один к сорока девяти.
Теперь я приступил к сути дела.
– Я хотел спросить, вы бы не возражали организовать в 1936 году торжества по случаю полувековой годовщины вашей работы.
Пилсудский, не раздумывая, ответил:
– Еще чего, ни в коем случае.
Я растерялся.
Маршал постучал мундштуком папиросы по столику и сказал:
– Тоже придумал… я совсем не рад, что с тех пор прошло уже полвека и не имею никакого желания отмечать эту дату.
Мне стало не по себе. Какого черта я вылез с этим предложением? Мои переживания, должно быть, отразились на моем лице, поскольку Пилсудский дружески улыбнулся мне, как бы желая утешить меня.
– Да, да, – сказал он, – полвека – немало времени. А мне, знаете, пятьдесят лет исполнилось в тюрьме.
– В Магдебурге?
– Да, в Магдебурге. А пятьдесят первый – в Бельведере. Я уже был Начальником государства. Полвека… Полвека собачьей жизни. А эту вашу паскудную харьковскую годовщину спрячьте в карман или в ящик. Харьковская годовщина… Бог с ней.
Но, видимо, никак не мог оторвать свои мысли от давних воспоминаний.
– Паршивый был этот губернский город Харьков.
Тем временем старинные часы, стоящие на полке с книгами, пробили три часа утра. В кабинете царила идеальная тишина.
Маршал полулежал в кресле и задумчиво смотрел на большую картину Следзиньского «Взятие Вильно в 1919 году». Пилсудский любил эту картину. Считал ее «комической». «Смотрите, – сказал он мне как-то, – какие у меня на этой картине красивые белые перчатки. Мне кажется, я никогда таких красивых не имел». Но тогда, когда я стоял перед ним в Генеральном инспекторате Вооруженных сил, он не думал об этой картине. Его взгляд, не задерживаясь, скользил по ней. Раздумывал. Я знал, что в последнее время Маршала одолевали черные мысли и старался, как мог, отвлечь его от них. И теперь я подошел к окну, раздвинул штору и посмотрел на небо. Оно искрилось от звезд.
– Мороз, пан Маршал, – сказал я.
Пилсудский очнулся от задумчивости.
– Хорошо, хорошо, – сказал он и склонился над журналами.
Болезнь
До февраля здоровье Пилсудского давало, правда, иногда сбои, но не настолько, чтобы вызывать в семье или ближайшем окружении опасения. Болел гриппом, простужался, страдал от кашля, но из всех этих недугов он всегда выходил победителем. И только 1935 год начался под плохой звездой. Лихорадочные состояния случались все чаще, и все заметнее проявлялось ослабление всего организма. Доктор Войчиньский делал, что мог, чтобы добиться согласия на проведение консилиума, но безрезультатно. Несмотря на недомогания, Маршал работал почти нормально: принимал людей, выезжал в Вильно…
23 февраля снова выехал в Вильно, а я на этот раз остался в Варшаве.
После его возвращения я около полуночи явился к Маршалу за распоряжениями на следующий день. В Бельведере было тихо и сонно. Как всегда, без стука вошел в угловую комнату, где на диване за овальным столиком сидел Пилсудский. Для него полночь была ранним временем, и я знал, что застану его бодрствующим. В комнате было светло, горело как минимум с пятьсот электрических свечей. Маршал не читал и не раскладывал пасьянса. Сидел, опершись руками о стол, и курил.
– Добрый вечер, – сказал я.
Однако вместо обычного «добрый вечер» услышал фразу, которая показалась мне тогда маловажной, но значение которой я оценил позже.
– Меня вырвало, – промолвил Пилсудский.
До февраля 1935 года я не интересовался такой опасной болезнью, как рак желудка, не знал ее симптомов. Поэтому сказал:
– Наверное, съели что-нибудь недоброкачественное в Вильно или в поезде. Надо принять таблетку.
Пилсудский внимательно посмотрел на меня:
– Думаете, из-за желудка?
Я не понял его вопроса. Для меня все было ясным.
– Доктор из меня неважный, может, позвать Войчиньского?
– Не надо.
Маршал взял у меня иллюстрированные журналы и начал просматривать их. Но определенная тревога, которую я уловил, когда Пилсудский говорил о тошноте, посеяла во мне зерна беспокойства. Я начал вспоминать состояние его здоровья в разное время.
Уже в январе было два приступа боли. Позднее появилась рвота. Все это Пилсудский приписывал расстройству желудочно-кишечного тракта и начал придерживаться диеты. Вначале отказался от трудноперевариваемых блюд, потом стал ограничивать порции, пока наконец не перешел на лечебное голодание. Доктор Войчиньский старался убедить Маршала, что голодание не только не устранит источники страданий, но серьезно ослабит его организм, но тот не хотел его слушать. Тогда доктор Войчиньский попросил меня объяснить Пилсудскому, что тошнота и рвота вызваны не желудком, а печенью.
Выбрав момент, я направился к нему и сказал:
– Пан Маршал, кто знает, правильный ли путь это голодание?
Пилсудский как раз совершал свою ежедневную утреннюю прогулку по комнате. Услышав мои слова, остановился и недружелюбно посмотрел на меня.
– Ишь, умник нашелся, – промолвил он и опять зашагал по комнате.
– Бывает так, – продолжал я излагать мысли доктора Войчиньского, – что даже при здоровом желудке…
Пилсудский прервал прогулку и уселся в кресло.
– Вы же не врач, – сказал он, – и не имеете права заниматься моим здоровьем. А впрочем, я сам себя лечу, не нуждаюсь в этих негодяях.
О врачах у Маршала было вполне определенное мнение.
– При болезнях печени, пан Маршал, симптомы…
Услышав слово «печень», Пилсудский возмутился.
– Докторский агитатор. Будет внушать мне болезнь печени. Это наверняка выдумка Войчиньского. У самого больная печень, хочет, чтобы и у меня было то же самое. Убирайтесь с такими идеями в Америку или Сибирь. Не хочу слышать об этом. Понимаете?!
И Пилсудский завершил разговор парой крепких выражений. Моя миссия провалилась.
Шли дни. Маршал перешел на еще более строгую диету. Я с испугом смотрел на его прогрессирующее истощение и слабость. Он страшно похудел.
В применении собственного метода лечения Пилсудский проявил невероятную настойчивость и решительность. Дни проходили за днями, недели за неделями, а он не прерывал своей полуголодовки. Его метод принес вначале определенный успех. Тошнота появлялась редко, боли тоже. Росла только слабость. Маршал начал постепенно сокращать любые физические усилия. Ограничил, а затем и совсем отказался от прогулок по своему кабинету, все реже заглядывал в мою комнату, просил других раскладывать за него пасьянс.
Когда 19 марта выезжал последний раз в Вильно, был уже очень слабым. Однако по-прежнему скрывал свое состояние от людей. Не выносил жалости, сетований. В то время, то есть в марте, работал очень интенсивно. Принимал многих людей, проводил совещания. Все эти визиты Пилсудский назначал на то время, когда хорошо себя чувствовал. Принимая гостей, сидел удобно в кресле, курил и оживленно разговаривал. Но я видел Маршала после этих бесед. Видел его поникшую голову и беспомощно опущенные плечи, потухший взгляд.
Войчиньский неоднократно обращался к Пилсудскому с просьбой согласиться на созыв консилиума, но Маршал не хотел и слышать об этом. На все аргументы коротко отвечал: «Не хочу». Войчиньский был в отчаянии.
Однако, несмотря на голодание, тошнота и рвота повторялись все чаще, а наше беспокойство начало переходить в панику. Наступило 4 апреля, когда мы решили еще раз атаковать Маршала по вопросу консилиума. Время для разговора выбрали около полуночи, когда Пилсудский составлял план на следующий день.
Явились к Маршалу вдвоем. Комендант сразу же догадался, что у нас какое-то серьезное дело, и, видя наши колебания, сказал:
– Ну, снесите же наконец свое яйцо.
– Пан Маршал, – начал Войчиньский, – надо обязательно собрать консилиум. Очень давно его не собирали.
Пилсудский враждебно посмотрел на доктора и демонстративно обратился ко мне, игнорируя его.
– Эти врачи – отвратительный народ, мерзавцы, проходимцы, негодяи!
Маршал повысил голос. Войчиньский стоял, как на горячих углях, переступая с ноги на ногу, наконец он не выдержал:
– Когда надумаете, пан Маршал, скажите мне.
Поклонился и вышел. Я остался с Пилсудским.
Маршал продолжал метать громы и молнии по адресу всех врачей мира.
– Вы не представляете, какие это подлецы, как они любят досаждать другим.
– Ну да, – подтвердил я мнение Пилсудского о врачах, – но ведь вас вообще не лечат, и если так будет продолжаться, то вам станет хуже. Что же касается врачей, то можно взять других, тоже хороших.
Пилсудский тем временем совсем успокоился.
– Я бы даже согласился на этот консилиум, – сказал он примирительно.
Я тотчас же подхватил его слова.
– Может, я займусь этим вопросом?
– Хорошо, займитесь вместе с Войчиньским. Этот Войчиньский не такой уж плохой доктор.
На следующий день мы составили список врачей, которые должны были принять участие в консилиуме. Однако проделанная нами работа оказалась напрасной. Маршал, согласившись теоретически на созыв консилиума, на практике откладывал его со дня на день. Наконец, устав, по-видимому, от нашего давления, согласился.
Доступ к Пилсудскому врачи получили лишь 25 апреля.
День рождения панны Ягоды
Вечером я сидел в своей комнате и работал над книжечкой для молодежи, которая была издана позже под названием «От Сибири до Бельведера». Это была моя последняя работа, которую я писал с одобрения Маршала. Когда я сообщил ему ее название, он бросил: «У вас голова приспособлена для придумывания названий…» К сожалению, этой книги он уже не успел прочитать.
Как только я приготовился ужинать, раздались шаги и ко мне вошел Маршал. Через мою комнату проходила «дорога» в ванную, и он частенько заходил ко мне. Сейчас, однако, пришел «просто так», возможно, со скуки, а может быть, чтобы услышать человеческий голос в тех глухих инспекторских комнатах. Пришел и стал перед моим столом, опираясь о него обеими руками. С минуту молча глядел на мой ужин, затем начал смеяться своим тихим смехом, во время которого у него смеялось все лицо, а в особенности глаза. У Маршала было два способа смеяться. Один глубокий, уверенный, как бы выходящий из глубины легких, а другой – именно такой, каким он смеялся тогда у моего стола. Смеясь, он все время обращал мой взгляд на тарелку с сухой колбасой.
– Скажите мне, в состоянии ли вы все это переварить?
– Как-то справлюсь, пан Маршал.
Маршал не переставал смеяться.
– Подумать, – изрек он наконец, – что и я когда-то едал столько…
– Но и сейчас у Вас с этим не так уж плохо, пан Маршал.
– Но и не хорошо. А знаете ли, что было со мной в Вильно?
Маршал снова засмеялся.
– Я съел целую тарелку ветчины.
– О, это, наверное, могло повредить пану Маршалу.
– И я так думаю, но знаете, она была так хороша. Очень удалась эта ветчина пану воеводе.
А через минуту:
– Вы, как всегда, пишете. А что же вы пишете?
– Описываю различные фрагменты из жизни пана Маршала. Об этом я уже Вам докладывал. Хочу назвать эту книжечку «От Сибири до Бельведера».
Маршал поднялся над столом и, уже отходя, бросил: «Горазды выдумывать названия».
Ужинал Маршал обычно в восемь часов вечера. Трапеза длилась долго, около часа. Правда, само потребление пищи редко занимало больше, чем десять минут, однако время чаепития тянулось до бесконечности. А затем – папироса, одна и другая…
И тогда было так же. Это было время, когда физическая слабость еще не выбила Маршала из русла многолетних привычек.
Минуло уже десять часов, когда я услышал зов Маршала. Часто вместо того чтобы звать по фамилии, званию или должности. Маршал подзывал меня веселым окриком: «Хоп, хооп!»
Я быстро подскочил к спальне, отзываясь еще издалека: «Есть, пан Маршал!»
Я застал его, удобно развалившегося в кресле, вытянувшего ноги, с папиросой в руке. Серая куртка была расстегнута. Перед ним стояли пустой стакан и блюдечко с киселем, который был уже наполовину съеден.
– Пан Маршал приглашал меня? – спросил я.
– Да, да.
У Маршала было удовлетворенное и веселое выражение лица. Позавчерашнее вечернее настроение, вызванное работой, как-то затерялось в других, более приятных мыслях. Во всяком случае, это был уже один из последних дней Маршала, когда настоящее еще не находилось под прессом все более отчетливого будущего. Он взял колоду карт и начал их тасовать. Он часто так делал, прежде чем сказать то, что хотел сказать, медлил и канителил. То прикуривал, то начинал раскладывать пасьянс, то снова пил чай. Медлил так и сейчас. Я знал об этой привычке, поэтому стоял спокойно и ждал.
Карты были уже разложены, когда Маршал решился отозваться.
– Сегодня в Бельведере, – сообщил он, – большое торжество.
Говорил и усмехался.
Я не знал, что это за торжество, поэтому спросил:
– По-видимому, это какое-то семейное торжество?
– Да, именно семейное. Ягоде исполнилось пятнадцать лет.
– О, она уже совсем взрослый человек.
– Ну, пожалуй.
Это слово «пожалуй» Маршал произнес исключительно серьезно. И минуту спустя добавил:
– Страшно подумать, что дети так быстро растут. Мне кажется, еще вчера она была вот такой маленькой…
– Я не знал об этой годовщине, – вклинился я, – иначе зашел бы поздравить панну Ягоду.
Маршал Пилсудский пожал плечами.
– Не с чем поздравлять. Я уже говорил всем об этих глупых, бессмысленных годовщинах, – сказал он, – я ее тоже не поздравил и даже сказал, что предпочитал бы стократ, чтобы ей было сейчас пять лет. Вы не представляете себе, какой это был прелестный ребенок.
Уже второй раз в течение нескольких дней мне не удавалась беседа о годовщинах.
Маршал Пилсудский задумался и устремил взгляд в какую-то точку перед собой. Наверное, он вспоминал о временах десятилетней давности, когда его младшей дочери было пять лет, а он сам находился в Сулеювеке.
– Естественно, – отозвался он через минуту, – мои дочери всегда соперничали между собой. Каждая хотела быть лучшей. Однажды, например, в Сулеювеке я долго наблюдал за Ягодой, которая демонстративно прохаживалась вдоль куста, просто роящегося от слепней.
Я умышленно не спрашивал, зачем она это делает, ожидая, что она сама все объяснит. «Видишь, папочка, – сказала она, – я совершенно не боюсь слепней, а Ванда говорит, что я маленькая».
Маршал прервал свой рассказ и спросил: «И что вы об этом думаете?»
– Деловая девочка, – отозвался я.
– Ну, думаю я, моя дочь!
Маршал продолжал: «А еще был случай – бедняжка споткнулась и упала и, видя смеющуюся Ванду, сразу же заявила, что не упала, а только «так себе – легла на животик».
Маршал Пилсудский смеялся весело уже только при упоминании о приключениях своих «паненок», как он обычно называл дочерей.
– Определенно лучше никого не поздравлять по случаю дня рождения, – добавил он еще.
Я возвратился в свою комнату, торжественно обещая себе, что уже никогда не буду выскакивать перед Маршалом с предложениями о каких-либо годовщинах. Вспоминал при случае, что уже перед этим Маршал набросился на меня за напоминание о том, что 1-й полк Легионов собирается отметить свою двадцатую годовщину. Маршал сказал тогда:
– По бедности могу признать десятую и двадцать пятую годовщины, но никогда двадцатую Что это за годовщина? Почему не девятнадцатая, а?
В подходящее время я сообщил о том тогдашнему командиру 1-го полка Легионов, ну и, понятно, двадцатая годовщина не отмечалась особенно торжественно.
Антони Иден
2 апреля 1935 года
О дате визита английского министра Антони Идена[225]225
Речь идет о поездке министра по делам Лиги Наций (у Лепецкого – министр иностранных дел) Антони Идена в Варшаву и Москву в апреле 1935 года.
[Закрыть] я знал уже достаточно давно и очень беспокоился, состоится ли он из-за состояния здоровья Маршала.
В день визита Маршал побрился и постригся, распорядился, чтобы во время приема были поданы чай и печенье, и заявил, что прибудет в Бельведер непосредственно перед прибытием англичанина. Как всегда перед важной встречей, он был задумчив. По своей привычке громко говорил сам с собой, время от времени крепко ударяя ладонью по столу.
Министр Иден прибыл в сопровождении посла X. Кеннарда[226]226
Ховард Кеннард (1878–1955) – посол Великобритании в Польше в 1935–1939 годах.
[Закрыть] и еще двух человек. Министр Бек приехал перед ним. Следовало признать, что оба государственных деятеля своим внешним видом делали честь народам, которые представляли. Однако мы с удовлетворением отмечали, что не обменяли бы Бека на Идена.
Английский министр иностранных дел любил подчеркивать, что был офицером, капитаном. Может быть, поэтому он держался просто и во внешности имел что-то рыцарское. Высокий, худощавый, с коротко подстриженными усами и милой улыбкой, он вызывал симпатию. С особым интересом мы, адъютанты, разглядывали его безукоризненно скроенное представительское обмундирование, а кто-то из бельведерских вахмистров заметил позднее:
– Такой костюмчик как пить дать злотых четыреста стоит.




![Книга Подвиг 1969 № 04 (Приложение к журналу «Сельская молодежь») [Мандарины для семнадцатого • Адъютант Пилсудского • В путь за косым дождем] автора Федор Шахмагонов](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-podvig-1969-04-prilozhenie-k-zhurnalu-selskaya-molodezh-mandariny-dlya-semnadcatogo-adyutant-pilsudskogo-v-put-za-kosym-dozhdem-243484.jpg)



