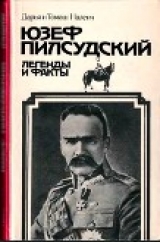
Текст книги "Пилсудский
(Легенды и факты)"
Автор книги: Дарья Наленч
Соавторы: Томаш Наленч
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 27 страниц)
Не скрывал возмущения и Станислав Цат-Мацкевич, виленский консерватор, все больше симпатизировавший Пилсудскому: «Генерал Барч» производит впечатление романа, который писали, засунув голову в туалетную раковину».
Отшельник
Труд Кадена, публикуемый в 1922 году частями в газетах, в виде книги увидел свет в следующем году, когда легенда Пилсудского в очередной раз принимала новое измерение. Летом того же года, не желая сотрудничать с созданным правоцентристским правительством[195]195
Имеется в виду правительство, созданное летом 1922 года объединенными силами правых и центра, когда Христианский союз национального единства выступил в блоке с крестьянской партией «Пяст». В польском парламенте межвоенного периода широко применялось деление депутатов на правых, левых и центр. Причем никакого эмоционально-оценочного значения в эти определения не вкладывалось.
[Закрыть], Маршал отказался от последних официальных должностей. Отошел добровольно. Это решение лишило актуальности так заботливо опекаемого приверженцами мифа о рулевом государства. Его место занял образ отшельника из Сулеювека.
Понятно, что в глазах поклонников эта метаморфоза ни в чем не умаляла прежней величины Коменданта. Он продолжал оставаться самым совершенным из поляков. В то время пилсудчиковский «Глос» писал о нем:
«Под взрывами гранат, в пыли, дыму и порохе, в нечеловеческом кровавом труде солдата и гражданина родилось имя, закаленное, как сталь, горячее, как пламень, ясное и лучистое, как солнце, – Юзеф Пилсудский. <…> В периоды великих исторических потрясений, во время становления независимой Польши, когда не дипломатические торги, а большие громогласные дела говорили о величине человека, в Польше на страже вольности народа мог стать только тот, кто сам возбудил и направил его волю к Независимости. Ведь когда Независимость народа перестала быть химерой, материализовалась, Юзеф Пилсудский был уже в сердцах всех поляков, и к этой самой возвышенной категории польского характера, к этой самой высокой добродетели национальной жизни все мы протянем руки.
Однако же, – изменял тон рассуждений публицист «Глоса», – демократия, дающая неограниченную свободу всем, дала в руки оружие, направленное против себя же, и своим непримиримым врагам.
Лучезарность великого поступка и большого сердца угасла в глазах тех, ничтожество которых не выносит чересчур яркого блеска. Прошло время жертвы жизни, ушел в тень серый польский солдат. Началась подрывная, трудная работа склочника и смутьяна, горлопана и демагога. <…>
И вскорости забыто, кто такой Пилсудский.
Забыто об украшенной героизмом, бессмертной жертве легионов. <…> Забыто, что этот страж независимости со дня ее зарождения не знал ни минуты покоя, неся день за днем на своих плечах весь груз бесчисленных сражений со всеми врагами Речи Посполитой. <…>
Забыто, что уже в первый день своей доблестной службы он умел силой своего духа подавить угрожающий молодой государственности хаос и гражданскую войну, примиряя своим благородным авторитетом находившиеся в раздоре помыслы. (…)
Забыто, что он – создатель армии, ее организатор и воспитатель, ее вождь и опекун, что он день и ночь работает над ее обучением, обеспечением и воспитанием, глубоко понимая то, что мало кто оценивает, что армия – это оборонительный вал Независимости.
Все это забыто…»
Портрет слишком прозрачный. Просто также вытекающее из него понимание: Пилсудский должен был отойти, ибо его величие не давало покоя противникам.
Этот мотив повторялся в десятках высказываний, в том числе в уже цитировавшемся «Великом человеке в Польше». «Величие, – писал Игнацы Дашиньский, – посрамляет малых, раздражает их скрытостью души. Когда видят или слышат великого человека, пожимают плечами, рассчитывают на то, что он наконец уменьшится и станет для них более понятен. В конце тихонько проклинают и протестуют, и протест этот с течением времени переходит во всеобщее осуждение. <…> Для огромного большинства люден добродетель – своего рода упрек и вообще немилая карикатура на их повседневную жизнь».
Именно такие люди, доказывал Дашиньский, вынудили Пилсудского удалиться в домашнюю тишину. Но ошибаются те, которые считают себя победителями. «Душевное одиночество может привести человека к отуплению, но может и развить его дух до самой прекрасной силы. Одиночество сильной души вынуждает искать другие, нетрадиционные измерения явлений, позволяет забыть о текущей волне событий, опережать ее, завершить ее бег и пророчествовать. Пророк должен обособиться, должен заткнуть уши и глаза на повседневный шум и видеть бесконечно дальше…»
Дашиньский сумел доказать, что Пилсудский не отказался от борьбы. Отошел, чтобы в одиночестве, вдали от повседневного шума готовиться к очередной битве за Польшу.
«Мы знаем, – писалось в уже цитировавшемся «Глосе», – что имя Юзефа Пилсудского еще многократно засияет в полном блеске, еще многократно пробудится в душах поляков. Мы услышим его там, где будет решаться судьба государства, увидим его в полноте славы в любую годину опасности, в то время как его унизители поспешно займутся упаковкой своего барахла».
Сравнение политических противников с обложенными барахлом спекулянтами недвузначно припоминало библейскую картину, представляющую Иерусалимский храм, который вместо верных молящихся заполнили торговцы, ни на что не обращающие внимания. Читатель уже сам должен был продолжить главную мысль. Так же как Сын Божий кнутом изгнал торговцев из храма, Комендант должен будет побеспокоиться о возвращении Польше соответствующей позиции.
В другой раз, черпая вдохновение в греческой мифологии, отшельника из Сулеювека сравнивали с Геркулесом, чистящим авгиевы конюшни[196]196
Напомним, что это был пятый из двенадцати подвигов Геркулеса (Геракла). По просьбе царя племени эпеев в Элиде Авгия, владевшего бесчисленными стадами скота, Геракл вычистил его много лет не убиравшийся скотный двор за один день, отведя протекавшие неподалеку реки Алфей и Пеней и направив их так, что они смыли все нечистоты.
[Закрыть]. Бенедикт Герц писал в стихотворении «Авгиева конюшня»:
Правительство без министров, Сейм без конституции,
Польша без границ, разве только кто-то их навяжет,
Дороги без машин, а богатство без наличности,
В армии группировки и какие-то посты…
В посольствах правление теть и покровительниц,
В снабжении еженедельные заторы.
В конторах ослы, трусоватые собачки…
На каждом шагу – давние взяточники…
В очереди мерзнет тихий старичок,
Ведь городская продавщица – это графиня…
Когда расширяются авгиевы конюшни,
В Бельведер ветер вздохи приносит:
Польский Геркулес, берись за метлу!
Эти строки были направлены против недостатков Речи Посполитой и часто неправильных действий ее руководителей. Поэтому миф отшельника, собирающегося с силами для борьбы с царящим злом, призван был способствовать росту популярности.
Это понимали враги бельведерского лагеря. А значит, не уставали в своих атаках. Метили в Пилсудского более остро и решительно, чем тогда, когда он занимал самые высокие государственные должности.
«Этот царь-социалист, – сообщала брошюра Максимилиана Леварт-Скварча, носящая символическое название «Враги возрождения Польши», – в течение четырех лет деспотически правил Речью Посполитой Польской. <…> Под влиянием этого деспотизма, а именно крайнего упрямства он оставался в постоянных конфликтах с Сеймом, а также с большой частью общества. <…> Из-за своего «бешеного лихачества» он становился сеятелем путаницы, суматохи и экономического хаоса, автором постоянных встрясок, неожиданностей и экспериментов, которые понизили уровень нашей политической и общественной культуры. В результате уже само его имя стало в Польше синонимом внутреннего раздора, огромным препятствием для спокойного, целенаправленного труда…»
Подобные эпитеты заполняли более десятка следующих страниц брошюры. Венчал ее вывод: «Юзеф Пилсудский, сыграв не очень удачно свою роль, совершенно ушел из политической жизни. <…> Было попросту сумасшествием беспокоить покусанного зубами времени человека, который вопреки логике и пренебрегая фактами сделал сказочную карьеру, и доверять ему, неспециалисту, воинскую должность».
Такая пропаганда проводилась с мыслью привлечь на свою сторону самые недалекие умы. Ее авторы отлично понимали, что демагогия не убеждает людей, критически анализирующих представляемую им аргументацию. Тем подбрасывали литературу на соответствующем, более высоком уровне.
Несомненного успеха добился Адольф Новачиньский. Ему удалось очень больно поразить противника, не направляя по его адресу ни одного эпитета, ни одного уничижительного определения. Он дал слово самому Маршалу, компонуя текст «Золотых мыслей Юзефа Пилсудского». На почти пятидесяти страницах собрал его высказывания в различные периоды деятельности. И хотя не снабдил антологию ни словом комментария, уже сам выбор показывал героя в малопривлекательном свете.
Вырывая из контекста предложения, Новачиньский предлагал вот такие цитаты: «Поэтому я избрал другую, имея в виду ее сопряженность с правом, карьеру, которую, однако, боюсь вам приоткрыть. Ибо я стал профессиональным уголовником».
Трудно услышать более невыгодное признание. А ведь то, о чем официально информировал издатель, Пилсудский произнес 29 апреля 1921 года в Сасской гостинице в Кракове. Надо учитывать то, чего уже «совестливый» редактор не добавлял: эта цитата взята из шуточного тоста Начальника государства, произнесенного в честь профессоров юридического факультета Ягеллонского университета после присвоения ему титула почетного доктора. Маршал, благодаря за оказанную честь, покорно рассказал о своей биографии, действительно содержащей, если за исходный пункт взять законодательство государств, участвовавших в разделах, поступки «профессионального уголовника».
Этот прием, хотя и вызывающий досаду, не был, однако, слишком колким. Однозначная открытость признания должна была родить подозрения в каком-то обмане. Тем не менее недоброжелатели Пилсудского получали повод для радости, что вот, может быть, неумышленно, но высказал он о себе несколько слов правды.
Намного неприятнее было сопоставление высказываний по тому же вопросу, приходившихся на различные периоды жизни Маршала.
«Я написал письмо Безелеру, – приводил Новачиньский объяснение Коменданта, говорящее о причинах его ареста немцами в 1917 году, – что хочу разделить судьбу моих интернированных солдат; после этого письма меня арестовали и моя активная роль в легионах закончилась».
Эти слова были высказаны в 1918 году. А шесть лет спустя под присягой он давал такие показания перед судом Речи Посполитой:
«Пасхальский. Помните ли вы день своего ареста до Магдебурга?
Пилсудский. Да, это произошло в ночь на 22 июля.
Пасхальский. Видели ли вы накануне ген. Шептыцкого и куда он ехал?
Пилсудский. Несомненно, вы слышали мой рассказ. Я действительно встречал ген. Шептыцкого, едущего в направлении Бельведера.
Пасхальский. В Бельведере в то время жил Безелер?
Пилсудский. Точно».
Следовательно, заблуждающийся читатель не знал действительных причин ареста Бригадира. Или желание разделить судьбу подчиненных, как свидетельствовала информация от 1918 года, или же донос Шептыцкого Безелеру, как это свидетельствует из второго ответа. Но по сути вопроса не могло быть сомнений. В одном из ответов Пилсудский должен был соврать. А значит, этот, как кричали сторонники, муж без изъянов, олицетворение всех добродетелей оказывался простым лжецом, официально утверждающим лишь то, что в данный момент для него выгодно.
Этот тезис, проходящий красной нитью через всю антологию, Новачиньский иллюстрировал многими примерами. Едва ли не самый ценный из них касался противоречивых мнений о генерале Шептыцком. В приказе от 27 марта 1919 года Пилсудский утверждал:
«Доверяя генералу дивизии Станиславу Шептыцком у командование войсками в Литве и Белоруссии, выражаю ему за его службу на должности начальника Генерального Штаба мои самые горячие благодарность и признание. Его мудрый, полный инициативы и энергии труд заложил фундамент польской армии в условиях, в которых не формировалась ни одна армия, потому что она создавалась на пустом месте, во время разгара войны почти на всех фронтах. В молодые ряды польской армии он умел внедрить чувство несгибаемой субординации и чести, так как сам был выражением тех солдатских добродетелей, служа в соответствии с теми главными принципам», даже в ущерб своим личным интересам».
Непосредственно под этим поздравлением Новачиньский приводил диаметрально противоположное заявление в феврале 1926: года: «Все же мы свидетели явления, которое я охарактеризовал в предыдущем интервью, когда в заключение сказал, что нынешняя работа правительства – это выравнивание пути к возвращению двух генералов, от которых я предостерегал пана президента, – пана Шептыцкого и пана Сикорского».
А суть вопроса, и так уж достаточно красноречивого, издатель завершал одним выражением «первого солдата Речи Посполитой»: «Известная моя лояльность приказывала мне воздержаться от некоторых четко сформулированных и совершенно официальных заявлений».
Таким образом, уже никто не мог сомневаться, в чем заключалась «известная лояльность» «самого честного» из поляков.
В борьбу с возносившимся над страной призраком отшельника из Сулеювека включились самые большие авторитеты. Среди них оказался и выдающийся историк, профессор Ягеллонского университета Владислав Конопчиньский[197]197
Владислав Конопчиньский (1880–1952) – историк, публицист, профессор Ягеллонского университета в Кракове, занимался историей Польши XVII и XVIII веков, а также XX века.
[Закрыть]; который в многократно читаемой в то время лекции «Наши великие люди» подвергал беспощадной критике культ вождя. Приводя много исторических аналогий, автор подытоживал выводы фразой, непосредственно относившейся к Пилсудскому и его окружению:
«Ежели кто-то считает, что выдающегося человека можно провозгласить великим при помощи искусственной рекламы, тот глубоко ошибается. <…> Мы искренне смеемся, наблюдая грубую работу панегиристов того или другого божка: эти готовящиеся по заказу журналистские интервью, эти приемы, парады, флагштоки, дюжины брошюр, напичканных пусто звенящим восхвалением. <…> Уважение и любовь сограждан возвышают дух, который уже своими делами этого заслужил. Идолопоклонничество его принижает и, что хуже, принижает самих идолопоклонников, а через, них – всех».
Но сторонники Маршала уже давно не воспринимали аргументов такого рода. Для них каждая атака, направленная на вождя, была равнозначна покушению на национальную святыню» Даже не изволили бросать реплики. Отвечали молчанием, враждебностью и пренебрежением.
Итак, образы Пилсудского – «белый» и «черный» застыли друг напротив друга в ожидании решительной схватки. Ведь только она могла решить, кто из них завоюет пальму первенства.
В преддверии такой схватки поклонники Маршала снабдили миф «великого отшельника» новыми чертами. Они вновь выдвинули руководителя, размышлявшего до сих пор в изоляции о величии Польши, на первую линию политической борьбы.
«Этот отшельник, – писал в ноябре 1925 года «Глос правды», – остался тем, кем был, – властелином душ. Он единственный в Польше умеет владеть ими. Только по его рукам тоскуют солдатские души и души серых миллионов народа. Маршал отвечает на честь и призыв своих солдат, – сообщала газета о ноябрьских торжествах в Сулеювеке, связанных с годовщиной возвращения из магдебургской тюрьмы, – говорит о возрождении польской души, о моральных ценностях народа, о чести. Эта речь, прекрасная и возвышенная, так разительно отличающаяся от того, что мы слышим в Сейме из уст представителей народа, министров и других «спасителей», быстро доходит до общественного сознания и вызывает повсеместный энтузиазм и чувство облегчения: наконец Пилсудский действует!»
Апофеозом таких действий стал майский переворот 1926 года. Гражданской войне, ведущейся на улицах Варшавы, сопутствовало не менее грубое столкновение представлений о вожде, который для восставших означал гораздо больше, чем честь и солдатская присяга, а для их противников вырос в мятежника, выступившего против законного порядка Речи Посполитой.
Изданная в то время пилсудчиковским Комитетом морального возрождения листовка патетически утверждала: «Деятельность Маршала Пилсудского вырвала Польшу из морального безвластия, на котором будто размножились частнособственничество, спекуляция, обогащение личностей и групп, безнаказанно хозяйничающих под покровительством клик в Сейме, в то время как широкие массы народа жили в нужде».
Изданная же в Познани брошюрка «Землякам к размышлению» драматически призывала: «Произошло большое несчастье. Пан Пилсудский с несколькими социалистическими генералами и с частью армии, взбаламученной социалистами, вызвал гражданскую войну, уничтожил почти триста человек, а более тысячи ранил; потряс Польшу до оснований; пробудил немецкий аппетит на Силезию и Поморье, литовский – на Вильно, а русский – на Львов, вооружил отбросы общества винтовками, побуждая их к грабежу и насилию; подорвал доверие к Польше и к Войску Польскому за границей. <…> Кто преклоняется перед бунтом, разжигает гражданскую войну, вводит страну в разруху, тот ускоряет распад Польши и толкает ее к непредсказуемым несчастьям. <…> Поляк, католик должен найти смелость выступить против преступления. Кто решится бороться до последнего, тот должен победить. Силе зла необходимо противопоставить еще большую силу добра. Каждый мобилизован, а тот, кто не услышит этого призыва, кто будет медлить, тот погубит Польшу и самого себя».
Отец народа
Успех участников переворота был равнозначен триумфу «белой» легенды вождя. До этого времени она состязалась с противниками в партнерском бою. Сейчас шансы выглядели иначе. Перед хвалебными гимнами открылся широкий путь для создаваемой государством пропаганды. Упреки же оппозиционной агитации могли лишь сочиться все более тонкими струйками через законопаченные цензурой и репрессиями щели.
Однако вскорости оказалось, что многим людям был значительно ближе тот Пилсудский, который лишен почестей, отождествляемый с протестом против расширяющегося зла, чем диктатор, как арбитр, разрешающий судьбы страны. Потому что человеческую симпатию нельзя измерить килограммами бумаги, предназначенной на биографические публикации. Она рождается в закоулках души, неоднократно вопреки стараниям, предпринимаемым самыми искусными специалистами по пропагандистской обработке умов.
Рисуемый после переворота образ Пилсудского вначале был обращен к предмайским агитационным канонам. Доминировал образ уже упоминавшегося Геркулеса, гигантскими усилиями вычищающего польскую конюшню Авгия. Маршала представляли как героя-бунтаря, протестовавшего против свирепствующего вырождения, угрожавшего высочайшей ценности – Польше.
Тадеуш Лопалевский писал в стихотворении «Пилсудский»:
И почему это у нее[198]198
Польши. – Прим. авт.
[Закрыть] глаза побелели в орбитах,
Почему лицо искривляется грубо, как маска?
Он[199]199
Пилсудский. – Прим. авт.
[Закрыть] посмотрел на небо, у звезд спрашивает совета.
Ходит по тихому дворику в блеске луны.
Сквозь окно майский ветер, звеня в рамы,
Приносит ему издалека бессловесные рапорты:
Разгулялись в безумной столице хамы,
Расползлись по стране подлые когорты.
Когда упадок начал угрожать Отчизне, вождь-отшельник вынужден был отважиться на протест:
Тогда посмотрел в ее глаза, уже почти угасшие,
Поднял руку. Задержал! Что-то взвешивал в сердце…
И неожиданно грозной хваткой сорвал с нее непристойную
маску —
Брызнула кровь на ладони с самого дорогого ему лица.
Итак, страшной была эта операция, окупленная ценой крови. Но для спасения умирающей Родины не было иного выхода.
После таких образов, наполненных терпением и жертвой, поэт рисовал олеографическую картину новой, послемайской Польши:
В бельведерском саду шелестит благовонный ветер.
Опадает туман, как вуаль со святого лика,
С этих глаз, уже избавленных и от слез, и от боли.
Которыми его обворожила таинственная Пани.
В кузницах звенят молоты, плуг вспахивает землю,
В прядильнях прядут полотно молниеносные прялки,
Пан Маршал на Польшу открыл свои окна.
Усмехается детям и говорит: «Уже весна…»
Таким образом, организатор переворота предстал как оздоровитель государства. Правовые аспекты этого поступка не имели значения. Учитывался лишь факт, что он нечеловеческим усилием вытащил страну из открывающейся бездны самоистребления.
Быстро начали исчезать те расчетливые, отдающие искуплением тона. Все больше распространялся портрет отца народа, стоящего над обществом и призывающего к порядку, в случае необходимости – солидным шлепком.
В своем преклонении перед вождем пилсудчики зашли так далеко, что отношение к нему сделали основным мерилом ценностей самого общества. «Пилсудский, – писал в 1927 году в книге «Роль Юзефа Пилсудского в жизни народа и государства» Антони Ануш, – принадлежит к тем немногим личностям в истории народа, которые наиболее достойно представляют то, что в его стремлениях бессмертно и велико. О ценностях поколения современников таких великих личностей потомки судят по тому, как это поколение относилось к самой выдающейся личности своего времени, понимало ли ее цели, сумело ли поспевать за ее волей, достаточно ли поддерживало ее намерения». Следовательно, Маршал был уже не первым из поляков, самым достойным слугой, мужем, ниспосланным Отчизне самой судьбой. Был поднят выше ее. Не он должен был служить Польше, а Польша ему!
Жрецам легенды просто недоставало определений для выражения его величия. Владислав Побуг-Малиновский в 1928 году прибегал к историческим сравнениям: «Ветхозаветный иудей, приученный к вмешательству Бога в историю народа, назвал бы Его пророком, ниспосланным на землю для выравнивания тропинок и дорог жизни народа. Древний грек, поддаваясь чарам мифа, который возносился над всем как близкое и прекрасное явление, назвал бы Его богом и велел бы Ему проживать на недоступном для простых смертных Олимпе. Мы, современные люди, люди твердой борьбы за существование, должны назвать Его народным героем. Достаточно ли этого? <…> У нас много народных героев. Но не найдем среди них ни одного, кто делами своими превзошел бы Маршала». Здесь автор приступал к пространному перечислению заслуг короля Болеслава Храброго[200]200
Болеслав I Храбрый (966—1025) – с 922 года польский князь, с 1025 года – король, его внутренняя и внешняя политика способствовали усилению Польши, он успешно воевал с немцами, признавшими при нем (1000 г.) независимость польских земель.
[Закрыть], гетмана Станислава Жулкевского[201]201
Станислав Жулкевский (1547–1620) – канцлер и гетман великой короны, активно участвовал в завоевательных походах короля Сигизмунда III Вазы.
[Закрыть], Тадеуша Костюшко, Яна Генрика Домбровского, Ромуальда Траугутта[202]202
Ромуальд Траугутт (1826–1864) – генерал российской армии, участвовал в венгерской и крымской кампаниях, ушел в добровольную отставку. В истории Польши это имя связано с национально-освободительным восстанием 1863 года, одним из руководителей которого он был, став в трудных условиях спада борьбы «красным» диктатором, единственным членом тайного народного правительства восставших.
[Закрыть]. Не поскупился на похвалы. Тем не менее в конечном итоге доказывал, что «геройство Пилсудского более значительно, чем геройство самых выдающихся мужей Польши».
Эта мощная река пропаганды и рекламы текла по широко разветвленному руслу. Наиболее полноводным было ее главное течение – официальная, помпезная агитация правящего лагеря, заливающая также страницы школьных учебников. В конце концов трудно перечислить появившиеся в то время издания. Значительно легче охарактеризовать их содержание, сводящееся к преклонению перед Первым Маршалом Польши.
«Он – отражение наиболее достойных корней нашего народа, – утверждала специальная брошюра, изданная в ознаменование именин в 1930 году Генеральным секретариатом Беспартийного блока сотрудничества с правительством, – по своей сути продолжает тот ряд героев, которыми гордится наша история и которым каждый поляк обязан своим национальным строением души. Он – один из организаторов духа Польши, который в тяжкой работе, в огромном историческом труде развивается, растет, становится сильнее, наполняясь все более глубоким содержанием, чтобы принять достойное участие в истории общечеловеческой культуры».
Легенда отца народа, как и ее предшественницы, в каждой среде использовала различные достоинства героя. Итак, были портреты, сконструированные для детей, рабочих, крестьян, интеллигенции, военных – для каждой большой группы, имеющей вес в обществе. Разные лики мифа соприкасались между собой, но и функционировали с соблюдением определенной, выразительной автономии. Произведения, известные в одной среде, в другой почти не присутствовали.
Так, например, «Юзеф Пилсудский» Юлиана Тувима был популярен прежде всего среди интеллигенции, даже той, либеральной, не вытягивающейся по стойке «смирно» в любой ситуации.
Знают, что брови кустистые и пышные усы,
И что не по уставу носит мацеювку,
Слышали, что выражается крепким словечком.
Что он литовского происхождения и с претензией…
Когда он автомобилем, голубым и грустным, мелькнет через год,
Вытягивая за собой сизый шлейф легенды,
Оглядываются, чувствуя на минуту, подсознательно.
Озноб, несбыточный призыв жестокой команды…
В этих и дальнейших оборотах поэт компоновал величие Пилсудского из положительных черт характера, близких каждому человеку. Более того, он касался его слабостей, уже издавна скрупулезно опускаемых биографами. Не принижал, таким образом, героя, скорее наоборот: делал более близким, а одновременно разительно отличающимся от остальной части поляков.
Маршал в глазах Тувима был столь велик, что его личность тревогой пронизывала противников. Однако действительность выглядела гораздо менее патетично. Антагонисты притихли, но, по крайней мере, не из-за величия героя. Молчание было вызвано силой.
Новые методы обеспечения повсеместного уважения «любимого» вождя одним из первых ощутил на себе Адольф Новачиньский, который после майского переворота не прекратил чрезвычайно яростных атак на извечного врага. За это он и был сильно избит офицерскими боевиками. Лишился глаза. Терпеливо переживал болезненный урок, в то время как пилсудчиковская Фемида безрезультатно разыскивала «неизвестных преступников».
Неприятные ощущения доставили также «неизвестные преступники» другому оппозиционному журналисту – Тадеушу Долендзе-Мостовичу[203]203
Доленча Тодеуш Мостович (1898–1939) – писатель, автор популярных сенсационного характера повестей, написанных в жанре бытовой сатиры, – «Карьера Никодима Дызмы» (1932), «Знахарь» (1937), «Дневник пани Ханки» (1939) и др. Большинство произведений Мостовича экранизированы.
[Закрыть]. Его вывезли в глиняный карьер под Варшавой, где сильно избили. Нападение остудило его энтузиазм к дальнейшим выступлениям в прессе. Однако он не полюбил санацию. Начал выступать против нее более рафинированным способом, публикуя повести с подтекстом, осмеивающие власти.
Насколько подлым и безнаказанным может быть тот, кто имеет в своих руках полицию, прокуратуру и суд, узнавал читатель из «Карьеры Никодима Дызмы», нашумевшей книги Мостовича, написанной, как считают некоторые, непосредственно в отместку за бандитское нападение. В ней писатель не атаковал самого диктатора. Не ссылался на него ни в одном эпизоде. Хотя можно не сомневаться, что, иронизируя над некоторыми выходками Дызмы, он насмехался над личными качествами Маршала. Так, например, можно понимать описание поведения Дызмы в цирке, когда тот не хочет согласиться со справедливым вердиктом судьи, дисквалифицировавшего одного из спортсменов за нарушение правил борьбы.
«– Ну и что? – кричал Дызма. – Ну и что? Если я говорю, что не подставил (ногу. – Авт.), я, председатель Государственного зернового банка, то мне можно больше верить, чем такому молокососу со свистком (судье. – Авт.).
Цирк взорвался от аплодисментов.
– Браво, браво!
– Верно говорит!
Председатель поднялся с места и призвал:
– О результатах борьбы решает жюри, а не зрители. Этот поединок не выявил победителя.
Никодим полностью утратил контроль над собой и гаркнул на весь цирк:
– А г..!
Эффект был колоссальный. На галерке поднялся истинный ураган аплодисментов, смеха и выкриков, среди которых все время повторялось слово, употребленное Дызмой.
Никодим всунул руки в карманы и сказал:
– Идем из этой будки, а не то меня кондрашка хватит.
Выходили, смеясь.
– Ну, – говорил полковник Вареда, – одно это принесет тебе популярность.
– Э-э-э…
– Никаких «э-э-э»… только популярность. Завтра вся Варшава будет говорить только об этом. Увидишь. Люди любят крепкие слова…
На следующий день о нем не только говорили, но и писали. Почти все газеты дали подробное и пикантное описание скандала, а некоторые поместили даже фотографию героя вечера…»
Ведь каждый знал, что это Маршал, как деликатно выразился Тувим, «крепким выражается словцом». Он также частыми оскорблениями и ссылками на высокую должность подменял существенные аргументы, особенно во время полемики с Сеймом.
Многочисленные примеры, оправдывающие грубость Дызмы, писатель уже открыто приводил в одной из очередных сцен:
«– Он прав, прав, – кивнул головой генерал.
– Но не слишком, гм… не слишком по-версальски свою правоту выражает, – с акцентом удивления заметил старый помещик.
Воевода снисходительно усмехнулся.
– Мой пан, поверьте мне: позволено ему, он в состоянии сделать это. – Генерал барон Камброин был версальцем!..
Заиграл оркестр…»
Камуфляж был слишком очевиден.
Никто из читателей не мог сомневаться, которая из современных польских величин скрывалась под костюмом бравого наполеоновского солдата из-под Ватерлоо.
Не в этих, по сути, безвредных намеках и насмешках заключался обвинительный тон книги. Прежде всего она била по всей системе правления, созданной санацией, поощрявшей мафиозные связи, некомпетентность, невежество, обычную человеческую глупость, лишь бы все это было прикрыто соответствующей высокой должностью, положением, деньгами, протекцией.
Писатель достиг своей цели. «Карьера Никодима Дызмы» стала оружием, поражающим не менее успешно, чем десятки обвинений, нагромождаемых на страницах брошюр.
Подобно литературе, разоблачительные функции начала выполнять и историческая публицистика.
«В 1665 году, – писал в популярном в то время очерке Владислав Конопчиньский, – Ежи Любомирский выступил с оружием против Яна Казимежа и Людовики Марии под лозунгом свободы и дворянской демократии. Клеймил нечистую практику двора, его покушения на выборы и право вето, франко-абсолютистские принципы: снова добродетель, невинность и демократия спасали Польшу перед черной реакцией»[204]204
В историческом очерке речь идет о событиях польской истории, связанных с проявлением кризиса шляхетской демократии, начавшегося в конце XVI века и определившего рост анархии в польском государстве в XVII и XVIII веках, когда магнатские роды организовывали многочисленные мятежи против королевской власти. Об одном из них и идет речь – о мятеже 1665 года Ежи Станислава Любомирского (1616–1667) против короля Яна II Казимежа (1609–1672), поддержанного только королевой Марией Людовикой (1611–1667). Ян II Казимеж – король Польши в 1648–1568 годах – вел войны с казаками, татарами, венграми, Россией и Швецией. В 1643 году вступил в орден иезуитов и был избран кардиналом. Безуспешно пытался провести государственные реформы, укрепить королевскую власть. После отречения от престола уехал во Францию. Мария Людовика Неверская, из рода Гонзага, с 1646 года была женой Владислава IV, а с 1649 года – Яна II Казимежа. При жизни Владислава IV заметной политической роли не играла. Выйдя замуж за Яна II Казимежа, создала при дворе сильную профранцузскую группировку, оказавшую сильное влияние французской культуры на Польшу.
[Закрыть].
Так говорили бунтовщики. Реальность выглядела иначе.
Королевское правительство, хотя и не самое лучшее, но действительно заслуженное и ответственное, в тяжкой войне за приграничные области, в работе по восстановлению народного хозяйства после «потопа»[205]205
«Потоп» – так поляки часто обозначают нашествие шведов. Этот сильный художественный образ почерпнут из исторического романа Генрика Сенкевича «Потоп» (1886).
[Закрыть] намеревалось укрепить Сейм и исполнительную власть.
А чего хотел, во что верил Любомирский? По-хорошему не верил ни во что: ни в свободные выборы, ни в другие лозунги своих товарищей, хотел отомстить королю за то, что тот слушал других, более умных советников. А те товарищи – конфедерированная армия и часть дворянских демократов также не имели никакого патриотического идеала, кроме анархии и равенства; из их болтовни об устранении злоупотреблений невозможно выскрести ни одной глубокой политической мысли. Поддалось агитации простодушное общество под руководством глупых офицеров, выдвинув на первый план свои материальные интересы, то есть острые претензии на выплату запоздавшего жалованья, и связало их с «моральным интересом», то есть спесью Любомирского. <…>
Кто победил? Те, кто был менее скрупулезен в убиении собратьев. <…> Так хотел демон польской истории: чтобы патриотизм уступал перед насилием людей без совести и чтобы Польша боялась подлецов, а не подлецы Польши…»
В этих утверждениях читатели видели осуждение более близкого им заседания сеймика – от мая 1926 года, в общем-то описанного достаточно реалистически.
Однако не все прибегали к использованию литературных и исторических костюмов. Оппозиция неоднократно выходила на ристалище с поднятым забралом, бросая прямо в лицо диктатору самые острые, хотя не всегда справедливые упреки. Депутат от коммунистов Якуб Войтюк, выступая в Сейме 19 сентября 1927 года, в частности, говорил:
«Каждый рабочий и каждый крестьянин знает, что в действительности в Польше не существует даже видимости конституции или демократии. Знает о том, что в Польше правит фашист, диктатор Пилсудский, для которого не существуют ни законы, ни какие-либо ограничения власти, какие-либо предписания; он знает, что законы пишутся для того, чтобы с ними никто не считался. Доказательством тому – переполненные тюрьмы, пытки в дефензивах[206]206
Дефензива (разг.) – политическая полиция в буржуазной Польше; в русском языке есть близкое по значению слово «охранка».
[Закрыть], сотни и тысячи каторжных приговоров, подавленная рабочая пресса, разбитые организации, цепь преследований рабоче-крестьянского движения, освободительных движений угнетенных народов, которая сделала из нынешней Польши одну большую тюрьму».




![Книга Подвиг 1969 № 04 (Приложение к журналу «Сельская молодежь») [Мандарины для семнадцатого • Адъютант Пилсудского • В путь за косым дождем] автора Федор Шахмагонов](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-podvig-1969-04-prilozhenie-k-zhurnalu-selskaya-molodezh-mandariny-dlya-semnadcatogo-adyutant-pilsudskogo-v-put-za-kosym-dozhdem-243484.jpg)



