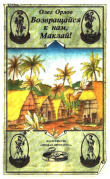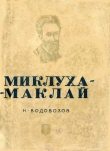Текст книги "Миклухо-Маклай. Две жизни «белого папуаса»"
Автор книги: Даниил Тумаркин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 39 страниц)
Николай Миклуха, как мы уже знаем, в 1864 – 1865 годах не смог приехать в Россию даже на каникулы. Он и далее оставался за рубежом, но не как политический эмигрант, а для углубленного постижения наук. Дело в том, что перемены в России и фактический распад русского студенческого землячества в Гейдельберге оказали глубокое влияние на умонастроения Николая. Он решил прекратить активную политическую деятельность, посвятив себя отныне только науке.
Прослушав в Гейдельберге лекции по широкому спектру научных дисциплин, юноша принял решение вернуться к своей «первой любви» – естествознанию, культ которого еще более окреп в России к середине 1860-х годов [92]92
См.: Эйгмонтова Р.Г.Идеи просвещения в обновляющейся России (50-60-е годы XIX века). М., 1998. С. 90.
[Закрыть]. Престиж естественных наук был тогда очень высок и в Западной Европе, особенно в Германии, так как передовые круги в этих странах – подобно русским революционным демократам – видели в успехах естествознания необходимую предпосылку для преобразования человеческого общества. Миклуха разделял эти воззрения. Решив стать натуралистом, он не отказался от общественной деятельности, а лишь избрал такую ее форму, какую счел для себя подходящей в тогдашних условиях. Позднее это свое кредо Николай выразил в афористической форме: «Единственная цель моей жизни – пользаи успех наукии благо человечества»21.
Ввиду продолжающихся уговоров матери, которая желала, чтобы сын получил за границей приносящую материальный достаток специальность, предпочтительно в области «механики», Николай не сразу осуществил свое намерение. Летний семестр 1865 года он провел в Лейпциге, где – вопреки сведениям, содержащимся в его предсмертной автобиографии, на которой основываются биографы, – поступил не на медицинский, а на камеральный факультет. Такие факультеты, существовавшие в XIX веке в некоторых немецких университетах, готовили специалистов для работы в органах управления, сельском хозяйстве, лесоводстве, горной промышленности, торговле и т. п. Проведя разыскания в архиве Лейпциге кого университета, автор этих строк обнаружил материалы о том, что «Николай Миклухо» (так он обозначен во всех документах) был зачислен 19 апреля 1865 года на камеральный факультет [93]93
Universitatsarchiv Leipzig (далее – UL). Matrikel der Universitat 1864/65. Lfd. 45.
[Закрыть]. Здесь он оплатил и прослушал четыре курса лекций: «1. Физическая география (проф., д-р Науманн). 2. Теория национальной экономии, сравнительная статистика и государствоведение Германии (проф., д-р Рошер). 3. История греческой философии (проф., д-р Зайдель). 4. Учение о костях и сухожилиях (проф., д-р Вебер)» [94]94
UL. Rep. I/XVI/C/VII. № 26. Bd. 2. Lfd. 132.
[Закрыть]. Поначалу создается впечатление, что Николай, поступив по желанию матери на «прикладной» факультет, продолжал расширять свой кругозор и «зондировать» разные науки. Но привлекает внимание курс «Учение о костях и сухожилиях»: похоже, уже тогда юноша обдумывал возможность получить медицинское образование, которое давало «надежную» профессию и в то же время открывало путь к изучению большого цикла естественных наук.
Впрочем, Николай недолго пробыл в Лейпциге. В октябре 1865 года он перебрался, по его собственным словам, «из шумного Лейпцига в маленькую Йену, лежавшую тогда еще в стороне от железных дорог» [95]95
CC. T 5. С 568.
[Закрыть]. Но не только тишиной и спокойствием, да к тому же дешевизной сравнительно с Лейпцигом, привлекла Йена будущего ученого: местный университет стал центром пропаганды и развития дарвиновской теории, и туда потянулась молодежь, желающая приобщиться к учению, которое бросило вызов господствующему мировоззрению.
Любимый ученик Геккеля
Приехав из Лейпцига поездом на станцию Апольда, Николай Миклуха пересел в омнибус, который доставил его до цели путешествия. Молодой человек увидел город, раскинувшийся по левому берегу реки Зале в узкой живописной долине, окаймленной невысокими горами. Улочки, застроенные старинными домами, вели к центру, где находились базарная площадь и ратуша. На многих домах красовались памятные доски с именами живших там знаменитых людей, установленные в 1858 году, когда торжественно отмечалось трехсотлетие Йенского университета. Такие люди исчислялись десятками, начиная с Мартина Лютера и других деятелей Реформации. От городского замка осталось несколько строений, которые теперь использовал университет, а от укреплений, некогда опоясывавших Йену, – несколько башен и ворот. Крепостной ров, благоустроенный и изящно озелененный, был превращен в место для прогулок. Многие обыватели совмещали чисто городские занятия с виноградарством и землепашеством. В середине 1860-х годов в Йене насчитывалось около семи тысяч жителей, в том числе 350 – 400 студентов [96]96
Gunther J.Jena und die Umgegend. Jena, 1857. S. 1-18; Schmidt S., Elm L., Steiger G.Alma mater Jenensis. Geschichte der Universitat Jena. Weimar, 1983. S. 180-181.
[Закрыть].
Расцвет Йенского университета пришелся на конец XVIII – начало XIX века, когда им фактически руководил великий Гёте, который, как известно, был не только прославленным писателем и поэтом, но и крупным государственным деятелем, философом и натуралистом. Йена входила в состав великого герцогства Саксен-Веймар-Эйзенахского со столицей в Веймаре, расположенном вблизи от Йены. Гёте – министр и личный друг герцога Карла Августа, способствовал тому, чтобы в Йене сосредоточилась интеллектуальная элита Германии. В те годы здесь преподавал историю знаменитый поэт и драматург Фр. Шиллер, читали лекции выдающиеся философы Г. Гегель, Й. Фихте, Фр. Шеллинг, «отцы» немецкого романтизма братья Шлегели, известные врачи, юристы и естествоиспытатели.
После 1815 года, в период реакции, Йенский университет пришел в упадок, как и большинство других немецких университетов. Однако преследования, которым подвергались свободомыслящие профессора и студенты, умерялись здесь либеральными гётевскими традициями, сохранявшимися при веймарском дворе. Новый подъем университета начался в середине XIX века при герцоге Карле Александре, который уделял много внимания развитию наук и искусств. Благотворную роль сыграл куратор университета М. Зебек. Он эффективно и дальновидно использовал скромные средства, которые выделяли веймарские власти на содержание университета. В 1850 – 1860-х годах здесь было построено несколько зданий, открылись новые институты и лаборатории. Зебек приглашал на невысокие оклады профессоров, изгоняемых из других университетов, не боялся предоставлять кафедры молодым талантливым ученым, только начинавшим научную карьеру. Так, в Йенском университете появились К. Гегенбаур и Э. Геккель, ставшие учителями Николая Миклухи.
Карл Гегенбаур (1826-1903) – приват-доцент, а с 1855 года – профессор зоологии и сравнительной анатомии в Йене. До 1860 года он занимался преимущественно изучением морских беспозвоночных, затем сосредоточился на сравнительной анатомии позвоночных. Фактический материал в трудах Гегенбаура по анатомии был истолкован с позиций дарвиновской теории, но сам он не занимался широкими теоретическими обобщениями. Убежденный дарвинист, он поддерживал своего друга Э. Геккеля – защитника и пропагандиста эволюционного учения. Гегенбаур пользовался признанием у специалистов, но оставался как бы в тени харизматической фигуры Геккеля, труды которого не только получили громкую известность в ученом мире, но использовались в идейно-политической борьбе на протяжении нескольких десятилетий.
Эрнст Геккель (1834 – 1919) уже на школьной скамье увлекся изучением живой природы, но по настоянию отца окончил медицинский факультет Вюрцбургского университета и в 1858 году успешно выдержал государственный экзамен на «врача, военного хирурга и акушера». Однако практическая медицина не привлекала Геккеля. В студенческие годы он углубленно изучал зоологию и сравнительную анатомию, причем заинтересовался низшими морскими животными – полипами, медузами и кораллами, выезжал для их сборов и исследования в среде обитания на остров Гельголанд, в Ниццу и Мессину. В 1861 году по совету Гегенбаура Геккель принял приглашение Зебека занять должность приват-доцента в Йенском университете, в 1862 году стал экстраординарным, а в 1865 году – ординарным профессором зоологии. Геккель читал лекционные курсы по зоологии и палеонтологии, проводил практические занятия по изучению гистологических препаратов под микроскопом. Капитальные монографии о радиоляриях, известковых губках и медузах сделали его одним из крупнейших зоологов второй половины XIX века.
Не желая ограничиваться разработкой конкретных научных проблем, Геккель решил создать всеобъемлющую историю миротворения – от сгустков неорганической материи до человека. Интеллектуальным толчком для него послужило знакомство с теорией Чарлза Дарвина. В 1860 году Геккель приобрел немецкий перевод книги Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора» (впервые опубликованной в 1859 году на английском языке) и после длительного и кропотливого ее изучения стал горячим приверженцем дарвиновской теории. Уже в 1862 году в монографии «Радиолярии» он предсказал, что дарвинизм (термин, предложенный А. Уоллесом) станет одной из самых важных и плодотворных научных теорий XIX века, и ожесточенные нападки на него объяснил тем, что Дарвин опроверг «укоренившиеся предрассудки и господствующие догмы» [97]97
Haeckel E.Die Radiolarien. Berlin, 1862. S. 232.
[Закрыть]. С зимнего семестра 1862/63 года Геккель начал читать курс лекций об эволюционной теории, ежегодно пополняя его новыми аргументами и фактами, защищающими и подкрепляющими дарвиновское учение.
Геккель пошел дальше Дарвина. Как отмечает биолог Н.Н. Воронцов, Геккель в отличие от Дарвина не чурался философии, не боялся умозрительных гипотез, наоборот – сам их создавал и активно проповедовал [98]98
Воронцов Н.Н.Эрнст Геккель и судьбы учения Дарвина // Природа. 1984. №8. С. 77.
[Закрыть]. Дарвин в «Происхождении видов» допустил акт творения при возникновении первых простейших организмов и уклонился от ответа на вопрос о происхождении человека. Геккель же в своем программном труде «Общая морфология организмов» проследил естественно-исторический процесс возникновения органической материи из ее неорганических форм, эволюцию растительного и животного мира, происхождение человека от обезьяноподобных предков. В этой эволюционной схеме не осталось места творцу и актам творения. Тем самым Геккель выступил с открытым забралом против религиозных догматов и основанных на них креационистских теорий. В своем программном труде Геккель сформулировал ряд основополагающих понятий и гипотез, сыгравших важную роль в развитии наук биологического цикла. Именно здесь он ввел в обиход термин «экология» для обозначения нарождавшейся науки, ставшей в наши дни одной из ключевых для человечества.
Один из бывших учеников Геккеля, Ю.Ю. Шаксель, писал, что его учитель «штурмовал небо», прокладывая новые пути для развития науки [99]99
Шаксель Ю.Ю.Геккель как человек и ученый // Природа. 1934. № 4. С. 40—45. К концу XIX века воззрения Геккеля существенно изменились. Он перешел на позиции социал-дарвинизма, а в политике из демократа превратился в восторженного поклонника Бисмарка.
[Закрыть]. Такой безудержный натиск оборачивался порой поспешностью, отдельными скороспелыми выводами. Не будучи расистом, Геккель прибегал к расистской по существу трактовке различий между расами, стараясь обосновать непрерывность процесса эволюции от обезьяны к человеку. Эти особенности его теоретических работ отмечали высокочтившие его ученые-дарвинисты. Но демократически настроенное студенчество и прогрессивная интеллигенция 1860 – 1870-х годов видели в Геккеле мыслителя и трибуна, который раскрывал истинную историю миротворения, бесстрашно боролся с мистицизмом и религиозными догматами.
В 1977 году, во время научной командировки в ГДР, мне довелось побывать в Йене. Я проводил там разыскания в университетском архиве и на вилле «Медуза». Так назвал Э. Геккель жилой дом, построенный им в 1883 году на холме в тихом районе Йены, у небольшой речки, впадающей в Зале. Еще при жизни ученый решил сосредоточить здесь свой архив, библиотеку, картины (он был неплохим живописцем) и завещал все это университету. После смерти владельца вилла была официально переименована в Дом Эрнста Геккеля и стала не только мемориальным, но и исследовательским центром по истории биологических наук. Если в университетском архиве обнаружились документы, касающиеся, так сказать, внешней стороны жизни Николая Миклухи в Йене (тематика лекционных курсов и практикумов, выбранных будущим путешественником, адреса, по которым он жил, и т. д.), то эпистолярные источники, сосредоточенные в Доме Эрнста Геккеля, позволяли попытаться понять логику и эмоциональный фон взаимоотношений Мастера и Миклухи, причины их охлаждения, а затем и полного разрыва.
Как видно из архивных документов, Николай фон Миклухо (так именовался он в этих документах, включая подписанные им самим) 19 октября 1865 года подал заявление и через месяц был зачислен на медицинский факультет Йенского университета [100]100
Universitatsarchiv Jena (далее – UJ). Bestand BA. 1665d. № 39.
[Закрыть]. Уже сделав свой выбор, он решился сообщить об этом матери: «Не зная, останетесь ли Вы довольны, я записался на медицинский факультет. <…> Окончив <нрзб> по этой части, я человек обеспеченный, потому что где бы я ни был, больные всегда найдутся. Притом, занимаясь медициной, я буду и должен заниматься наукой, к которой я всегда имел склонность» [101]101
АРГ О.Ф. 6. Оп. 1. Д. 7. Л. 52. Недатированный черновик этого письма обнаружен мной среди записей лекций по анатомии, которые читал профессор Гегенбаур. Письмо, скорее всего, было написано в начале декабря 1865 года в СС (Т. 5. С. 15—16), где впервые был опубликован этот черновик, я ошибочно датировал его февралем 1866 года.
[Закрыть]. Ответ был предсказуем. «Прочитавши твое письмо (оно меня очень огорчило), – писала Екатерина Семеновна 19 декабря, – мне досадно было на тебя, что взялся не за свое дело; где тебе лечить больных, когда ты сам болен, у тебя не будет ни терпения, ни сил, а быть дилетантом доктором не следует, это бесчестно <…> будь механик, здесь ты никому не вредишь, а напротив приносишь пользу. Нынешний семестр ты оставайся на медицинском факультете, а там подумай хорошенько, обсуди со всех сторон и тогда напиши мне» [102]102
ПФ АРА Н.Ф. 143. Оп. 1. Д. 40. Л. 43.
[Закрыть].
Однако Николай не захотел сворачивать с избранного пути, хотя при поступлении в Йенский университет – вероятно, по инерции или для расширения своего кругозора – оплатил наряду с четырьмя лекционными курсами по медицинским дисциплинам лекции по основам сельского хозяйства, астрономии и телеграфии. В дальнейшем он перестал отвлекаться на «непрофильные» предметы и за три года прослушал основные курсы, предназначенные для будущих врачей; проходил он и соответствующие практикумы, в том числе стажировку в университетской больнице.
Впрочем, Николая мало интересовала практическая медицина. С первых же месяцев пребывания в Йене он увлекся сравнительной анатомией и анатомией человека – дисциплинами, которые преподавал К. Гегенбаур, а также зоологией и проблемами эволюции живых организмов, о чем читал лекции Э. Геккель. Кроме стандартного набора курсов для студентов-медиков будущий путешественник, как видно из архивных документов, прослушал лекции по довольно широкому спектру биологических наук, например «История развития человеческого тела» К. Гегенбаура, «Естественная история кишечнополостных» Э. Геккеля и, конечно, ежегодно обновлявшиеся чтения «йенского еретика» о дарвиновской теории. Большое внимание уделял Николай практическим занятиям – анатомированию трупов, а также препарированию и консервации биологических объектов, изучению гистологических препаратов под микроскопом. Эти навыки, как, впрочем, и медицинские познания, в дальнейшем пригодились ученому во время его дальних экспедиций.
Заметив интерес Николая к науке, глубину и оригинальность его мышления, Геккель сделал его своим ассистентом. В письмах родителям, датированных мартом 1866 года, он называет юношу «моим усердным и полезным помощником», «одним из любимейших моих учеников» [103]103
Ernst-Haeckel-Haus (далее – ЕНН). Bestand An 0024. S.p.
[Закрыть]. Как сообщил наш герой в краткой автобиографии, «от усиленных занятий микроскопом и анатомиею» он получил «легкий паралич левой стороны лица» и был помещен на излечение в университетскую больницу [104]104
ОПИ ГИ М.Ф. 329. Д. 27. Л. 2 об.
[Закрыть]. Несмотря на всю свою занятость (чтение лекций он совмещал со всепоглощающей работой над монографией), Геккель навещал Николая в больнице. «Так как у него здесь никого нет, – писал он родителям 22 марта, – я должен о нем позаботиться» [105]105
ЕНН. Bestand An 0024. S.p.
[Закрыть].
Работа ассистента не оплачивалась, но она сблизила Николая с профессором, выделила русского студента среди других учеников Геккеля. Николай помогал в подготовке и проведении лекций: расставлял в аудитории стеклянные банки с заспиртованными препаратами и другие наглядные пособия, изготавливал вместе с Геккелем и развешивал по стенам крупномасштабные рисунки и чертежи, в том числе воспроизводящие мельчайшие детали, различимые только в микроскоп. В зимнем семестре 1865/66 года Геккель читал свои лекции с огромным успехом, в переполненной аудитории. Как вспоминает М. Фюрбрингер, ставший впоследствии профессором анатомии, лица слушателей пылали от воодушевления, а то, что они слышали, мало походило на обычную лекцию: это был мощный поток интеллектуальной информации, в котором, словно искры, вспыхивали все новые и новые обобщения и гипотезы [106]106
Uschmann G.Geschichte der Zoologie und der zoologischen Anstalten in Jena. 1779-1919. Jena, 1959. S. 68.
[Закрыть]. Вблизи от кафедры неизменно находился ассистент профессора Николай Миклуха.
Студенческая жизнь в Йене
В середине 1860-х годов в Йенском университете и связанном с ним Агрономическом институте учились 20 – 30 русских студентов (точные данные отсутствуют), но они не составляли землячества. В связи с изменением обстановки в России оттуда в немецкие университеты, включая Йенский, стали, как правило, приезжать не политически ангажированные студенты, которые думали прежде всего о преобразовании своего отечества, а политически более инертные «господа студиозусы», которые хотели получить престижную специальность. У российских студентов в Йене не было центра наподобие русской читальни в Гейдельберге, да они и не очень-то стремились обсуждать с соотечественниками острые социально-политические проблемы.
Увлеченный занятиями в университете, чтением научной литературы, работой и общением с Геккелем, Николай не водил компании со студентами из России. Но уже вскоре по приезде в Йену он подружился со студентом камерального факультета местного университета князем Александром Мещерским, который стал его лучшим другом [107]107
Александр Александрович Мещерский (1844 —?) принадлежал к одной из ветвей старинного княжеского рода. В 1861 году за участие в студенческих волнениях в Петербургском университете он был арестован и заключен на короткое время в Петропавловскую крепость, о чем сообщил герценовский «Колокол». Александру пришлось отправиться для продолжения образования в Германию, где он учился в Берлинском, Гейдельбергском и Иенском университетах. Вскоре революционный настрой сменился у него умеренно либеральными воззрениями, которых он придерживался и в последующие десятилетия. Мы будем встречаться с Мещерским во многих главах книги.
[Закрыть]. С летнего семестра 1866 года молодые люди сняли комнаты в одном доме – «пекаря Хуфельда за кладбищем» [108]108
UJ. Verzeichniss der Lehrer, Behorden, Beamten und Studierenden. 1865-1868. №80.
[Закрыть].
Не исключено, что Николай и Александр познакомились еще в Гейдельберге, куда молодой князь, как и наш герой, приехал учиться в апреле 1864 года. Но в его регулярных письмах матери, в которых подробно рассказывается о жизни в Гейдельберге, о русской читальне и т. д. и встречаются десятки русских фамилий, ни разу не упоминается студент Миклуха. Поэтому, скорее всего, их знакомство было поверхностным, «шапочным». На летний семестр 1866 года Миклуха переехал в Лейпциг, а Мещерский – в Иену. Утверждение некоторых биографов нашего героя, будто именно Александр посоветовал Николаю перебраться в Йену, не находит подтверждения в доступных нам источниках. Несомненно одно: об их дружбе уже в начале 1866 года стало известно семейству Миклух, ибо его сестра Ольга в письме от 27 марта расспрашивала брата о Мещерском [109]109
ОПИ ГИ М.Ф. 329. Д. 46, 47.
[Закрыть].
В Йене Николай поближе познакомился с жизнью немецкого студенчества. Одной из важных ее особенностей была активная деятельность студенческих корпораций (буршеншафтов), именовавшихся по латинским названиям германских племен. Так, в Йенском университете корпоранты тогда делились на «саксов», «тевтонов», «германцев», «тюрингцев», «саксонцев» и «франков». Буршеншафты отличались друг от друга сочетанием цветов на корпорантских знаменах, шапочках и лентах, носимых через плечо. Они регулярно устраивали «коммерсы» – праздники с речами, тостами и обильной выпивкой, прежде всего поглощением несметного количества пива. Пожалуй, наиболее одиозной формой деятельности буршеншафтов были мензуры – поединки на рапирах, чаще всего между членами разных корпораций, проводившиеся с соблюдением определенного ритуала, в присутствии секундантов, судей и многочисленных болельщиков. Чем больше шрамов и свежих порезов красовалось на лице корпоранта (туловище во время поединка защищали кожаные доспехи), тем выше был его авторитет среди «цветных» студентов [110]110
Поссе В.А.Пережитое и продуманное. Т. 1. Л., 1933. С. 153, 160—169; Иванов А.Е.Студенческая корпорация России конца XIX—начала XX века: опыт культурной и политической самоорганизации. М., 2004. С. 158—198. А.Е. Иванов исследовал историю студенческих корпораций Дерптского (Юрьевского) университета, копировавших организационную структуру и формы деятельности немецких буршеншафтов.
[Закрыть].
Бурши неохотно допускали в свою среду чужаков, особенно иностранцев, да Николай и не пытался сблизиться с этими прожигателями жизни и в большинстве своем отъявленными националистами. «Цветные» составляли примерно половину студентов в Йене. Остальных бурши презрительно называли «зябликами». Это были дети менее обеспеченных родителей, не имевшие денег на попойки, всевозможные праздники, пристойную одежду и довольно высокие членские взносы в кассы корпораций, либо те студенты, которые приехали в Йену получать знания и отвергали по принципиальным соображениям образ жизни корпорантов. Среди «зябликов» у Николая появилось несколько знакомых (но не друзей), прежде всего ученик Геккеля женевец Герман Фоль, который с 1864 года изучал в Йене зоологию и сравнительную анатомию.
Студенты, не входившие в буршеншафты, любили собираться в кофейне или пивной, чтобы почитать газеты, сыграть в бильярд, выпить чашечку кофе или кружку пива. Они охотно записывались в певческие и гимнастические объединения (ферайны), большими группами совершали дальние пешеходные прогулки по окрестностям Йены. У Николая не было ни времени, ни желания бражничать, заниматься хоровым пением или гимнастикой. Но он очень любил пешеходные прогулки. Профессор зоологии Мюнхенского университета Р. Гертвиг в конце XIX века рассказывал Михаилу-младшему, что в молодости, когда он учился в Йене, «Щиколай] Щиколаевич] будил их (студентов. – Д. Т.)рано утром, стуча в окошко, заставляя принимать участие в разных экскурсиях» [111]111
М.Н. Миклухо-Маклай-младший – И.Ю. Крачковскому, 28 апреля 1938 г. // АРГ О.Ф. 6. Оп. 4. Д. 3. Л. 7-7 об.
[Закрыть].
Йенские обыватели жили тихой, размеренной, во многом патриархальной жизнью. Даже бурши, с их немецкой приверженностью к порядку и законопослушанию, почти не нарушали внешнего спокойствия: пристойно вели себя на улицах, коммерсы устраивали в корпоративных пивных, для мензур арендовали помещения в окрестностях Йены. Николаю, еще не отвыкшему от горячих политических дебатов и сходок 1863 – 1864 годов, жизнь в Йене – за пределами университетских аудиторий и лабораторий – могла показаться пресной и скучной, его раздражало сытое самодовольство местных бюргеров, и он, согласно преданию, решил хотя бы ненадолго вывести их из равновесия.
«Йена была маленьким университетским городом, в стороне от железной дороги. Патриархальный уклад жизни был освящен традициями, – пишет П.А. Аренский, сын известного композитора. – 24 июля разодетые горожане с чинными песнями отправлялись всем городом на соседнюю горку для празднования Иванова дня. Маклай заранее забрался, вымазал одежду красной краской и распростерся поперек дорожки. Наткнувшись на окровавленное тело – столь редкое явление в почтенном городке, публика с воплями устремилась за полицией, но по возвращении не обнаружила ни трупа, ни его следов. Маклай же целую неделю потом забавлялся толками и газетными статьями о таинственном убийстве и исчезновении мертвого тела» [112]112
Аренский П.Путешествия Миклухо-Маклая. 2-е изд. М., 1935. С. 6-7.
[Закрыть].
Можно спорить, насколько этот поступок соответствовал психологическим установкам Николая, и задаваться вопросом, была ли у него вторая, пусть ветхая, пара верхней одежды, которую он не пожалел испачкать красной краской. Но важнее другое: Аренский, автор научно-популярной биографии нашего героя, сообщает, что об этом «сумасбродстве» будущего путешественника «рассказывал его однокурсник по университету, профессор Н. Зограф» [113]113
Там же. С. 6.
[Закрыть]. На самом деле биолог Н.Ю. Зограф (1851 – 1919) учился в Петербургском университете в 1868 – 1872 годах, и если посещал Йену, то не ранее середины 1870-х годов. Это наводит на мысль, что перед нами одно из преданий, если хотите – анекдотов, в изобилии возникавших в конце XIX – первой половине XX века по мере мифологизации образа «белого папуаса».
В Гейдельберге, а потом в Йене будущий ученый перенял не только привычку к дальним пешеходным экскурсиям, но и некоторые другие обычаи немецкого студенчества. Речь, в частности, идет об отношениях с прекрасным полом. Многие студенты охотно переписывались с иногородними девицами, давшими соответствующие объявления в газетах. Обмен письмами нередко приводил к очному знакомству, встречам и, если стороны нравились друг другу, оканчивался со временем законным браком. Николай воспользовался этим обычаем. Но он вступал в переписку главным образом ради развлечения, а в первое время и для того, чтобы совершенствоваться в немецком эпистолярном жанре. Сохранилось несколько черновиков писем Николая девушкам и их посланий, которые, во всяком случае, свидетельствуют о том, что они серьезно относились к переписке с «господином фон Миклухо». Николай писал свои письма в ироническом тоне, с едва скрываемым чувством превосходства. Но иногда в них встречались высказывания, которые ярко характеризовали его мировоззрение. «Я всегда испытываю большую симпатию к бедным и тем, кто находится в плохих социальных и политических условиях, – писал он неизвестной нам барышне в январе 1865 года. – У меня гораздо большая симпатия к бедным и бесправным, чем к богатым и полноправным. В вопросе отношений между мужчинами и женщинами в мужчине я вижу богатого и полноправного, а в женщине – бедную и бесправную» [114]114
СС.Т. 5. С. 15.
[Закрыть].
Как только корреспондентки становились назойливыми и начинали требовать от него немедленных встреч и т. п., Николай решительно и бесцеремонно выходил из игры. Так случилось, например, с Августой Зелигман, приславшей в январе 1868 года письмо из Франкфурта-на-Майне, в котором были такие строчки: «Уже три дня я с нетерпением жду каких-либо известий от Вас. Вы же получили мое письмо, так почему же не отвечаете? Я жду в ближайшие дни Вашего ответного письма с указанием времени, когда Вы предполагаете посетить меня, что Вы мне обещали. На этот раз одного лишь обещания мне недостаточно. Вы должны приехать и скоро прийти. Я жду Вас с нетерпением. Напишите мне сейчас же» [115]115
ПФАРАН.Ф. 143. Оп. 1. Д. 41. Л. 43.
[Закрыть]. В ответном письме Николай постарался развеять ее иллюзии и, чтобы окончательно отвадить бедную фройляйн, изобразил себя жутким мизантропом: оказывается, он – «скучающий эгоист, совершенно равнодушный к стремлениям и образу жизни других добрых людей, и их еще осмеивает; который послушен лишь собственному желанию, стремясь каким-нибудь способом унять свою скуку; который добро, дружбу, великодушие считает лишь прекрасными словами, приятно щекочущими длинные уши добрых людей» [116]116
СС.Т. 5. С. 18. Сохранилось девять писем А. Зелигман будущему путешественнику, написанных в период с мая 1867-го по июль 1868 го да. После резкого ответного письма Николая Аугуста отправила ему еще три письма. Похоже, он не реагировал на эти послания. См.: ПФ АРА Н.Ф. 143. Оп. 1. Д. 41. Л. 39-48.
[Закрыть].
Но в Иене жила девушка, к которой Николай испытывал большое уважение и, возможно, симпатию, – Аурелия Гильдебранд, дочь профессора политической экономии и статистики Иенского университета Бруно Гильдебранда, учителя Александра Мещерского. Их, вероятно, и познакомил Александр, вхожий в дом своего профессора. В бумагах нашего героя сохранилось лишь одно небольшое письмо Аурелии, из которого видно, что она состояла в переписке с матерью и сестрой Николая. В этом письме, написанном по-французски, встречается несколько русских слов, старательно выведенных кириллицей, – свидетельство того, что она изучала русский язык [117]117
Там же. Л. 136—136 об. Письмо датировано 14 октября, но год не указан и не ясен из его содержания.
[Закрыть]. Поэтому об их отношениях приходится судить по письмам Аурелии Мещерскому. Мне удалось обнаружить 32 таких письма в одном из московских архивов [118]118
ОПИ ГИ М.Ф. 329. Д. 26. Л. 296-300 об.; Д. 68. Л. 1-113.
[Закрыть]. Письма Николая дочери Гильдебранда, возможно, отложились в каком-то немецком архивохранилище, но мне их выявить не удалось.
Судя по обнаруженным письмам, Аурелия была по тем временам хорошо образованной и начитанной барышней, не желавшей, чтобы ее жизнь свелась к традиционным немецким «трем К» – Kirche, Kinder, Kuche (церковь, дети, кухня). В одном из писем Мещерскому она писала, что хочет узнать побольше о людях и окружающем мире, чтобы «вести не совсем бесполезное существование» [119]119
Там же. Д. 26. Л. 297.
[Закрыть]. В декабре 1867 года Аурелия с радостью сообщила Александру, находившемуся в Италии, что Миклуха приходит по вечерам слушать ее игру на фортепьяно; в этом письме есть приписка, сделанная Николаем. Во время экспедиционных работ молодого ученого в 1868 – 1869 годах девушка с неподдельным беспокойством писала о плохом состоянии его здоровья и изнурительных условиях, в которых ему приходилось проводить исследования. Эти сведения она получала из первых рук: Николай, по ее словам, неоднократно писал ей из Мессины, с Красного моря, из Саратова, Москвы и Петербурга. Аурелия с нетерпением ожидала возвращения Николая, несколько раз запрашивала о точной дате его приезда. Похоже, она надеялась, что уставший и нездоровый молодой человек захочет отдохнуть в маленьком городе, уютно расположенном среди холмов в долине Зале, что он надолго останется в Йене, и тогда… Но в Йену приехал ученый и путешественник, охваченный почти маниакальным стремлением отправиться в далекую и опасную экспедицию, которая прославит его имя и принесет большую пользу науке. Матримониальные узы и тихая университетская карьера могли тогда присниться ему разве что в страшном сне.
Разумеется, отношения Николая с прекрасным полом – как в студенческие годы, так и в дальнейшем – имели не только платонический характер. В окрестностях Йены жили одиночные «жрицы любви» и существовало несколько борделей, обслуживавших преимущественно студентов. Посещал ли Николай эти злачные места? Мы этого не знаем. Среди десятков фотографий йенского периода, сохранившихся в бумагах ученого, встречаются довольно откровенные фотооткрытки с изображениями обнаженных женщин. Такие открытки продавались в газетных киосках и имелись едва ли не у каждого студента. Но мое внимание привлек снимок, не наклеенный на паспарту, лишенный указания на название фотоателье или фамилию фотографа, что было весьма необычно для того времени. На снимке изображена совершенно нагая пышнотелая женщина лет тридцати, стоящая во весь рост с поднятыми за голову руками [120]120
ПФ АРА Н.Ф. 143. Оп. 1. Д. 55. Л. 9.
[Закрыть]. Не сохранил ли Николай это фото на память о мимолетной подружке?
Во время прохождения практики в университетской больнице «господину фон Миклухо» поручили наблюдать молодую девушку, и – как это случается и в наши дни – молодой лекарь и его пациентка влюбились друг в друга. Неизвестно, как долго продолжался этот больничный роман, но через некоторое время состояние больной ухудшилось и, несмотря на все усилия, спасти ее не удалось. Будучи при смерти, девушка попросила, чтобы Николай взял на память ее череп. Молодой человек выполнил ее последнюю волю и нашел черепу необычное применение. Как сообщают его брат Михаил, а также Михаил-младший, который ссылается на очевидца – профессора Гертвига, – Николай соорудил диковинную лампу: поверх дубовой подставки на скрещенных локтевых костях был установлен череп, над которым возвышался небольшой масляный резервуар с фитилем, а над ним – зеленый абажур. «Свет лампы, отражавшийся от абажура, – пишет брат ученого, – рельефно оттенял впадины глаз, носа, освещал зубы» [121]121
ПМ.Л. 408; М.Н. Миклухо-Маклай-младший – И.Ю. Крачковскому, 18 марта 1938 г. // АРГ О.Ф. 6. Оп. 4. Д. 3. Л. 7 об.
[Закрыть].
В отличие от проделки Николая в Иванов день, которая скорее является фольклорным сюжетом, его больничный роман и изготовление лампы из черепа возлюбленной не вызывают сомнений, так как подтверждены независимыми источниками. Помимо двух Михаилов об этом рассказал известный датский литературный критик Георг Брандес. Посетив осенью 1887 года в Петербурге тяжелобольного исследователя, датчанин видел лампу с черепом на столике у его ложа и услышал из его уст связанную с ней историю. Ученый сказал Брандесу, что всегда имел при себе эту лампу и пользовался ею и в экспедициях, и во время пребывания в Австралии [122]122
Brandes G.Impressions of Russia. N.Y., 1966 (Reprinted from the English edition of 1889). При описании лампы мной использованы отдельные де тали, сообщенные Брандесом.
[Закрыть]. Значит, он не расставался с этим печальным сувениром на протяжении двух десятилетий.