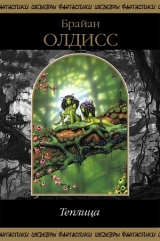
Текст книги "Теплица (сборник)"
Автор книги: Брайан Олдисс
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 69 страниц)
V. Новости разного рода
По дороге Буш сам себе дивился: он думал об отце не с раздражением, а с любовью и сочувствием. Старик теперь действительно вызывал лишь сострадание и жалость; дни его могущества канули в Лету. Сейчас отец и сын поменялись ролями. Так и будет продолжаться – конечно, если ему, Бушу, суждено когда-нибудь вернуться в этот тесный подслеповатый домик.
Буш думал теперь о смерти матери, все еще разбираясь в своих чувствах. Мысли его были поглощены этим, когда фургон вдруг резко, с визгом тормознул и остановился – как бы перед невидимой стеной. Буша мотнуло назад, к дверям; они распахнулись, и он чуть ли не кубарем выкатился наружу.
Отряхивая пыль с ладоней, он бегло огляделся кругом. Его фургон только что въехал в железные ворота в глухой стене – их теперь запирали двое стражей. Дворик вокруг был сер, угрюм и донельзя замусорен. Тюремщики-солдаты провели Буша через двор ко входу в серое бесформенное здание – так Бушу показалось сначала. Но потом он с ужасом, все еще не веря, признал в нем Институт Уинлока.
Странное ощущение – однако обычное для всех, кто, Странствуя во Времени, привык принимать вчера за завтра и наоборот, – всплыло наружу и совершенно захватило его. Некоторое время он даже отказывался верить, что попал в нужную эпоху. Ведь не изменяет же ему память: Институт помещался на тихой зеленой улочке, его окружала стайка жилых домов, а перед входом всегда была автостоянка… И только уже внутри этого гриба-здания он, припомнив кое-что, сам дал себе ответ. Подчиняясь режиму досточтимого генерала Болта, Институт был повышен в ранге – об этом говорил еще отец. А посему для расширения и солидности снесли весь прилежащий квартал и обнесли весь караван-сарай стеною – так легче обороняться в случае чего, и (преимущество!) мог быть зарегистрирован и допрошен всякий входящий и выходящий…
Внутри, правда, Институт почти не изменился. Он явно процветал: тут уже успели усилить освещение, перестелить полы и (кстати) вмонтировать в каждую щель глазки телепередатчиков. Регистрационный стол (раньше просто дежурка) удлинили чуть ли не втрое. За ним торчали форменные фуражки четверых служащих; их одолевала зевота, но они крепились что было сил – сказывалась палочная дисциплина. Напряженность и тоска, наполнявшие воздух и вытеснившие прежнюю дружескую атмосферу, были, пожалуй, самой разительной переменой.
Конвоиры Буша предъявили на вахте пропуск и бумажку с печатью. Служащий пошептался по телефону, кивнул и каркнул: «Третий бокс!» Солдаты довели Буша до двери с «тройкой» – за ней оказалась тесная каморка шага в три длиной – и исчезли, повернув ключ в двери.
В комнатке не было ничего, кроме двух шатких стульев. Буш так и остался стоять посредине, вслушиваясь и приглядываясь. Похоже, он еще легко отделался (а в голове уже роились тычки, зуботычины, стволы между лопаток – приметы всех без исключения тоталитарных режимов). Может, у тех двух солдат был приказ только доставить его сюда с докладом. Буш надеялся, что Хауэлс еще тут; Хауэлс всегда принимал его отчеты и – Буш-то это давно приметил – втайне им восхищался и беззлобно ему завидовал.
Однако что-то долго за ним не шли. Что за неприятности они имели в виду?.. Эх, только бы они забыли напомнить об этом лишнем годе – как им объяснишь, что ведь собирался вернуться, работать как следует, сдать отчет, наконец… Нет, не могли с ним обойтись совсем уж круто: как-никак, он – Странник-рекордсмен, лучший и опытнейший…
Другой вариант (ведь возможен и другой): вместо старины Хауэлса там сидит новый человек, и он не знает об его, Буша, опоздании. Но ведь человек этот тогда – посаженный Режимом болтовский прихвостень…
Буш представления не имел о том, что творится в стране, если не считать туманных намеков отца, а потому воображение рисовало ему картины одну кошмарнее другой. Еще и этот клубок вплелся в его мозг, где й без того уже не было свободного местечка. Все последние события: Лэнни; поединок со Стейном; потрясение от того, что Борроу шутя выкрал и воплотил его сокровенные мысли; и, наконец, известие о смерти матери – это было уж слишком. Он боялся, что разум его не выдержит тяжесть могильной плиты. Буш почти повалился на стул и схватился за голову.
Внезапно он вскочил, как пораженный электрическим разрядом. Дверь была распахнута, и в проеме стоял кто-то. Наверное, что-то случилось с глазами: Буш никак не мог его разглядеть.
– Вы можете принять мой отчет прямо сейчас? – осведомился Буш, подавшись вперед.
– Да, если вы последуете за мной.
На лифте они поднялись на третий этаж, куда Буш обычно сдавал отчеты. И вдруг дрожь ужаса пробрала его, и явилось предчувствие непоправимой и большой беды. Ему на миг показалось, будто все вокруг словно заострилось и стало зловещим: двери, стены, и больше всего – лифт, со злорадным клацаньем прихлопнувший его при выходе когтями-дверьми:
– А что, в отчетной все еще работает Реджи Хауэлс?
– Хауэлс? Кто такой? Впервые слышу.
В отчетной все осталось по-прежнему; хотя нет, подлый глазюка-телепередатчик и тут выглядывал из стены. Это осложняло дело: не все любят каяться при лишних свидетелях. В комнате помещался стол со стульями по обе стороны, проектор и магнитофон. Буш так и стоял у стола, сжимая и разжимая кулаки, когда вошел Франклин.
Буш всегда помнил этого подслеповатого полукабана-получеловека с крохотными глазками помощником Хауэлса. Буш его всегда недолюбливал и никогда не искал его расположения – что могло изрядно повредить ему сейчас. Однако он приветствовал вошедшего почти тепло – приятно все-таки увидеть знакомое лицо, пусть и поросячью физиономию Франклина. А тот со времени их последней встречи явно попышнел, покруглел и (вещь неслыханная!) даже как будто вырос.
– Присаживайтесь, устраивайтесь поудобнее, мистер Буш. И давайте сюда этот ваш сверток.
– Сожалею, что не смог отчитаться тут же, по прибытии. Видите ли, моя мать…
– Знаю. Мы куда лучше информированы, чем вам кажется. Вот вам на будущее: впредь отчитывайтесь немедленно. Блюдя инструкции, вы обезопасите себя от разного рода неприятных неожиданностей. Усвоили?
– Да, вполне. Следует запомнить. Я слышал, будто Реджи Хауэлс уволился или что-то в этом роде…
Угольки-глазки за круглыми очками слегка мигнули.
– Застрелили его, по правде-то говоря.
Это «по правде-то говоря» привело Буша в смятение: уж очень не вязалась почти панибратская вторая, часть фразы со скорбным содержанием первой. Он решил, что на всякий случай о Хауэлсе пока стоит молчать. В то же время его так и подмывало сделать самую неуместную сейчас вещь: хорошенько двинуть кулаком по носу-пятачку.
Пытаясь воздержаться от исполнения сего намерения, Буш поспешно достал плоскую старенькую сумку и начал было расстегивать «молнию».
– Дайте, я открою. – Франклин резко дернул язычок замка, и горстка разных вещиц вывалилась на стол.
Цепкий холод сжал все у Буша внутри. Опять что-то случилось со временем – или с ним самим, – как тогда, во время удара Стейна. Франклин потянулся к предметам на столе, и рука его двигалась будто бы сама по себе. То была сложная многомерная конструкция, управляемая запутанной нервной и мышечной системой, а также гравитационными силами, с поправками на давление атмосферы и оптические искажения. Настоящая картинка из учебника анатомической механики.
Буш с отвращением взглянул в лицо собеседнику. Крошечные глазки как впились в него, так и не отпускали; но лицо… Какое там лицо – схематическое изображение черепа с анатомического наглядного пособия! Часть кожи была намеренно снята, чтобы продемонстрировать все до одного зубы, а также каким-то непостижимым образом было видно нёбо и лабиринты внутреннего уха. Пучки красноватых стрел вылетали из клацающих челюстей, изображая процесс дыхания, и, проникнув в уши, сложились во фразу: «Семейный портрет».
Оно (по-другому и не скажешь) прочло эти слова-подпись на листке бумаги. Это был акварельный этюд: пустынный пейзаж, натянутая, мертвая гладь моря. На солнце и из кроны дерева проступали черты лиц. Буш только сейчас припомнил эту свою девонийскую работу. Он крепко зажмурился и потряс головой. Когда он снова открыл глаза, Франклин предстал перед ним в своем обычном обличье. Он брезгливо взял акварель за уголок и отбросил в сторону, как мерзкое животное. За ним последовал целый блокнот зарисовок. Тому, что они изображали, почти невозможно было дать логического объяснения и уж тем более подогнать их под какую бы то ни было узнаваемую форму.
– А это что такое? – вопросил Франклин.
Буша выводила из себя натянутость. Господи, ну не объяснять же… Он откашлялся – и почувствовал некоторое облегчение. Какое устойчивое заблуждение, однако! Ведь с незапамятных времен считалось, что Пространство и Время можно, заключив в символы, перенести на бумагу. Так, со времен наскальных рисунков и по сей день, человечество стояло на месте. Нужно изобрести другой способ… Но ведь и без того кто-то постоянно что-то изобретает.
– Мои заметки…
Франклин кивнул – видимо, удовольствовался и таким ответом. Он уложил блокнотик на поднос – и Бушу снова показалось, что Франклин превращается в наглядное пособие. Усилием воли он прогнал это чувство.
Теперь все встало на свои места. Буш уже чуял затхлый воздух комнатки, слышал шорохи и копошение Франклина в его вещах.
А тот закончил осмотр на пяти звуковых блокнотах и мини-телекамере, что всегда помещалась у Буша на запястье.
– Личные вещи вам вернут позже. – Он вставил блокнот в щелку настольного прибора-ящика и нажал кнопку. Голос Буша – точнее его запись – заполнил каморку, а магнитофон позади Франклина тут же перехватывал его и чутко вбирал в себя.
Ф›ранклин слушал, точно гигантская статуя кабана, – ни жеста, ни выражения в лице. Пальцы Буша сами собой начали отбивать по столу (а затем – спустившись на колено) нервную дробь. Каждый блокнот был рассчитан на двадцать пять минут; и эти пять книжечек вобрали в себя долгие месяцы его пребывания в небытии. Когда заканчивала рассказ одна, Франклин вставлял в прибор-глотатель следующую; и – ни слова.
Отчет предназначался для ушей Хауэлса, который принимал любую болтовню. Буш добавил к общеизвестному совсем немного новых сведений о прошлом, хотя отчет и содержал результаты его долгих исследований долготы первобытных лет; согласно им, она уменьшалась с течением времени. Буш установил, что год кембрийского периода состоял приблизительно из четырехсот двадцати восьми дней. Он также внимательно изучил воздействие КСД и Странствий на организм. Так-то оно так; однако львиная доля этого отчета состояла из чисто спонтанных размышлений и замечаний, мало связанных с наукой; описаний людей, встреченных им во время странствий. И все это было пересыпано обычными (но для людей непосвященных – весьма туманными) заметками и наблюдениями художника.
Так что, когда докрутился последний блокнотик (а все заслушивание растянулось на два часа с липшим), Буш уже не мог заставить себя поднять повинных глаз на Франклина. Ему казалось, что все эти два часа Франклин разрастался и раздувался, податливой массой заполняя комнату; тогда как он сам, наоборот, съеживался и врастал в стул.
Франклин заговорил на удивление ровно и мягко:
– Вы вот что мне скажите: чем, по-вашему, занимается Институт?
– Ну… я… я, знаете ли, не ученый и к точным формулировкам не привык. Энтони Уинлок и его соисследователи открыли неизвестные дотоле свойства КСД, получив тем самым доступ в новые коридоры сознания – те, что позволили преодолеть барьер, которым человечество отгородилось от вселенского Времени. Отсюда и Странствия Духа. Вот, в самой упрощенной форме… В общем, сейчас Институт – генератор всей Странственнической деятельности, и задача его – глубокое научное исследование прошлого. Как я уже сказал…
– То, что вы сказали, к сожалению, не ново. А теперь будьте так любезны, покажите, где же это именно ваше «глубокое научное исследование прошлого»?
Магнитофон тихо урчал в углу, консервируя для потомства неверный голос Буша. Он понял, что его заманивают в ловушку, и немного собрался:
– Я не занимаюсь чистой наукой, поверьте – я художник. Сам доктор Уинлок лично беседовал со мной. Он считал, что видение художника полезно для его исследований почти в той же мере, что и… что и точка зрения ученого. Ну и потом… считается, что я по всем параметрам идеально подхожу для Странствий. Я перемещаюсь во времени быстрее многих, и рекорд в приближении к «настоящему» пока тоже мой. Да что объяснять – все это есть в вашей Картотеке.
– Но все-таки как же вы содействуете «глубокому научному исследованию», о котором уж скоро полчаса как распространяетесь?
Как об стенку.
– И в третий раз объясняю – вам и вашему магнитофону: я не ученый. Меня куда больше интересуют… меня интересуют люди, если вы понимаете, о чем я… Черт побери, я исправно выполнял работу, за которую мне платят. И раз уж об этом разговор, вы мне кое-что должны.
Франклин мигнул, как перегорающая лампочка.
– По вашему отчету судя, вы начисто игнорировали научную сторону дела. Да что там! Признаемся начистоту: вы провели два с половиной года, пролеживая бока и прохаживая подошвы в свое удовольствие.
Про себя Буш, хоть и весьма неохотно, сознавал правоту его слов. «Хорошо еще, – подумал он, – что этой горе мяса и дела нет до моих рассуждений».
А Франклин вдруг перегнулся через стол (насколько позволяло брюшко), и глазки-лампочки замигали прямо перед носом Буша.
– Назначение и задачи Института изменились, да будет вам известно. Ваши сведения устарели – теперешние наши заботы куда важнее ваших «глубоких научных исследований». Так что выкиньте их поскорей из головы, если есть что выкидывать. Вот видите – мы на вашей стороне.
Франклин с любопытством гурмана ожидал реакции Буша на это отрадное известие. А Буш, напротив, был потрясен, пристыжен, подавлен. Считая себя художником, он в своей гордыне противопоставлял себя науке, как бы защищая этим частное от общего. И вдруг он осознал, как мелка и самонадеянна была эта бравада. Теперь выходило, что его прежнее заблуждение поддерживало новоявленную оппозицию науке в жирном лице Франклина, которая (это Буш чувствовал в самом воздухе душной каморки) противопоставила себя и всем человеческим ценностям. И если Франклин, пусть даже в шутку, причислил его к своим сторонникам, тогда все последние годы его, Буша, жизни были сплошной ошибкой.
Мужество вернулось к нему. Он встал и заявил веско и решительно:
– Да, вы правы: я отстал от времени. Выходит, вы не нуждаетесь более в моих услугах – прекрасно! Я увольняюсь, и заявление подам сейчас же.
Надутая резиновая перчатка-пятерня шлепнулась о стол:
– Сядьте, Буш, я не закончил. Да, вы и вправду отстали от времени! Согласно действующему Закону на период чрезвычайного положения – уж об этом-то вы, надеюсь, слышали? – никто не вправе уволиться с работы. Неподчинение грозит тюрьмой, а может, и кое-чем похуже. Так что будьте любезны сесть, а не то я кликну охрану… Вот так оно лучше. К делу! Наш капитал лопнул, как мыльный пузырь, и брызги от него разносит ветер, А все – из-за пристрастия к Странствиям. Тысячи, сотни тысяч людей ежегодно ныряют в прошлое. Эти люди неуправляемы, непредсказуемы; они – прямая угроза Режиму, то есть мне и вам, Буш. Вот поэтому нам нужны опытные агенты в прошлом, которые следили бы за обстановкой и поддерживали порядок. Талантов и опыта вам не занимать, что верно, то верно, – вот и займитесь подходящим делом. Месяц специальных тренировок – вот вы уже опытный агент… И оставьте, ради Бога, эти ваши копания в себе и в других. Забудьте, что были когда-то художником. С этим покончено, слышите? Спрос на искусство давно прошел, и потом – вы ведь многое порастеряли, верно? Борроу только еще раз вам это доказал.
Голова Буша все никла и никла. Титаническим усилием он заставил себя поднять на Франклина несчастные глаза.
– Хорошо, – только и смог он сказать. Это означало подпись под собственным приговором, признание своей негодности ни к чему, кроме роли шпиона-марионетки, или как это у них там называется. Но как раз тогда, когда он признал враждебную власть над собой, в нем вспыхнула давно погасшая искорка решимости. Он понял вдруг, что его последняя возможность возродить в себе художника – новое Странствие; что именно на этом, новом витке жизни ему откроется неизвестный прежде способ выражения так круто поменявшегося взгляда на мир.
Теперь поднялся Франклин.
– Если вы подождете внизу, туда доставят ваши личные вещи.
– И жалование, разумеется.
– Разумеется – частично. Теперь отправляйтесь домой. Курс подготовки начнется в понедельник, так что до десяти утра понедельника вы свободны. За вами пришлют фургон.
Буш напоследок не удержался и запустил-таки шпильку в грузное брюхо собеседника:
– Весьма приятно было видеть вас снова. Кстати, что там себе думает доктор Уинлок обо всех этих переменах?
Франклин-лампочка снова характерно помигал:
– Вы слишком долго отсутствовали, Буш. Уинлок уж полгода как повредился в уме и (по правде-то говоря) содержится теперь в психиатрической клинике.
VI. Циферблат
Под первыми каплями дождя Буш миновал ряд подгнивших вишневых пеньков, взбежал на крыльцо, где обнаружилось, что отец его не только запер, но и исправно забаррикадировал дверь. Пришлось еще расшатать ее пинками и кулаками, оборвать входной звонок и наполовину сорвать голос, чтобы убедить отца разобрать свое оборонительное сооружение.
Отец к тому времени уже почти уговорил початую им бутыль виски. Буш тут же обратил полученное жалование еще в несколько, и к вечеру оба были пьяны в дым. За весь следующий день собутыльники положили немало сил и огненной жидкости, чтобы поддержать в себе то же блаженное состояние. Хмельные пары установили наконец между отцом и сыном доверительно-дружеские отношения – в прежние времена им этого никак не удавалось. И те же пары придавили, загнали на время в угол овладевавший рассудком бессильный страх.
В четверг Джеймс Буш повел сына к могиле матери. Оба к тому времени протрезвели, но головы налились свинцом и клонились к земле. В общем, настроены были угрюмо – под стать тому месту, куда направлялись.
Древнее заброшенное кладбище Спускалось с одинокого холма; его окружала цепь безлистных в эту пору дубов. Совсем не подобало это место для упокоения Элизабет Лавинии, Возлюбленной Жены Джеймса Буша. Здесь впервые Буша кольнула мысль: интересно, что она чувствовала в тот день, в доме, когда он был заперт в саду? Теперь она заперта от него навсегда, и душа ее нашла вечное пристанище на причале под самым отвесным берегом из всех, существующих в мире.
– Ее родители были ревностными католиками; а она разуверилась в религии, когда ей исполнилось шесть лет.
Всего-то? Едва ли возможно разувериться в чем бы то ни было в таком нежном возрасте. С тем же успехом отец мог сказать «в шесть утра».
– Что-то произошло с ней тогда и убедило в том, что Бога нет. Она не рассказывала, что именно.
Буш промолчал. Отец не проронил о религии ни слова (вещь небывалая!) с тех пор, как Буш вернулся от Франклина. Теперь он снова взгромоздился на любимого конька – благо место к этому располагало. Буш принялся раздраженно насвистывать: даже от самой мысли о религии ему становилось худо.
Рассказу отца он не поверил. Случись такое, у него давно бы застряла в ушах эта история, потому что родители пересказывали бы ее всякий раз по поводу и без повода.
– Пойдем домой, папа, уже пора. – Буш нетерпеливо пошаркал ботинком, но отец не шелохнулся.
Он не сводил глаз с могильной плиты, рассеянно барабаня по ляжке пальцами. Такие состояния обычно заканчивались у него фразой типа «что-же-мне-и-Теду-и всему-дрянному-человечеству-все-таки-делать-с-этой-жизнью». Буш надеялся, что религиозно-философские настроения отца давно «умерли, похоронены и обратились в прах», и воскрешение их было бы очень нежелательно.
– Похоже, собирается дождь.
– …Она так и не разъяснила своих отношений с Богом, но хотела быть похороненной здесь. Почему? Не понять. «Наш разум действует, не спрашивая нас» – так у Скеллета.
– Может, поедем автобусом?
– Да, пожалуй… Странно – совсем сейчас туго с надгробиями. Это вот – видишь? – я сделал сам. Как ты его находишь?
– Вполне.
– Может, лучше было написать «Э. Лавиния»? Про «Элизабет» даже она частенько забывала.
– Хорошо и так, папа.
– Ну, я рад, что тебе понравилось.
Вот так окончилась ее жизнь – под холмом, подтачиваемым грунтовыми водами, и в этом вот обмене пустыми фразами между ее мужем и сыном. Уходя, Буш знал: ни он, ни отец никогда больше сюда не вернутся.
– Как все это бессмысленно, правда? Кем была она? Я не знаю. И ты не знаешь. В чем суть и смысл прожитой ею жизни? Может, в той точке на линейке с делениями с отметкой «шесть лет»? Раз так (допустим, я поверил), то ее жизненный путь шел не в гору, а под гору; раз так, то ей стоило прожить жизнь в обратном направлении: исцелиться от рака, снова вступить в пору юности и вновь обрести свою наивную детскую веру!
Буш опомнился и оборвал свой монолог; они пошли прочь от могилы.
– Мы не задавались таким вопросом, когда решили пожениться, – чуть слышно проговорил отец.
– Извини. Какой я идиот…
– Ты был смыслом ее жизни – так же как и я.
– Ерунда. Неужели назначение человечества – воссоздаваться и воспитывать следующие поколения?
Отец быстро зашагал вниз по холму.
Был серый промозглый денек; дом так и напитался сыростью. Пообедали скудно: жареной картошкой с солью, но и такой обед влетал в копеечку. Отобедав, Буш уселся в приемной и раскрыл первый попавшийся пожелтевший журнал из неряшливой стопки.
Разрозненные строки – первые, бросившиеся в глаза, – постепенно сложились в его мозгу в грандиозную картину происходящего. Весь маршрут своей жизни он проехал транзитным пассажиром – проездом ссорился, мирился, вел случайные беседы, писал картины, надолго не останавливаясь нигде. Так и вышло, что все глобальные события происходили себе где-то там, за пределами станционных строений, где ему никогда не приходилось бывать.
Теперь, остановившись и призадумавшись, он многому находил объяснение. Так, вспышка викторианомании в начале века была естественной реакцией на всеподавляющий поршень технического прогресса. Правда, викторианские печальные фонари – слабые искорки протеста – вскоре угасли; но на смену этим причудам быстро пришли другие.
Развлечение, уготованное затравленным людям к началу семидесятых годов двадцать первого столетия, превзошло, однако, все дотоле виденное и слышанное. Первые Странствия Духа вызвали небывалый взрыв всеобщей ностальгии. И вот уже вскоре самые развитые цивилизации мира поменяли ориентацию, обратившись к прошлому, к далекому доисторическому прошлому, в которое (почему – осталось загадкой для многих) легче всего было попасть. Вот так очередное поколение целиком и полностью посвятило себя спасению от своего собственного времени.
А последствия оказались много страшнее, чем могло предвидеть (но не дало себе труда) беспечное человечество. Удар был нанесен по всем сферам его деятельности, и, пораженные этим ударом, на глазах обращались в руины торговля, промышленность, философия, культура…
На фоне назревающего мирового кризиса один Институт Уинлока цвел пышным цветом. Здесь за умеренную плату любой мог изучить Теорию Уинлока, получив таким образом ключ к извечно потайным дверцам сознания. Тут же можно было приобрести наркотик-галлюциноген и с его помощью оказаться на берегу доисторического моря или посреди стада рептилий.
Но и этот невиданных размеров конгломерат, изначально созданный исключительно из соображений гуманности, был уязвим. Кое-где он был объявлен преступной монополией, в некоторых государствах тут же не сошелся во мнениях с правительством. И, конечно, нашлись проныры, кто, используя доверие и благие намерения Института, вызнал секреты Теории и КСД. Все это тут же было брошено в жаждущую толпу, и число Странников-самоучек с каждым днем обрастало нулями.
Даже в самой империи Уинлока не все шло гладко. Прошлогодний январский «Мир Дантиста» познакомил
Буша с неким Норманом Силверстоном. Как утверждал автор статьи, вся Теория Странствий Духа основывалась лишь на нескольких точных фактах и массе предположений и догадок, сделанных еще Фрейдом. Разумеется, никто не отрицал Странствия как факт; однако, по мнению группы людей весьма компетентных, Уинлок трактовал их не так, как следует. Душою этого союза и был Норман Силверстон, в прошлом близкий друг и коллега Уинлока. Силверстон утверждал: да, несомненно, нужно высвободить человеческое сознание из прокрустова ложа мимолетного времени. Однако очень многое еще предстояло открыть и .исследовать. Ну разве не доказывает это тот факт, что Странствия таки сильно ограничены – ведь исторические, или населенные, времена пока оставались недоступны!
Сам Силверстон, видимо, был человек нрава сурового и сдержанного. Фотографироваться он отказывался, интервью почти не давал. Правда, изредка он все же встревал в споры и делал заявления, но смысл его речей был столь туманен, что, не понимая, многие просто не воспринимали его всерьез. Но как бы то ни было, Силверстон и его почитатели изрядно пошатнули некогда монолитную глыбу Института, вынув камешек из-под его основания.
С началом всеобщей неразберихи «Мир Дантиста» почил в бозе в компании сотен подобных ему журналов и газет; так что вряд ли где можно было отыскать информацию посвежее.
Однако Буш уже составил для себя примерную картину происходящего, и ему казалось, что он предугадывает грядущие события.
Такое неопределенное состояние не могло долго продлиться. Народы мира должны скоро стряхнуть с себя сонное оцепенение – ведь подобные случаи известны истории. Припомнилось только сейчас: ведь ему уже было знамение о недолговечности Режима генерала Болта. Когда он сидел взаперти в третьем боксе, явилась Леди-Тень – впервые за долгое время. Тогда мозг его был слишком перегружен иным, чтобы придать значение этому визиту. И только сейчас его озарило: та бесплотная тень слегка светилась. Означать это могло только одно: в своем измерении и времени – в будущем – она находилась в открытом пространстве. Значит, здание Института (будет?) срыто в ее время, а значит, сень отеческого крылышка Болта уже не будет на него распространяться. Так-то оно так; но сколько лет может отделять Буша от его призрака-соглядатая? Возможно, что и все пятьсот, а это многовато. Но по крайней мере, можно было надеяться.
Буш обвел глазами приемную, но призрака не увидел. «Верно, все-таки призраки иногда .тоже отдыхают, – подумал он. – А может, она – всего лишь игра моего больного воображения? Ведь все механизмы у меня внутри разом вышли из строя и работают каждый в свое удовольствие, а мне остается лишь наблюдать и дивиться».
Но нет, здесь нечто большее. Она была будущим, следившим за каждым шагом Буша из каких-то своих соображений. В этом «настоящем» будущее было повсюду – может, эти люди-тени принимали живое участие в происходящем; и, может, с их помощью все, наконец, встанет на свои места?
Буш поразмышлял еще немного, но это утомило его вконец. Он потихоньку выскользнул из дома, и невидящие глаза повели его куда-то. Он, похоже, совсем потерял способность мыслить здраво с тех пор, как кукловод Франклин привязал ниточки к его рукам и ногам. Жизнь как будто перевернулась вверх дном, и реальность как-то отдалилась. По ночам ему то и дело слышался голос матери.
Он подумал было об Энн, но она казалась такой же полуреальной, как девон, где они встретились. Мысль его метнулась к отцу, но тут ничего нового не наблюдалось. Подумал о миссис Эннивэйл, которую только что мельком увидел, и ему стало не по себе. Она, как говорится, и близко не стояла к той старой вешалке, которую раньше рисовало его воображение. Миссис Эннивэйл была примерно его лет, но держалась весьма бодро. Она была естественна, дружелюбна, приятно улыбалась и, похоже, симпатизировала его отцу. Но уж ему-то (Бушу то есть) не пристало о ней думать.
Идти никуда не хотелось: пустые захламленные улицы почему-то пугали. Буш припомнил, что в старой мастерской был таз с глиной. Может, это как-нибудь увлекло бы его; хотя все искры вдохновения давно угасли.
Когда кусок глины, который он бесцельно мял, начал походить на голову Франклина, Буш бросил эту затею и вошел в дом.
– Как прошел день? – осведомилась миссис Эннивэйл с верхней ступеньки лестницы.
– Превосходно! Утром ходили на кладбище, а в обед я развлекался чтением макулатуры двухлетней давности.
Она усмехнулась, спускаясь.
– Как ты все-таки похож на отца! Кстати, он уснул – лучше его не тревожить. Я сейчас иду к себе захватить кое-что из продуктов – приготовлю пудинг к ужину. Может, составишь мне компанию? Ведь ты еще не был у меня дома.
Буш угрюмо поплелся следом. Домик ее оказался светлым, чистеньким и странно легким. Уже в кухне Буш спросил:
– Почему вы не переедете к отцу, миссис Эннивэйл? Ведь так можно сэкономить на ренте и многом другом.
– А почему ты не зовешь меня Джуди?
– Потому что впервые слышу ваше имя. Отец всегда называл лишь вашу фамилию.
– О небо, какие формальности! Но ведь мы-то не будем вести себя, как на официальном приеме, верно?
Она стояла, опираясь на дверной косяк, слегка улыбаясь, и не сводила с него глаз.
– Я спрашивал, почему бы вам не переехать к отцу.
– А что если меня привлекают мужчины помоложе?
Выражение ее глаз успокоило Буша: нет, он не ослышался. Итак, все было приемлемо и пристойно, говорил он себе. Ее постель свободна, она знает, что ему уезжать на следующей неделе. Его тело все решило само и теперь доказывало разуму, что это замечательная идея.
Он поспешно отвернулся.
– Значит, просто очень мило с твоей стороны заботиться о нем, Джуди.
– Послушай, Тед…
– Ты уже все отыскала? Тогда пойдем к нам, посмотрим, как он.
Он первым направился к выходу, чувствуя себя круглым болваном. Наверное, то же испытывала и она – судя по тому, как она пыталась заполнить пустоту болтовней. Но в конце-то концов… это ведь тоже кровосмешение. Все-таки есть граница, которую даже самый морально разбитый человек не смеет преступить.
Видимо, Джуди Эннивэйл вообразила, что обидела Буша смертельно, потому что с того момента она старалась быть с ним подчеркнуто мила. Несколько раз он пробовал искать убежища – от нее, от обстановки, от себя – в компании глиняного Франклина-полуфабриката, в своей мастерской. И однажды, в день назначенного прибытия фургона, она неслышно прокралась за ним во флигель.
Буш обернулся – и скроил досадливую гримасу, увидев ее.








