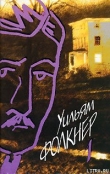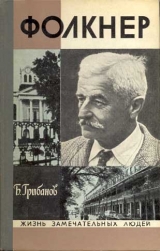
Текст книги "Фолкнер"
Автор книги: Борис Грибанов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 26 страниц)
Это видно хотя бы по отношению Фолкнера к войне. Роман "Солдатская награда", безусловно, роман антивоенный. В нем есть отрицание войны как бессмысленной бойни, но война здесь воспринимается скорее как некий рок, жестокая насмешка судьбы, а не как преступление против человечества. Поэтому в романе нет и той страсти осуждения, того проклятия войне, которыми пылали романы тех, кто побывал на войне, кто на собственной шкуре испытал все это, – Хемингуэя, Ремарка, Олдингтона. Для Фолкнера это был больной вопрос – личное участие в войне. Отвечая на вопросы студентов в японском университете Нагано, он говорил: "Война, конечно, такая вещь, которая должна произвести впечатление на всякое сознание. Но я не уверен, что это необычное впечатление. Я не думаю, что оно во многом отличается от того, что я мог получить иным путем… Я предпочитаю думать, что в этом нет ничего необычного, что я все равно стал бы более или менее тем, кем я стал, вне зависимости от того, был я на войне или нет, хотя я этого не знаю". Нельзя не признать, что в этом самооправдании ощущается сознание некоторой своей ущербности.
Однако, если рассматривать "Солдатскую награду" как первый шаг на долгом и трудном пути к вершине, то нельзя не видеть и бесспорные достоинства этого романа, не видеть тех зерен, которые впоследствии прорастут и дадут могучую поросль. В романе уже чувствуется сильная рука художника-реалиста, которой еще мешают чужеродные влияния, подражательство, но которая уже умеет выписать характер, сделать его живым и убедительным, таким, как любил говорить Фолкнер, чтобы он отбрасывал тень.
Сравнивая роман "Солдатская награда" с лучшими его произведениями, можно проследить, как молодой и неопытный еще писатель ищет свои приемы, свои формы повествования. Здесь уже появляется сочетание трагического с комическим и даже фарсовым началом, появляется если еще не внутренний монолог в полном смысле этого слова, то внутренние реплики, оттеняющие поступки или слова героев или контрастирующие с ними.
Вся работа над романом заняла два месяца. 25 мая 1925 года "Солдатская награда" была закончена.
"Я не видел Андерсона некоторое время, – вспоминал Фолкнер, – пока не встретил на улице миссис Андерсон. Она спросила, что со мной случилось, почему они меня так давно не видят. Я ответил, что пишу книгу. Тогда она поинтересовалась, хочу ли я, чтобы Шервуд прочитал ее. Я тогда не думал давать ее кому-нибудь читать, мне просто самому было интересно писать. Через некоторое время опять ее встретил, и она сообщила, что рассказала Шервуду о моем романе, на что он заметил, что готов заключить со мной сделку: если я не буду просить его прочитать книгу, он попросит своего издателя принять ее. Я ответил: договорились. И вот таким образом моя первая книга оказалась опубликованной, и к этому времени я понял, что писать – это очень увлекательное занятие, что это дело по мне, и с тех пор этим занимаюсь и, видимо, буду заниматься до конца своих дней".
Андерсон сдержал обещание и написал своему издателю Хорэсу Ливрайту, одному из хозяев издательской фирмы "Бони и Ливрайт", письмо с просьбой познакомиться с романом молодого писателя и отнестись к нему благожелательно.
Забегая вперед, следует отметить, что дружеские отношения Фолкнера с Шервудом Андерсоном, так удачно сложившиеся в этот первый приезд Фолкнера в Новый Орлеан, в последующие годы постепенно слабели и в конце концов оборвались.
Поводом для окончательного разрыва послужила шутка, которую Фолкнер позволил себе в конце 1926 года вместе с Биллом Спратлингом. Тогда в продаже появилась книга карикатур художника Мигуэля Коваррубиаса на популярных людей Америки под названием "Принц Уэльский и другие знаменитые американцы". Фолкнер с Биллом Спратлингом решили по этому образцу создать свою книгу карикатур на известных представителей литературных и художнических кружков Нового Орлеана. Они и посвятили свою книгу "Всем искусным и мастеровитым людям Французского квартала". В ней были карикатуры на Шервуда Андерсона, Джона Макклюра, Рорка Брадфорда и многих других писателей и художников. Завершалась книга шутливым рисунком, на котором были изображены сами авторы книги – Спратлинг и Фолкнер, сидящие за столом, заваленным бумагами, среди бумаг возвышались бутылки с виски. Над ними висел плакат с надписью "Да здравствует искусство!", а под стулом, на котором сидел Фолкнер, стояли еще три бутылки с виски. Книгу они назвали "Шервуд Андерсон и другие знаменитые креолы".
Фолкнер написал к этой книге шутливое предисловие, в котором пародировал стиль Шервуда Андерсона. В этой пародии не было ничего злого – это была просто шутка. Но Шервуд Андерсон не любил, когда на него сочиняют пародии, тем более молодые писатели, которым он помогал. В том же году вышла книга Хемингуэя "Вешние воды", которая представляла собой едкую пародию на Андерсона. То была не шутка, а декларация творческой независимости Хемингуэя от Шервуда Андерсона, которому Хемингуэй был многим обязан и под чьим безусловным влиянием он начинал свою литературную карьеру. У Шервуда Андерсона были основания обижаться, и он действительно обиделся.
Фолкнер всегда помнил о помощи, которую оказал ему Шервуд Андерсон, и в знак благодарности посвятил ему в 1929 году свой третий роман «Сарторис». Посвящение гласило: "Шервуду Андерсону, благодаря доброте которого меня впервые опубликовали, с надеждой, что эта книга не заставит его жалеть об этом".
Вообще Фолкнер не раз подчеркивал, скольким он обязан Андерсону. Уже на склоне лет, будучи писателем с мировой славой, Фолкнер, выступая в 1955 году перед студентами японского университета Нагано, говорил: "Я считаю, что он был отцом всех моих произведений, произведений Хемингуэя, Фицджеральда, всех нас – все мы выросли под его влиянием. Он показал нам путь, потому что до этого времени американский писатель был европейцем, он оглядывался через Атлантику на Англию, на Францию, и только во время Андерсона появился американец, который прежде всего был американцем. Он жил в центральной части долины Миссисипи и описывал то, что нашел там".
Фолкнер высоко ценил и человеческие качества Шервуда Андерсона. В том же университете Нагано он говорил о Шервуде: "Он был одним из самых прекрасных, самых милых людей, каких я только знал".
Но при этом Фолкнер, взыскательный художник, не мог не определить и объективного места Андерсона как писателя. "Он был, – сказал Фолкнер, – гораздо лучше, чем все, что он когда-либо написал. Я имею в виду, что он был одной из тех трагических фигур, у которых есть только одна книга – у него это была книга "Уайнсбург, Огайо".
Но все это случилось позже, а пока что в начале лета 1925 года Фолкнер с законченной рукописью вернулся в Оксфорд. Секретарша Фила Стоуна тут же взялась за перепечатку романа.
В Оксфорде Фолкнер опять встретил Эстелл. Она со своими детьми – дочерью Викторией, которую все с легкой руки няни-китаянки называли Чо-Чо, и сыном Малькольмом – гостила у родителей. Ее разлуки с мужем становились все продолжительнее. По мере того как Корнелл Франклин процветал в Шанхае, он все более увлекался светской жизнью местной белой колонии, играл по-крупному в карты, пользовался большим успехом у женщин. Семья ему явно мешала.
Эта ситуация пугала Фила Стоуна. Он боялся, что Эстелл может отвлечь Уильяма и повредить его литературной карьере, которая как будто начала выстраиваться. И он уговорил Фолкнера уехать к семье своего брата в городок Паскагулу на берегу Мексиканского залива.
Месяц в Паскагуле был приятным и беззаботным. Молодежь устраивала прогулки на парусных лодках, подолгу плавали, лежали на берегу, болтали. Билл Фолкнер был весел и оживлен, с удовольствием принимал участие во всех развлечениях. Быть может, этому способствовало присутствие здесь Элен Бэрд, молодой хорошенькой художницы, с которой он был знаком по Новому Орлеану. Она ему нравилась, и он проводил с ней много времени.
Потом Фолкнер вернулся в Оксфорд, отправил перепечатанную рукопись романа в издательство "Бонн и Ливрайт" и уехал в Новый Орлеан. Им опять завладела идея поездки в Европу. Нашелся попутчик: Билл Спратлинг уезжал в Италию по заданию архитектурного журнала. Фолкнер отказался от мысли устроиться матросом на судно, уходящее в Европу, купил билет, и 7 июля 1925 года они с Биллом Спратлингом отплыли в Европу на пароходе "Вест Айвис".
Это не было похоже на отъезд, скажем, Хемингуэя, который тем самым сознательно открывал новую страницу своей жизни. Фолкнер не собирался оставаться в Европе. И тем не менее этот отъезд совпал с некоторой переоценкой им своих жизненных планов, которые давно уже были неразрывно связаны с планами литературными.
В один из первых дней их плавания Спратлинг рано утром увидел, как Фолкнер поднялся на палубу с большой пачкой исписанных листков и стал методично рвать их и выбрасывать за борт. Это были стихи. Как говорил потом сам Фолкнер, одна из его обязанностей на "Вест Айвис" (опять эта страсть к мистификации – у него на судне никаких обязанностей не было) заключалась в выбрасывании мусора за борт. Выбросив свои стихи, утверждал он, "я почувствовал себя очищенным".
Стихи он и потом продолжал время от времени писать, но эти дни на борту "Вест Айвис" были, по-видимому, переломными: он решил впредь писать прозу. Впоследствии Фолкнер рассказывал: "Я хотел стать поэтом и очень скоро понял, что хорошим поэтом мне не быть. Тогда я и попробовал свои силы в другом деле, с которым могу справиться несколько лучше. Я смотрю на себя как на неудавшегося поэта".
2 августа "Вест Айвис" вошел в порт Генуи. Здесь пути друзей разошлись: Спратлинг поехал в Рим, а Фолкнер отправился в Рапалло, оттуда в Милан и в Стрессу, где оказалось полно американских туристов. Фолкнер пе стал там долго задерживаться. "Я взял свою сумку и пишущую машинку, – писал он матери, – и пошел в горы у озера Мадджиоре". Здесь он остановился в деревне Соммарива. В письме к тете Алабаме он описывал свою жизнь так: "Я жил с крестьянами, выходил с ними по утрам косить траву, в полдень у полуразрушенного алтаря, где лежит жалкий букетик цветов, ел с ними хлеб и сыр и пил вино из кожаных бутылей, а потом с закатом солнца мы спускались с горы, слушая позвякиванье колокольчика на шее мула и глядя, как половина мира становилась сиреневой. Потом мы ужинали на улице за деревянным столом, отполированным локтями многих поколений, я был слегка пьян и разговаривал на языке жестов с этими добрыми, спокойными и счастливыми людьми". В этом письме обращает на себя внимание любовное, даже с оттенком зависти, отношение к людям, связанным с землей, и интерес к жизненным деталям.
Вернувшись в Стрессу, Фолкнер опять встретился с Биллом Спратлингом, и они отправились поездом через Швейцарию в Париж. Поселились в дешевеньком отеле на Монпарнасе, "на левом берегу Сены, – как писал он матери, – где живут художники. Это недалеко от Люксембургского сада и Лувра, а с моста через Сену можно видеть Нотр-Дам и Эйфелеву башню".
Он много бродил по Парижу, по его окрестностям. Любимым его времяпрепровождением было сидеть в Люксембургском саду.
Здесь он часами помогал детям пускать кораблики в бассейне, наблюдая одновремено за стариком в потрепанной шляпе, который тоже с восторгом играл с детьми в кораблики. Впоследствии эта сцена воскреснет в романе «Святилище», где в конце романа Темпл Дрейк сидит с отцом в Люксембургском парке и смотрит, как плохо одетый старик вместе с детьми пускает кораблики.
Фолкнер даже не попробовал познакомиться ни с одним из американцев – поэтов и писателей, – которыми кишел тогда Латинский квартал. Как он сам впоследствии говорил, он в Париже не интересовался "ни литературой, ни писателями", заявляя: "Я был тогда просто бродягой". Правда, ему захотелось посмотреть на Джойса. Фолкнер признавался: "Я приложил некоторые усилия, чтобы попасть в кафе, в котором он обитал, чтобы посмотреть на него. Но это был единственный литератор, которого я видел в Европе в то время". Можно себе представить, что он пошел смотреть на Джойса, как ходят в зоопарк смотреть на какое-нибудь диковинное животное, – на него смотрят, но с ним не знакомятся.
Вообще, в плане интереса к модным тогда модернистским течениям, «открытиям», Фолкнер проявлял поразительное безразличие. О Джойсе, например, он впоследствии говорил очень уважительно, как о писателе огромного таланта, но никогда не упоминал его в числе тех писателей, которые оказали влияние на его собственное творчество.
Любопытно, что много лет спустя студенты Виргинского университета спросили его, необходимо ли начинающему писателю путешествовать, и он ответил: "Вреда это вам не принесет, но обязательности в этом нет. Гомер, па-пример, вряд ли много путешествовал, а был довольно хорошим писателем. Материал, о котором вы пишете, должен быть гораздо шире, чем то, что вы можете увидеть и запомнить. Это должны быть наблюдения, опыт, частью которого является то, что вы читаете, плюс воображение. Поэтому наблюдения не помешают вам, вы, может быть, нуждаетесь в них, но вы можете обойтись и без них, если у вас есть воображение и опыт. Я думаю, что лучший источник учебы для начинающего писателя – это чтение, надо читать то, что создали лучшие писатели, гиганты прошлого".
В Париже Фолкнер начал работать над новым романом «Москиты». Однако он, видимо, колебался, стоит ли браться за эту тему. Во всяком случае, через сравнительно короткое время он писал матери: "Я в разгаре работы над новым романом, замечательным. Это совершенно новый роман. Придумал его только позавчера. Роман «Москиты» отложил: думаю, что недостаточно опытен, чтобы написать его так, как он должен быть написан, – я еще мало знаю о людях".
Новый роман он назвал «Элмер» – по имени героя. Действие романа начиналось на борту парохода, плывущего из Америки в Европу. Художник Элмер вспоминает свою жизнь. Краски оказываются поводом для реминисценций. Красная краска напоминает ему об огне, который уничтожил дом его родителей, когда ему было пять лет. Фолкнер начал описывать жизнь этой семьи, их передвижения из Миссисипи в Теннесси, потом в Арканзас, ленивого отца, неотесанных братьев, любимую сестру Элмера. Интересно, что в этих набросках романа впервые появляется городок Джефферсон в штате Миссисипи, где вырос его герой. Впоследствии этот городок станет местом действия почти всех его романов и рассказов. Но до этого открытия Фолкнеру предстояло еще пройти долгий путь, избавиться от некоторых влияний и заблуждений.
При всей увлеченности новым романом Фолкнер то и дело отвлекается на другие замыслы. Он пишет матери: "Я только что написал такую замечательную вещь, что, кажется, исчерпал все свои силы, – 2 тысячи слов о Люксембургском саде и о смерти. Сюжет несложный – о молодой женщине, и все это поэзия, хотя и в прозаической форме. Я работал над ней два полных дня, и каждое слово здесь совершенно. Я почти не спал две ночи, обдумывая замысел, отбирая слова, принимая и отвергая их, потом опять все переделывал. Но теперь в этом есть совершенство – это настоящий бриллиант. Я хочу отложить эту вещь на неделю, а потом показать кому-нибудь, чтобы услышать чужое мнение. Значит, завтра я проснусь в ужасном состоянии. Это реакция. Но это стоит того – создать такую вещь".
И опять он мечется от одного замысла к другому. Вскоре он пишет матери: "Роман я отложил и собираюсь начать новый – нечто вроде волшебной сказки, которая крутится у меня в голове. Это будет книга моей юности, я собираюсь потратить на нее 2 года и закончить ее к моему 30-летию".
В конце сентября Фолкнер отправляется путешествовать по Франции – ему хочется посмотреть места великих битв первой мировой войны. Он обходит пешком поля сражений близ Компьеня и Мондидье, где земля еще не залечила ран войны, где виднеются следы траншей, разбросаны остатки колючей проволоки, чернеют обожженные огнем деревья. Эти картины западут ему в душу, и он еще к ним вернется.
Здесь, в Париже, он получил известие о том, что издательство "Бони и Ливрайт" приняло его роман, получивший теперь название "Солдатская награда", и аванс в виде чека на 200 долларов. Будущее казалось обеспеченным и радужным. В начале декабря он отплыл из Шербура на пароходе, чтобы к рождеству быть дома.
В Оксфорде ничего не изменилось. Только Эстелл с детьми уехала опять в Шанхай.
Фолкнер вновь сел за пишущую машинку. Теперь он начал писать рассказы. Видимо, именно в это время он написал такие рассказы, как "Развод в Неаполе", «Мистраль», вошедшие впоследствии в его первый сборник рассказов "Эти 13". Материалом для рассказов послужили европейские впечатления Фолкнера, местом действия оказались итальянские Альпы.
И все-таки он был не удовлетворен собой, им владело беспокойство, гнавшее его из дома. К 25 февраля 1926 года, когда вышел роман "Солдатская награда", он уже был в Новом Орлеане. Роман был напечатан тиражом 2500 экземпляров.
Критики встретили роман довольно положительными отзывами. "Нью-Йорк тайме" писала, что "умелая рука сплела повествование о сложных и несбывшихся чувствах". Газета "Балтимор сан" предсказывала, что этот роман будут читать и тогда, когда большинство книг этого года "будет пылиться на полках, к которым никто не притрагивается". Известный критик Луи Кроненберг считал роман "щедрым соединением воображения, наблюдений и опыта". Однако читатели не разделяли чувств критики – роман раскупался очень плохо.
Дома, в Оксфорде, роман встретили в штыки. Мисс Мод написала сыну в Новый Орлеан, что лучшее, что он может сделать, это покинуть страну. Отец Фолкнера, наслушавшись разговоров о романе, просто отказался его читать. Фил Стоун пытался продать экземпляр романа библиотеке университета, потом хотел подарить, но библиотека отказалась принять этот подарок.
Весной Фолкнер вернулся в Оксфорд, а на лето брат Фила Стоуна с женой опять пригласили его в Паскагулу. Он с радостью принял это приглашение. Он уже знал по прошлому лету, что там у него будут идеальные условия для работы и веселая и приятная компания для отдыха.
Немалое значение имело и то, что там будет и Элей Бэрд.
Но главное заключалось в том, что он теперь твердо решил, над чем он будет работать, – в его голове окончательно сложился замысел романа "Москиты".
На этот раз местом действия романа стал Новый Орлеан. Но это можно сказать только условно, поскольку Новый Орлеан выполняет здесь роль некоего фона, являясь как бы прологом и эпилогом романа, а основная часть действия происходит на яхте богатой вдовы миссис Морьс. Фолкнер совершенно явно задумывал «Москиты» как "роман идей", "интеллектуальный роман", подражая модному тогда английскому писателю Олдосу Хаксли. Ему неинтересны были сюжет, характеры персонажей, бытовые подробности. Он торопился высказать во втором своем романе волновавшие его мысли об искусстве, о литературе.
Для этой цели Фолкнер вывел своеобразную троицу, на которую и возложил не только функцию споров о литературе, но и олицетворение различных типов художников, так, как он их представлял себе. Это писатель Доу-сон Фейрчайльд, критик Джулиус Кауфман и скульптор Гордон.
Образу Доусона Фейрчайльда Фолкнер сознательно придал многие черты облика и биографии Шервуда Андерсона. Подобно Андерсону, Доусон характеризуется как выходец из провинциальной мелкобуржуазной семьи со Среднего Запада, одна из участниц разговоров на борту яхты «Навсикая» говорит о нем: "Он унаследовал все мелкобуржуазное благоговение перед образованием с большой буквы, благоговение, усилившееся из-за тех трудностей, которые он испытал, чтобы поступить в университет и удержаться там". Впрочем, в уста самого Доусона Фолкнер при этом вкладывает собственную оценку университетского образования. "Там было сборище обанкротившихся проповедников, – говорит Доусон, – головы набиты догмами и нетерпимостью, а нутро полно пышных бессмысленных слов. В курсе английской литературы Шекспир был сведен к нулю, потому что он писал о шлюхах, не выводя из этого никакой морали, а один преподаватель утверждал, что главный дьявол в "Потерянном Рае" – это вдохновенный пророческий портрет Дарвина. К Байрону они не приближались даже на расстояние в 10 футов, а Суинберн был сведен к его матери и его старой надежной основе – океану".
Критик Джулиус Кауфман, представляющий в романе рационалистическое начало, вместе со своей сестрой Эвой неоднократно на страницах романа критикуют Фейрчайльда за приземленность, натурализм его произведений. Джулиус замечает Доусону, что тот "представляет собой кукурузную местность… Вы там родитесь с комплексом местного патриотизма". Эва убеждена, что "в этом причина вашей путаницы, Доусон, – ваша убежденность, что создание произведений искусства зависит от географии". А Джулиус, имея в виду Доусона, развивает эту мысль дальше: "Прилепившись духовно к одной маленькой точке на поверхности земли, он гарантирован, что большая часть работы уже сделана за него. Детали одежды, привычки, речь – все то, что не составляет труда для их усвоения и что, будучи нагромождено одно на другое, становится столь же впечатляющим, как и один неожиданный удар оригинальностью, как банальности в большом количестве".
В другом случае, когда Доусон говорит, что человек не может быть художником все время, иначе он сойдет с ума, Джулиус довольно грубо поправляет его: "Это ты не можешь. Но дело в том, что ты не художник. Где-то внутри у тебя сидит путаный стенографист с талантом описывать людей".
На первый взгляд довольно странные суждения для молодого писателя, для которого, как покажет дальнейшая его писательская судьба, совет Шервуда Андерсона описывать "маленький кусочек земли в Миссисипи, где вы начали", послужил мощным стимулом для всего его творчества. Но дальнейшие рассуждения Джулиуса и его сестры о Доусоне Фейрчайльде показывают, что Фолкнер, восприняв совет Андерсона, отнюдь не собирался останавливаться на том, что сделано в литературе Андерсоном. Он понимал ограниченность творческой манеры Андерсона и уже тогда пытался выработать (быть может, несколько эскизно, нечетко) свой более высокий принцип, идею сочетания конкретного описания конкретной местности, конкретных людей с проблемами универсальными, общечеловеческими. Так Джулиус говорит о Доусоне: "Ему не хватает того критерия литературы, который является международным. Впрочем, точнее говоря, не критерия, а веры, убежденности, что его талант не должен быть ограничен кругом понятий, в отношении которых он уверен, что они чисто американские". И далее Джулиус высказывает мысль, которую потом не раз формулировал сам Фолкнер; "Жизнь, вы ведь знаете, везде одинаковая. Образ жизни может быть различным, но разве он не различный в соседних деревнях – фамилии, урожай с определенного участка поля или фруктового сада, влияние работы, – но древние силы принуждения человека, долг и наклонности – ось и решетки его беличьей клетки – они не меняются".
Доусону Фейрчайльду в романе все время противопоставляется скульптор Гордон. Когда Джулиус бросает Доусону, что тот не художник, он поясняет эту мысль следующим образом: "Ты художник только тогда, когда ты рассказываешь о людях, а Гордон художник всегда, а не только когда он высекает что-то из куска дерева или из камня". Творческое начало Гордона подчеркивается па протяжении всего романа. Когда гости видят в его мастерской обнаженный торс девушки, они поражены, они понимают, что это не чей-то портрет, а воплощение вечного духа юности.
Различие в восприятии мира, людей между Доусоном и Гордоном вскрывается в случае с миссис Морье. Знающий ее довольно хорошо Доусон так и не проник сквозь маску глупости, которую носит миссис Морье. И когда он видит скульптурный набросок, сделанный Гордоном, он вдруг понимает, что Гордон под этой маской обнаружил трагическую женщину со своей судьбой, и ужасается собственной ограниченности: "Я знаю ее уже год, а Гордон всего четыре дня… Будь я проклят!"
О Гордоне в романе то и дело говорится, что он чувствует, как бьется "темное и простое сердце вещей". В отличие от талантливого «стенографиста» Доусона Гордон слишком поглощен ощущением и восприятием жизни, чтобы быть беспристрастным наблюдателем.
И характерно, что образ Гордона напоминает знакомый уже по ранним стихам Фолкнера и по его первому роману образ фавна. Миссис Морье подходит ночью па палубе яхты к одиноко стоящему Гордону. "В ровном свете лунных лучей лицо его выглядело худощавым и даже впалым, надменным и почти нечеловеческим. "Он плохо питается, – неожиданно и безошибочно поняла она, – его лицо похоже на лицо серебряного фавна".
Фолкнеру по молодости лет очень хотелось быть таким, каким он постарался нарисовать подлинного художника Гордона, он не удержался от того, чтобы придать Гордону и некоторые свои внешние черты, – в романе несколько раз подчеркивается, что лицо Гордона чем-то напоминало сову. Но его спасало чувство юмора, и он позволил себе и шутку в свой адрес. Одна из героинь романа, Дженни, рассказывает своей подруге Пат о человеке, который встретился ей однажды ночью в кафе на Рынке и научил ее непристойным словам: "Он был белый человек, не считая того, что очень загорелый и очень неряшливо одетый – без галстука и шляпы. Он говорил мне всякие смешные вещи. Он сказал, что у меня лучшее пищеварение, какое когда-либо видел, и еще он сказал, что, если бы завязки на моем платье порвались, я бы разорила всю страну. Он говорил, что он лжец по профессии и что он зарабатывает на этом хорошие деньги, достаточные, чтобы иметь «форд», как только он сумеет выкупить его. По-моему, он был сумасшедший. Не опасный, просто сумасшедший". А через несколько строк Дженни вспоминает, что фамилия этого человека была Фолкнер.
Задумывая «Москиты» как "роман идей", Фолкнер заранее обрекал себя на поражение. Его таланту была совершенно противопоказана холодная изощренная игра ума, жонглирование парадоксами, столь характерными для "романа идей". Поэтому и парадоксы, рассыпанные по роману, не отличались безупречным вкусом. Так, например, о скульптуре, вызвавшей восторг его гостей, сам Гордон говорит следующее: "Это мой идеал женщины: девственница, без ног, чтобы не убежала от меня, без рук, чтобы не удерживала меня, и без головы, чтобы не нужно было с ней разговаривать".
Софистику, изощренность, присущую "роману идей", Фолкнер хотел соединить с пародией. В «Москитах» он действительно высмеял многие черты, характерные для богемы Французского квартала Нового Орлеана, – снобизм, бесплодные разговоры об искусстве. Не случайно Гордон ужасается: "Разговоры, разговоры, разговоры; абсолютная, душераздирающая глупость слов. Это кажется бесконечным, как будто это может продолжаться вечно. Идеи, мысли становятся пустыми звуками, которыми будут перекидываться, пока не умрут".
Предметом пародии в «Москитах» должны были, по идее, стать опустошенность, бездуховность современного общества, тщетная погоня за пустым, призрачным, неосуществимость жалких и ничтожных желаний. Поражение Фолкнера в «Москитах» заключалось в заданности этой конструкции, в функциональности задуманных им персонажей – каждый из них воплощал одну какую-то высмеиваемую черту. Так, миссис Морье вызывает у читателя улыбку тщетными попытками сохранить атмосферу благопристойности и приличия, остропародийным выглядит мистер Талиаферо, на протяжении всего романа озабоченный своими планами соблазнения женщин, по поводу которых он все время советуется с Доусоном Фейрчайльдом. Наивным до глупости предстает перед читателем англичанин майор Айерс, одержимый одной идеей – как заработать в Америке много денег. Впрочем, у майора Айерса есть в романе и другая, пожалуй главная, функция – он доверчиво выслушивает фантастические истории Доусона Фейрчайльда об овцах, превратившихся в рыб, и о потомке генерала Джексона, ставшем акулой. Эти анекдоты во многом повторяли истории, которые с таким увлечением придумывали Шервуд Андерсон и Фолкнер, гуляя по улицам Нового Орлеана. Надо отдать должное, в «Москитах» эти истории никакого отношения к роману не имеют и представляют собой просто вставные новеллы, при этом не очень смешные.
Когда Фолкнер был уже зрелым и знаменитым писателем, студенты Виргинского университета однажды спросили его о романе «Москиты»: "Малькольм Каули считает этот роман ранним и слабым. Вы согласны?" На что Фолкнер ответил: "Я думаю, что некоторые части этого романа смешны, но в целом… я думаю, каждый писатель считает, что если бы он написал книгу заново, то она была бы лучше. Что касается этой книги, то если бы я стал переписывать ее, то я, вероятно, вообще не смог бы ее написать. Я не стыжусь ее, потому что это были щепки, плохо отделанные доски, которые изготовляет плотник, пока он учится, чтобы стать первоклассным мастером, но эта книга в моем списке не занимает значительного места".
Так оценивал впоследствии Фолкнер свой второй роман. Ну а тогда, в сентябре 1926 года, он послал рукопись «Москитов» в Нью-Йорк в издательство "Бонн и Ливрайт". Роман был посвящен Элен.