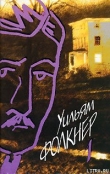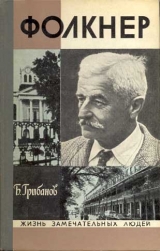
Текст книги "Фолкнер"
Автор книги: Борис Грибанов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 26 страниц)
Восьми лет Фолкнер пошел в школу. Как вспоминает Хол Каллен, соученик Билла, он был «одним из двух самых способных учеников в классе» и выделялся своим умением рисовать. Во всяком случае, Билл Фолкнер за два года прошел четыре класса. Старший брат Хола Каллена Джон, который впоследствии был дружен с Фолкнером, вместе с ним охотился и оставил о нем книгу воспоминаний, писал, что, «когда я ходил в школу, Фолкнер был совсем мальчишкой, на два класса младше меня, к тому же он был маленького роста для своих лет. На школьном дворе он часто стоял в стороне, я никогда не видел, чтобы он много играл с другими детьми. Он больше был слушателем, чем рассказчиком, однако все любили его и никто не дразнил его неженкой».
Билли Фолкнер действительно не любил играть в ковбоев и индейцев, не любил бороться. Тем не менее он охотно играл в бейсбол и в футбол и даже успел сломать себе нос, выступая полузащитником в футбольной команде Оксфорда против их традиционного противника, команды Холли Спрингс. Он принимал участие во всех школьных делах, рано начал сочинять пародии и стихи, рисовать карикатуры. В 12 лет выпускал рукописную газету, которая «сообщала о событиях на Саут-стрит», и продавал ее по центу за экземпляр. Желание стать писателем зародилось в нем очень рано, соученик Билли по третьему классу Лео Галлоуэй вспоминал, что на вопросы учителей, кем он хочет быть, Билл неизменно отвечал: «Я хочу стать писателем, как мой прадедушка».
При всех своих способностях Билл Фолкнер отнюдь не был прилежным учеником, он занимался только теми предметами, которые его интересовали. Сам он впоследствии отозвался о школьном периоде своей жизни следующим образом: «Я окончил младшие классы школы, два года ходил в старшие классы, но только осенью, чтобы играть в футбольной команде, родители в конце концов дознались об этом…»
Помимо футбола, у него было много увлекательных занятий. Одной из таких привязанностей, оставшихся на всю жизнь, были лошади. Как раз в этот период отец Билла содержал конюшню с экипажами, которые сдавались внаем. Фолкнер вспоминал: «Я вырос в большей или меньшей степени в конюшнях моего отца. Будучи старшим из четырех сыновей, я довольно легко избежал влияния матери, поскольку отец считал, что для меня самое важное – учиться делу. Думаю, что я до сих пор занимался бы конюшнями, если бы их не сменили автомобили».
Любопытную историю, относящуюся примерно к этому времени, рассказал однажды Фолкнер, выступая перед студентами в университете Виргинии. На вопрос о происхождении сюжета с пятнистыми лошадьми, послужившего основой рассказа, а потом органически вошедшего в роман «Деревушка», Фолкнер ответил: «Однажды я купил одну из таких лошадей. Они появлялись в нашей округе, каждое лето кто-нибудь пригонял новую партию. Это были выращенные на пастбищах Запада пегие пони, их пригоняли в наш город и продавали с аукциона по цене от трех-четырех до шести-семи долларов. И я купил одну за 4 доллара 75 центов. Мне было тогда, я припоминаю, десять лет. Мой отец в то время владел конюшней, и у него работал здоровенный мужчина шести с половиной футов ростом, и весил он двести фунтов, но в умственном отношении ему было не больше десяти лет. Мне захотелось иметь одну из таких лошадей, и отец сказал: „Хорошо, если ты и Бастер можете купить одну на те деньги, которые ты скопил, покупайте“. Вот мы и отправились на аукцион и купили лошадь за 4 доллара 75 центов. Мы привели ее домой, хотели ее объездить, у нас была двухколесная тележка, сделанная из передка коляски, с дышлом, но эта лошадь нас надула – это был настоящий зверь, в ней не было ничего от домашнего животного. В конце концов Бастер заявил, что все готово, мы накинули на голову лошади мешок и подвели ее задом к тележке, двое негров запрягли ее, завели постромки, мы с Бастером взгромоздились на сиденье, и Бастер скомандовал: „Ладно, ребята, отпускайте!“ Они сорвали мешок с головы лошади. Она рванулась через двор – там были большие ворота, – одно колесо зацепилось за ворота, мы свалились на другое, Бастер поймал меня за шиворот и вышвырнул, а потом спрыгнул сам. Тележка разбилась вдребезги, а лошадь мы нашли в миле от нашего двора в тупике. Всю упряжь она с себя сорвала. Но это был приятный опыт. Мы держали эту лошадь и объезжали ее, в конце концов я стал ездить на ней. Я любил эту лошадь, потому что это была моя собственная лошадь. Я купил ее на свои собственные деньги».
Уже в детстве Билл полюбил природу, охоту. Его скитания по окрестностям Оксфорда частенько приводили мальчика на ферму его приятелей Калленов, расположенную около озера Олд Томпсон Лейк, излюбленного места, где постоянно собирались мальчишки. Джон Каллен писал: «Уильям часто плавал и бродил по воде вместе с нами, охотился на птиц и водяных крыс со своим ружьем 22-го калибра. Он любил слушать мои рассказы об охоте, расспрашивал о жизни в лесах. Мы с ним часто бродили по лесам и разговаривали обо всем этом. Он не задавал слишком много вопросов, как это обычно делают городские мальчики. Ему просто нравилось бродить по лесам и смотреть вокруг».
Охота в этих местах не просто развлечение или спорт, это был скорее торжественный ритуал, символизирующий мужественность, храбрость, неповторимое единение с природой. С незапамятных времен, из года в год каждую осень группа охотников из Оксфорда и округа Лафайет отправлялась в охотничий лагерь полковника Стоуна в дельте Миссисипи. Там дремучие дикие места, где водились медведи, олени, где было раздолье для охотников. Джон Каллен вспоминал, что, когда он впервые начал охотиться в дельте, «там были тысячи квадратных миль девственного леса, росшего на богатейшей почве, которую наносила Миссисипи в течение веков со всего бассейна. В старые добрые времена мы брали с собой острый топор, когда отправлялись охотиться на медведей в леса дельты. Деревья там были такие большие, что двухсотфунтовый медведь, когда его настигали наши собаки, забирался в дупло и нам приходилось рубить это дерево».
Билл Фолкнер еще мальчиком приобщался к этому замечательному мужскому занятию, именуемому охотой. Впоследствии в повести «Медведь» он постарается передать те ощущения, которые испытывал мальчик-подросток, попадая в леса на охоту со взрослыми мужчинами.
«Мальчику было шестнадцать. Седьмой год он ездил на взрослую охоту. Седьмой год внимал охотничьей беседе, лучше которой нет. О лесах велась она, глухих, обширных, что древней и значимее купчих крепостей, белым ли плантатором подписанных, по недомыслию своему полагавшим, будто получает какую-то часть леса во владение, индейцем ли, немилосердно кривившим душой, продававшим плантатору это мнимое право владения: леса товаром быть не могут… Негромко и веско звучат голоса, точно и неспешно подытоживают, вспоминают в кабинетах городских домов или в конторах плантаций, среди трофейных шкур и рогов и зачехленных ружей – или, слаще всего, тут же в лесу, в охотничьем лагере, где висит неосвежеванная, теплая еще туша, а добывшие зверя охотники расселись у рдеющих в камине поленьев, а нет камина и домишка, так у брезентовой палатки, вокруг дымно пылающего костра».
В 15 лет Уильям Фолкнер убил первого оленя.
И другой жизненный опыт, жестокий, бесчеловечный, навсегда врезался в эмоциональную память мальчика. Уильяму исполнилось 11 лет, когда в Оксфорде толпа озверевших белых расистов линчевала негра, обвиненного в убийстве белой женщины. Возглавлял эту банду и призывал к расправе бывший сенатор США Салливан. Толпа взломала двери тюрьмы и ворвалась в камеру, где сидел обвиняемый, его пристрелили, затем выволокли мертвое тело на площадь, накинули на шею петлю и проволокли за машиной до ближайшего дерева, на котором и повесили, предварительно сорвав с трупа всю одежду.
Билли Фолкнер не присутствовал при этой расправе, но мальчишки в школе взволнованно рассказывали друг другу эти жуткие подробности. Спустя два с лишним десятилетия Фолкнер воспроизведет подобную сцену в романе «Свет в августе».
Вообще духовная атмосфера, в которой рос Фолкнер, в которой формировался его нравственный облик, была очень специфичной. Эта атмосфера явилась результатом сложных экономических и политических процессов, характерных именно для этого края и для этого времени.
Американский Юг, пережив поражение в Гражданской войне и тяжкий период Реконструкции, жил тогда странной, дремотной, словно бы призрачной, жизнью. От былого великолепия аристократических плантаций ничего не осталось, потомки земельных баронов нищали. Земля истощалась, негры, хотя они и «освобождены» северянами, оказались в таком же рабстве у экономического владыки, который был безымянен и жесток и вряд ли делал различия между черными и белыми бедняками, арендаторами заложенных и перезаложенных в банках бесплодных земельных участков. Новая эра, на знамени которой написаны слова о свободном предпринимательстве и процветании коммерции, принесла с собой разрушение и загнивание. Примером тому была деятельность лесоразрабатывающих компаний в дельте Миссисипи – они беспощадно вырубали леса, разрушая тем самым почвы, истребляли старые охотничьи угодья, уродовали землю шрамами – следами своего хищничества.
Настоящее представлялось серым, безрадостным, безнадежным. Будущее не сулило ничего хорошего. Оставалось только прошлое. И прошлое это по мере отдаления от него казалось новым поколениям все более прекрасным, оно окутывалось дымкой красивых легенд. Легенды эти с течением времени, как писал впоследствии Фолкнер, «становились все красочнее и красочнее, приобретая благородный аромат старого вина».
Примечательный разговор на эту тему происходит в романе Фолкнера «Авессалом, Авессалом!» между двумя студентами Гарвардского университета, северянином Шривом и южанином Квентином Компсоном, выходцем из Джефферсона. Шрив говорит:
– Я просто хочу понять, если это в моих силах, и я не знаю, как лучше это выразить. Потому что есть нечто, чем мы, северяне, не обладаем. А если и обладали, то все это случилось очень давно, по ту сторону океана, поэтому у нас нет ничего, на что мы смотрели бы каждый день, и это всякий раз напоминало бы нам. Мы не живем среди потерпевших поражение дедушек и освобожденных рабов… и пуль, засевших в обеденном столе, и тому подобного, что всегда напоминает нам о том, чего нельзя никогда забыть. Что это? Среди чего вы живете, чем вы дышите? Нечто вроде пустоты, заполненной призраками и неукротимой злобой, гордостью в отношении того, что случилось и исчезло пятьдесят лет назад? Нечто вроде родового наследства, которое передается от отца к сыну и вновь от отца к сыну, клятва никогда не простить генерала Шермана, так что во веки веков, пока дети ваших детей будут рожать детей, вы не будете никем иным, как наследниками полковников, убитых по приказу Пикетта при Манассасе?
– При Геттисбурге, – поправляет его южанин Квентин. – Ты не можешь понять этого. Для этого нужно было там родиться.
Прошлое рабовладельческого Юга, чье благополучие, богатство и слава, блеск и великолепие зиждились на крови, насилии, на нечеловеческих страданиях черных рабов, приобретало в этих легендах очертания Потерянного Рая, где все мужчины были рыцарями без страха и упрека, беззаветно храбрыми воинами и галантными кавалерами, а все женщины невинными и безупречными красавицами, где господа относились к своим рабам с отеческой заботой, а рабы платили им преданностью и любовью.
На воображение впечатлительного мальчика особенно должны были повлиять рассказы о войне Юга и Севера. Этими рассказами, этими воспоминаниями жили многие былые участники и очевидцы войны. «Когда я был мальчишкой, – вспоминал Фолкнер, – меня окружало множество людей, которые жили во время Гражданской войны, и я подбирал эти сведения – я был просто пропитан ими».
В другом случае он говорил:
«Я помню стариков, в день поминовения павших в Гражданской войне они вытаскивали старую серую поношенную военную форму и доставали старое боевое знамя. Да, я помню каждого из них». Но еще больше о войне он слышал от его теток, старых дев, «которые, – как он говорил, – никогда не признавали поражения в войне». Эти старые женщины оставались непримиримы, и они были главными носителями и рассказчиками легенд о «славном» прошлом Юга. Фолкнер любил пересказывать анекдот об одной из своих теток, которая обожала кино, и когда к ним в городок привезли фильм «Гонимые ветром», созданный по знаменитому одноименному роману Маргарет Митчелл и прославлявший боевые подвиги южан-конфедератов, она с восторгом отправилась в кино. Но как только на экране появился генерал Шерман, командующий армиями северян, она встала и вышла. «Она заплатила немалые деньги за билет, – говорил Фолкнер, – но она не собиралась сидеть и смотреть на Шермана».
В блистательных и призрачных легендах о прошлом особое место для Билла Фолкнера занимала фигура его прадеда, в честь которого он был назван Уильямом. Не следует забывать, что Уильям Фолкнер родился всего через восемь лет после гибели Старого полковника. Еще было живо множество людей, знавших Старого полковника, и сам он казался еще живым. «Страсти в Рипли, – вспоминал Фолкнер, – еще не утихли со смертью полковника и отъездом Турмонда. Я сам помню, когда я мальчишкой бывал в Рипли, там встречались люди, которые переходили на другую сторону улицы, чтобы не пришлось разговаривать с вами».
Фигура полковника Фолкнера приобрела в здешних местах легендарный отсвет, и это очень нравилось его правнуку, соответствовало его романтическим представлениям о прошлом. «Люди в Рипли, – говорил Фолкнер, – говорят о нем так, словно он обитает в холмах или еще где-то и в любое время может явиться. Странное дело: его знало множество людей, но нет двух человек, которые одинаково вспоминали бы его или похожим образом описывали. Одни говорят, что он был с меня ростом, другие клянутся, что в нем было два метра роста… Ничего не осталось от старого имения, нет дома, и нет плантации, ничего не осталось от его дел, кроме статуи. Но он скачет по этим местам как живой. Мне это больше нравится».
Это ощущение живой легенды, незримого присутствия Старого полковника Фолкнер постарался передать в романе «Сарторис», где герою романа полковнику Джону Сарторису он придал многие черты биографии своего прадеда. Фолкнер писал о нем как о «дерзкой тени, властвовавшей над домом, над жизнью всех домашних и даже над всей округой, которую пересекала построенная им железная дорога».
Во всяком случае, над душой правнука «дерзкая тень» Старого полковника властвовала, волновала воображение, томила неясными желаниями. Мальчику хотелось быть похожим на прадеда, быть достойным его славы, легенды о нем. Мечталось о подвигах, о героических делах.
А жизнь вокруг была тусклой и неинтересной. Уильям Фолкнер воочию видел, как растаяло состояние, нажитое Старым полковником, как на протяжении всего трех поколений дела семьи пришли в полный упадок. Уже сын Старого полковника, дед Уильяма, утратил значительную часть того огня, той бьющей через край жизненной силы, которые отличали дела полковника Фолкнера. А внук Старого полковника, отец Уильяма, скатился еще на несколько ступенек вниз по лестнице общественного положения. Ни одно из его многочисленных предприятий не имело успеха. Мальчику стыдно было признаваться в этом самому себе, но в глубине души он понимал, что отец просто неудачник, не унаследовавший ничего от энергии и предприимчивости своего деда и даже отца.
На карте Соединенных Штатов уже не осталось диких, девственных мест, куда можно было прийти смелому человеку и своими руками создать себе имя, состояние, как это сделал когда-то прадед. Не было войн, на которых можно было бы завоевать славу. А романтический настрой души мальчика искал выхода из серых будней маленького провинциального городка.
Уильям Фолкнер нашел свой путь – он увлекся романтической поэзией, сам начал писать стихи. Он и раньше любил читать. Главным источником его чтения была библиотека деда, чей вкус, по словам самого Фолкнера, «сводился к простейшей прямолинейной романтике, вроде Скотта и Дюма».
Среди разрозненных томов дедовской библиотеки была одна книга, которая произвела очень сильное впечатление на мальчика. Это был перевод романа польского писателя Генрика Сенкевича «Пан Володыевский». Мальчику, выросшему на рассказах о Гражданской войне, импонировала эта романтически-приподнятая история о безрассудно храбрых рыцарях-шляхтичах, о прекрасных и верных красавицах.
В этой мальчишеской увлеченности романом Сенкевича нет ничего удивительного: не одно поколение мальчишек и до Фолкнера и после него зачитывалось захватывающими приключениями пана Володыевского. Примечательно другое – мальчика поразили, и он запомнил их на всю жизнь, слова предисловия Сенкевича, где было сказано, что эта книга написана, чтобы «возвышать сердца людей».
Теперь он нашел для себя новый, чарующий мир – мир поэзии. «В шестнадцать лет, – вспоминал Фолкнер, – я открыл Суинберна. Или скорее Суинберн открыл меня, выпрыгнув из какого-то измученного подсознания моей юности, как разбойник с большой дороги, сделав меня своим рабом. Моя духовная жизнь в этот период была настолько всеобъемлюще прикрыта внешней неискренностью – видимо, необходимой мне в то время, чтобы сохранить нетронутой мою душевную целостность, – что я не могу до сего дня сказать точно, насколько глубоко он расшевелил меня, насколько глубоко следы его прохода остались в моем сознании. Сейчас мне кажется, что я увидел в нем не что иное, как удобный случай, в который я мог вместить мои смутные эмоциональные идеи, не сломав их. Это уже спустя много лет я обнаружил, что он гораздо больше, чем яркий и горький звук, больше, чем мишура крови и смерти, и золота, и обязательно моря».
В этом высказывании важно все – и отражение душевного настроя подростка, еще неосознанно для самого себя тянущегося к романтической поэзии, к поэзии возвышенных чувств, далекой от серой повседневности, и свойственная юности ошеломленность поэзией, полное и беззаветное погружение в нее. Но не менее важно и другое – откровенное признание во внешней неискренности, призванной сохранить «душевную целостность». Это признание свидетельствует о душевном разладе с действительностью, о юношеском стремлении обрести нечто, чем можно было отгородиться от мелочности и приземленности быта, лишенного высоких идеалов, отгородиться для того, чтобы сохранить «душевную целостность».
Он окунулся с головой в мир английских поэтов-романтиков – Шелли, Китса, Колриджа. Душевному состоянию Уильяма Фолкнера импонировал провозглашаемый ими уход от жизни в возвышенные сферы духа, в мир античной красоты, в мир героического и прекрасного.
Увлечение чужими стихами неминуемо влечет за собой желание писать собственные. Это случилось и с Фолкнером. Он стал застенчив, менее общителен, перестал принимать участие в спортивных играх сверстников, меньше стал уделять внимания школе, часто пропускал уроки, посещая только те предметы, которые его интересовали. Он много читал, по-прежнему без разбора, гулял по окрестностям Оксфорда, предаваясь смутным мечтаниям, подолгу сидел над листом бумаги, стараясь уложить в стихотворные строчки туманные образы, мелькающие в его голове.
Конечно, была в его стихотворчестве и банальная юношеская поза. Впоследствии он сам довольно откровенно написал об этом – как всегда, с изрядной долей иронии по отношению к самому себе, он признавался, что начал сочинять стихи, чтобы добиться успеха у девушек, за которыми тогда ухаживал, и «ради юношеской позы показать, что я „отличаюсь“ от других жителей маленького городка».
Вероятно, и это стремление к самоутверждению сыграло свою роль – трудно не верить самому Фолкнеру, хотя он и любил мистифицировать журналистов, бравших у него интервью, и посмеиваться над ними. Однако достаточно хорошо известно, что только из позы, только из юношеского стремления утвердиться как личность поэты никогда не рождались. Значит, было и другое, гораздо более существенное – бескорыстное и искреннее увлечение поэзией. Много лет спустя, говоря о книге своих стихов «Зеленая ветвь», опубликованной в 1933 году, Фолкнер подчеркнул: «Она была написана в то время, когда пишут стихи, – в семнадцать, восемнадцать, девятнадцать лет, – когда пишешь стихи просто ради удовольствия писать стихи и не думаешь о том, чтобы их напечатать, это приходит позднее».
«Оксфорд был столь же идеальным местом для занятий литературой, как и любой другой городок Юга. Там не было никого, кто стал бы возвеличивать подающего надежды автора, и никого, кто стал бы делать из него жертву, не было компании, по отношению к которой нужно было выглядеть оригинальным и умным и с которой нужно говорить о великих произведениях, которые собираешься когда-нибудь написать. Там не было никого, кроме меня, с кем Уильям Фолкнер мог обсуждать свои литературные планы и надежды». Эти слова принадлежат человеку, которому Уильям Фолкнер оказался очень многим обязан. И появился этот человек как раз тогда, когда был действительно нужен юноше Фолкнеру, мучительно нащупывавшему свой путь в жизни и в литературе.
Филипп Стоун был потомком одной из самых старинных семей Оксфорда, богатой своим прошлым, своими традициями, участием в Гражданской войне в рядах армии конфедератов. Его отец генерал Стоун был адвокатом и видной политической фигурой в штате Миссисипи. Своего сына Филиппа генерал Стоун готовил тоже к юридической карьере, надеясь, что тот со временем займет его место в семейной адвокатской конторе. Отец считал, что сын должен получить самое лучшее образование. Справедливо полагая, что университеты в южных штатах страдают некоторым провинциализмом, генерал Стоун решил, что Филиппу полезно будет поучиться на Севере, и отправил его в Йельский университет. Окончив его, Филипп вернулся, чтобы изучать право в Миссисипском университете в родном Оксфорде.
Семьи Стоунов и Фолкнеров были издавна близки между собой. Достаточно сказать, что дед Фила Стоуна сражался вместе с прадедом Уильяма Фолкнера под командованием генерала Форреста. «Наши семьи, – вспоминал впоследствии Фил Стоун, – были дружны на протяжении поколений, и я знал о существовании Уильяма, но он был мальчиком, на четыре года младше меня. Поэтому я не сталкивался с ним до лета 1914 года». В то время Филиппу Стоуну был 21 год, а Уильяму Фолкнеру 17 – разница в этом возрасте весьма существенная.
Кроме того, Фил уже окончил один университет, побывал на Севере – в Нью-Хейвене и в Нью-Йорке. А самое главное для Уильяма – Фил Стоун был литератором, он гораздо больше интересовался поэзией, нежели уголовным или гражданским правом. Вот и случилось, что Мисс Мод поведала своей подруге, матери Фила Стоуна, что ее сын Билли не знает, что ему делать со своими стихами, и вообще не понимает, хороши ли они, потому что в Оксфорде никто ничего в стихах не понимает.
В результате в одно из воскресений Фил Стоун появился в доме Фолкнеров. Билли застенчиво вытащил свои стихи и принялся их читать. Стоун, по его собственному признанию, был удивлен и взволнован. «Любой мог увидеть, что у него настоящий талант. Это было совершенно очевидно». С этого началась их дружба, в которой Фил Стоун взял на себя роль ментора, а семнадцатилетний Уильям Фолкнер с восторгом принял роль ученика.
Они много гуляли вместе по Оксфорду и его окрестностям, один из их излюбленных маршрутов пролегал на запад, по Юниверсити авеню, потом они огибали университетский городок и направлялись на северо-восток через леса, вдоль рва, ведущего к родовому дому Стоунов на Колледж Хилл Роуд.
Молодые люди, влюбленные в поэзию, остро воспринимали красоту окружающей их природы. Фил Стоун вспоминал: «Мы оба чувствовали, что Оксфорд и окружающая его природа сделали уже достаточно для человека, дав ему возможность жить здесь. Из любой части Оксфорда достаточно пройти совсем недалеко, чтобы очутиться в бесчисленных уголках, где можно найти нетронутые места и где звуки так называемого прогресса человечества доносятся только как призрачные звуки издалека. Там есть тенистые рощи серебряно-белых буков, где родники журчат у подножия холмов и солнечные лучи просвечивают сквозь листву и где нет никого, кроме птиц. Там есть мягкие, устланные сосновыми иглами холмы, белые весной от цветущего кизила. Там есть гряды холмов, уходящие вдаль, синие, пурпуровые, бледно-лиловые и сиреневые на солнце холмы, на которые вы можете смотреть день за днем и год за годом и никогда не увидеть одинакового света, тени и красок».
Фил Стоун вспоминал и о том, как поэтически воспринимал мир юноша Фолкнер: «Однажды весной мы гуляли за городом, милях в четырех, и леса были украшены цветущим кизилом – белым, сверкающим! Я сказал Биллу что-то насчет того, что деревья выглядят как девушки, он кивнул головой, на минуту задумался и потом сказал: „Если бы я был господом богом, то весной каждая девушка-блондинка имела бы платье цвета яблони“.
Можно ли после этого удивляться, что, когда Фолкнер впервые попал в Нью-Йорк, он писал их общему приятелю Старку Янгу, что он „жалеет все эти миллионы живущих здесь людей, потому что они не живут в Оксфорде“.
О чем они говорили во время этих многочасовых прогулок? Конечно, больше всего о литературе. Говорил, естественно, в основном Фил, а Уильям довольствовался ролью слушателя. Стоун обладал незаурядным даром рассказчика и феноменальной памятью, позволявшей ему цитировать наизусть страницы классических произведений.
Зачастую они уединялись в комнатке Фила на верхнем этаже дома Стоунов, где была собрана хорошая библиотека классической и современной литературы. Одну из главных своих задач Стоун видел в том, чтобы приучить Фолкнера к систематическому и планомерному чтению. Он стал приучать своего молодого друга к чтению мировых классиков – Бальзака, Теккерея, Филдинга, Дефо, Диккенса, великих русских писателей – Гоголя, Достоевского, Чехова. Он познакомил Фолкнера с поэзией французских символистов, со стихами Верлена, Бодлера, Малларме, с творчеством современных прозаиков – Джозефа Конрада, с романами Шервуда Андерсона, Теодора Драйзера, со стихами Роберта Фроста, Карла Сэндберга, Эми Лоуэлл, Эдны Милей, Томаса Элиота, Эзры Паунда.
Всякую книгу, которую давал ему Стоун, Фолкнер должен был прочитать, а потом они ее обсуждали. Высказывался, правда, главным образом Фил, человек блестящий, легкий, острого и быстрого ума, который отлично дополнял своего более молодого друга, часто заторможенного, стеснительного. Любопытно, что книги по эстетике и философии обычно возвращались к Стоуну девственно нетронутыми.
Фил Стоун верил в талант своего друга и по мере сил старался подготовить его к нелегкой задаче быть литератором. У Стоуна были довольно верные представления о литературе, и он настойчиво внушал их Фолкнеру.
„Вы можете быть уверены, – писал он в своих воспоминаниях, – что я старался, чтобы он обеими ногами стоял на земле. Проще сказать, я наступал ему на ноги, чтобы удерживать его на земле. День за днем в течение ряда лет – а это были годы, когда он формировался, – я внушал ему такие очевидные истины, как то, что мир не обязан ничем ни одному человеку, что подлинное величие заключается в создании великих произведений, а не в том, чтобы только претендовать на это, что единственная дорога к литературному успеху лежит через кропотливую напряженную умственную работу, что успеха можно достичь, только если ты его заслуживаешь, и никак иначе. Главным образом я объяснял ему, что надо избегать современных литературных клик с их лихорадочным, возбужденным бесплодием, внушал ему, что литература вырастает на своей естественной почве, остерегал его от опасности попасть в удобную, но бездонную яму внешней технической изощренности“.
Советы были неплохие. И будущий писатель Фолкнер воспринял их. Возможно, он и сам в своем творчестве пришел бы к этим выводам, но, к счастью, в те молодые годы рядом оказался умный и чуткий старший товарищ, который помог ему. И надо отдать должное Фолкнеру – он навсегда сохранил чувство благодарности Филу Стоуну, проявившееся прежде всего в том, что именно Стоуну Фолкнер посвятил свою трилогию „Деревушка“, „Город“, „Особняк“.
Говорили они, конечно, не только о литературе. Была еще одна тема, в равной степени волновавшая обоих. Этой неиссякаемой темой было прошлое, наследниками которого они себя ощущали в полной мере, прошлое их семей, прошлое всего американского Юга. У Фила Стоуна в Гражданской войне принимали участие оба деда, дяди и двоюродные братья. Но если Уильям был просто „начинен“ бесчисленным количеством всевозможных историй, анекдотов, легенд о Гражданской войне, то у Фила Стоуна знания на этот предмет были более основательными. В детстве Фил много болел и провел несколько лет в постели. В этот период он всерьез увлекся историей и прочел довольно много книг по истории Гражданской войны. Весь этот запас сведений Стоун хранил в памяти и щедро делился ими с Фолкнером.
Разговоры друзей о прошлом, естественно, переходили в размышления о современном мире. На фоне героических легенд настоящее выглядело тусклым, серым, безрадостным, не обещавшим ничего достойного. Особенно остро эту бесперспективность ощущал более юный Фолкнер. Он мечтал о славе, ему грезились героические подвиги, а жизнь предлагала крохоборческое существование в царстве наживы, стяжательства, подлости и ханжества.
Симптоматично, что, судя по воспоминаниям Стоуна, в их беседах в те годы большое место занимали люди „новой формации“, стяжатели и мелкие авантюристы, подобно ядовитым грибам вылезшие из-под земли в нездоровом климате периода Реконструкции, те, кого впоследствии Фолкнер увековечит в лицах семейного клана Сноупсов. Стоун вспоминал, что во время длительных прогулок они зачастую развлекались тем, что придумывали подобные персонажи, страшные и смешные одновременно.
Вновь и вновь возвращались они к вопросу о будущем Фолкнера. Стоун поддерживал в молодом друге презрительное отношение к формальному образованию, которое дает школа. Он составил для Фолкнера обширную программу самообразования, полагая, что систематическое и продуманное чтение книг принесет гораздо больше пользы для будущей литературной деятельности Уильяма, нежели занятия в школе.
В результате Уильям Фолкнер в 10-м классе навсегда расстался со школой. Сам он впоследствии прокомментировал это следующим образом: „Бросил школу и пошел работать в банк дедушки. Распознал медицинскую пользу его запасов спиртных напитков. Дедушка подозревал привратника. Очень на него сердился“.