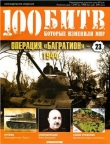Текст книги "Смерть и жизнь рядом"
Автор книги: Борис Тартаковский
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
В конце декабря командующий карательными силами немцев доложил по начальству, что с партизанами в горах Словакии покончено.
Но вопреки победным реляциям карателей и немецким приказам партизаны продолжали действовать. Проплутав две недели в горах, отряд Зорича вышел в новый район, ранее очищенный карателями от партизан, и на рассвете туманного декабрьского утра разбил лагерь у большого села. Крестьяне, много натерпевшиеся от немецких хозяйственных команд, встретили партизан, как своих защитников.
По случаю праздника во многих крестьянских домах были закалачки – кололи кабанов – и на закалачки приглашали партизан. Парни пили в меру.
Накануне Нового года к Александру Пантелеймоновичу пришел староста с бляхой на груди и стал приглашать на «забаву» – вечер с танцами, который устраивала молодежь дедины в корчме.
– Просим навестить нас с вашими велителями, – просил он.
Зорич поблагодарил:
– Вельми дякуем, пан староста.
Чтобы не обидеть гостеприимных хозяев, на вечер пошел майор в сопровождении Франтишека Пражмы и десятка молодых партизан. Другие несли караульную службу, значительно усиленную Зоричем в эту праздничную ночь, а группа партизан ушла на боевое задание, чтобы поздравить с Новым годом немецкий эшелон.
В корчме было шумно и весело. В первой комнате, за небольшими столами, сидели почетные гости – старики. Они вели неторопливую беседу и дымили самодельными трубками. Каждый хотел чем-то выразить свое душевное расположение Зоричу: он ведь был не только велителем партизан, их защитником, но русским офицером и как бы олицетворял собой Советский Союз, несущий Чехословакии освобождение от извечного врага. И майору подкладывали лучшую часть бравчовины – жареной свинины, самые жирные колбасы и тянулись со всех сторон, чтобы угостить табаком или чокнуться.
– На здравье…
– Праем много штястья…
Корчмарь, подвижный и веселый, каждый раз ставил новые блюда, одним своим видом и ароматом вызывавшие желание попробовать их.
А в соседней комнате часто-часто постукивали каблучки девичьих сафьяновых сапожек, и колоколами раздувались юбки, и слышен был дружный вздох парней: «А-ах!» Но ничего не могло заглушить цимбал и скрипок, на которых играли цыгане, и звуки цыганского бубна будто вплетались в серебристый девичий смех. Бурный словацкий чардаш сменялся не менее темпераментным валашским танцем, и юноши, в праздничных белых костюмах и в тужурках, причудливо расшитых, могли показать, что их сила и ловкость нисколько не уступают нежной грации девушек.
Как всегда, взрывы бурного веселья вызвал танец-дразнилка «Ежик». Острые шутки и прибаутки так и сыпались с двух сторон. «Кто бы сказал про меня, что голова моя вроде ежа!» Вот откуда название этого чешского танца с шуточками, острыми, как ежовые иглы. Поднялась беготня, парни ловили девушек, а те не давались, и в веселой суматохе слышны были торопливые, но жаркие поцелуи и слова любви, как будто и не было на земле войны и не стреляли пушки, вырывая из жизни молодых и сильных, которым в пору отплясывать «Ежика», крепко целовать девушек и говорить о любви и счастье.
А старики вели неторопливый разговор о войне, о мире и о том, как живут люди в великом Советском Союзе. Все удивляло их, этих старых крестьян, и только высокое чувство гостеприимства не разрешало вслух сомневаться. Но майор Зорич видел по морщинистым лицам и хитрым крестьянским глазам, что сегодня эти люди будут долго ворочаться под своими перинами, вспоминая беседу с ним, и много еще будет у них разговоров о стране, где вся земля навечно отдана пахарям, а заводы и шахты – рабочим,, где нет ни помещиков, ни фабрикантов, а в парламенте заседают люди с мозолями на руках. Чудеса, да и только!..
Но вдруг наступает торжественная тишина: часы отбивают двенадцать ударов, возвещая о наступлении Нового года.
В эту минуту каждый человек окидывает мысленным взором путь, пройденный им, и вспоминает людей, дорогих его сердцу. И майор Зорич вспоминает страдный путь прошедшего 1944 года, который никак не уложить в триста шестьдесят шесть дней, так много было потеряно и найдено. Но сейчас он не хочет думать о потерях. Хотя бы на минуту возвратиться к родному очагу, обнять жену и сына. Родной дом! Широкое окно с видом на Днепр, и улицы с тополевыми шпалерами, и старые каштаны на бульваре, присыпанные новогодним снегом, и заречные дали в туманной дымке…
– С Новым годом, пан майор, с новым счастьем!
Это желают старики, и Александр Пантелеймонович улыбается им, тронутый словами сердечной дружбы.
А в соседней комнате уже звучат чистые девичьи голоса, и грустная песня горцев Словакии сменяется озорной песней из Чешско-Будейовиц:
Матушка часто мне говорила,
Чтобы к ребятам я не ходила…
Потом поют русские парни, и словаки, чехи радостно улыбаются: даже по песням видно, как много у них общего и родственного.
Не велят Маше за реченьку ходить,
Не велят Маше молодчика любить,-
звучит под низким потолком словацкой корчмы русская народная песня. Потом все вместе – словаки, чехи, русские, украинцы, цыгане – поют «Катюшу», каждый на своем языке, и вот уже кто-то из партизан пошел вприсядку, чтобы показать друзьям, как танцуют на Украине гопак. Затем начинается общая полька, и опять словацкий чардаш – такой пламенный, что увлекает в круг и стариков.
Давно оставили свое место в углу музыканты. Они ходят среди гостей. Когда же подносят им чарки с боровичкой, музыканты тут же у столов исполняют «Яношика» и «Течет вода, течет». И вся корчма затихает, когда командир отряда берет из рук цыгана его аккордеон, растягивает мехи и тихо, но слышно для всех поет «В лесу прифронтовом».

Он поет, склонив голову на плечо и закрыв глаза. В эту минуту перед ним будто раздвигаются стены корчмы. Он видит жену – Елену Ивановну, и сына, которому пошел десятый год, и старый каштан, и яркую путаницу огней на реке в синеве ночи, и свое последнее прощание.
Под этот вальс весенним днем
Ходили мы на круг,
Под этот вальс в краю родном
Любили мы подруг…
Он пел, «и каждый слушал и молчал о чем-то дорогом, и каждый думал о своем, припомнив ту весну, и каждый знал: дорога к ней ведет через войну…».
Пусть свет и радость прежних встреч
Нам светят в трудный час,
А коль придется в землю лечь,
Так это ж только раз…
…Новогодняя ночь. В свете звезд мерцает снег и сталь морозных рельсов, тянущихся бесконечно и теряющихся где-то среди гор. Вануш Сукасьян синим лучиком фонарика ищет то самое уязвимое место на железнодорожном полотне, которое должно взорваться, как только могучее колесо мчащегося паровоза достигнет партизанской мины.

– Вот здесь! – говорит Вануш, не поворачивая головы.
Яков Баштовой, Свидоник, впервые участвующий в боевой операции после выздоровления, и обувщик Любомир Павлинда достают саперные лопатки, а Вануш отползает к вещевому мешку, который оставил с минами в орешнике за кюветом. Здесь, за пулеметом, лежит Алоиз Ковач и что-то, как всегда, жует. Парень не теряет аппетита ни при каких обстоятельствах. Но Алоиз начеку, он хорошо помнит напутствие Зорича: осторожность и еще раз осторожность. «Дорога охраняется и проверяется, немцы стали недоверчивы, и за каждым кустом мерещится им партизан, а мы должны им поднести сегодня новогодний подарок с фейерверком», – предупредил майор.
Вануш ползет, обдирая гравием колени и ладони рук, но не чувствует боли, «Да, знатный подарочек приготовил вам бывший строитель горных дорог из далекого армянского селения, будет о чем рассказывать завтра», – думает Вануш. Это будет новогодний подарочек и от ленинградской комсомолки Тани Кашириной. По ее личной просьбе. «Вануш, дорогой, вот эту мину, – сказала она, подавая пакет,– ты положи от моего имени… – она запнулась, горестная складка появилась у ее нежных, девичьих губ, – и от славного донецкого парня…» Он взял пакет и обещал: «Не беспокойся. Они его получат». И теперь, ощущая соленый вкус пота на губах, Вануш продолжает разговор уже с теми, кому приготовлен горячий подарочек. «Вы считаете, что он убит? – мысленно обращается к ним Вануш. – Как бы не так! В этой войне и мертвые не спят. Да, воюют, – и Вануш достает мешок из кустов. – Ну и тяжелый, – радуется он, – не одного фрица вознесет сегодня на небеса…» Он хрипло смеется, но смех его не радостный и напоминает скорее стон. Да, бывает, что и мертвые воюют. «А коль придется в землю лечь, так это ж только раз…» Так пел его дорогой друг, его брат, донецкий взрывник Степовой. «И что положено кому – пусть каждый совершит…» Вануш ползет, ощущает на потной спине давящую тяжесть мешка, и в душу вдруг заползает сомнение: а если не взорвется? Он сжимает зубы. Должно взорваться! Но может и не взорваться. А вдруг не взорвется?
– Все, завхоз, ставь свои галушки, – говорит Баштовой, и даже здесь не обходится веселый тавричанин без сочной украинской прибаутки, которая у него всегда имеется в запасе.
– Ставь, ставь свои галушки, – глухо рокочет Баштовой, – на здоровье нам, на злость ворогам, на безголовье панам и тем бисовым сынам, что завидуют нам…
С Яковом Баштовым всегда приятно работать. Даже в самую трудную минуту он не теряет спокойствия и его широкое, добродушное лицо кажется несколько сонным. Но достаточно ему увидеть «вражину-фашиста», и Баштовой словно преображается, лицо бледнеет, а мощные кулаки так тяжелеют, будто наливаются свинцом.
Шутка Баштового невольно вызывает улыбку, и Вануш сразу успокаивается. Его движения становятся сосредоточенно неторопливыми, будто он закладывает взрывчатку не под полотно железной дороги, а взрывает горные породы, прокладывая новый путь в своей солнечной Армении. Да, заряд солидный, и теперь только важно, чтобы не заметили партизанского рукоделия дорожные обходчики: немцы стали осторожны, майор прав.
Партизаны тщательно маскируют свою работу и залегают в орешнике, ожидая товарного эшелона, идущего из Топольчан в Превидзу. А немного дальше, с километр от дороги, в лесу, их дожидаются разведчики Грунтового, держа в поводу оседланных коней. Лошади нетерпеливо переступают с ноги на ногу.
До прихода поезда остается тридцать минут, но за это время можно прожить целую жизнь. Партизаны лежат, и каждый думает о своем.
– Згадую, цэ було пэрэд вийною, – вдруг шепотом говорит Баштовой, – самэ в такый час пид Новый рик я гопака вдаряв. Дужэ я був злый на танци, прямо невероятно, яка у мэнэ була зализна закалка…– Он не ждет ответа на свои воспоминания, хотя молчать тоже не может, и, как всегда в минуты большого душевного напряжения, переходит на свой родной звучный украинский язык: – Ото було врэмячко, скажу я вам, хлопци, и дужэ мэни хочэться знаты тильки однэ: нэвжэж и писля такой вийны люды знову будут воювать?
У Свидоника есть ответ на этот вопрос, но его опережает Вануш.
– Хлопцы, поезд идет! – восклицает он, приникая ухом к земле, чтобы проверить себя. Вануш сразу отрешается от всего, что не касается его взрывчатки.
Но это не поезд, а контрольная дрезина. «Да, немцы стали осторожны, – думает Вануш, – но, как говорят в Армении, умелый может даже зайца телегой поймать». Нужна многотонная тяжесть товарного эшелона, чтобы заговорила взрывчатка. Он провожает взглядом черные силуэты на дрезине, пока они не растворяются в темноте, и сразу же, как только на севере затихает дребезжащий звук дрезины, с юга нарастает тяжелый гул идущего поезда.
Железнодорожный состав, груженный, как было известно партизанам, боеприпасами, взрывается с таким грохотом, будто рушатся горы. Вануш торопливо пересчитывает вагоны. Паровоз не в счет – он лежит на боку и похож на опрокинутую игрушку Гулливера. Вануш считает: двенадцать, тринадцать, четырнадцать… Опять сбился. Десять, одиннадцать… «Двадцать вагонов», – говорит Свидоник. А Алоиз Ковач поливает дорогу из своего пулемета.
– Отходим! – приказывает Яков Баштовой.
Вануш бросает еще одну гранату, и партизаны поспешно отходят, пока не опомнились солдаты поездной охраны. «Фейерверк получился на славу, новогодний подарочек обойдется фрицам недешево», – думает Вануш.
Они возвращаются в село, когда забава – новогодний вечер – в разгаре. Однако майор уже в своем штабе. Тут же и Франтишек Пражма, Агладзе и начштаба Волостнов. Все ждут вестей с железной дороги.
– Наконец-то! – восклицает Зорич, когда в дверях появляются Яков Баштовой и за ним Любомир Павлинда.
Баштовой докладывает: эшелон подорван, потерь нет.
Командир отряда интересуется подробностями. Баштовой рассказывает о поведении немцев в своей манере – с шуткой и прибауткой:
– «Ой!» – крычыть одын и так побиг, що чоботы розгубыв. А другый видповидае: «Не журысь, Гансыку, що нэма чобит, мэнш будэ клопоту, а то щэ мазаты треба та взуватысь!»
Эти слова партизаны встречают хохотом.
– Вот так дает!
А майор слушает, смотрит на Любомира Павлинду, который нетерпеливо топчется у дверей – гак ему хочется поскорей попасть на забаву, – и добродушно усмехается, понимая нетерпение молодого обувщика. «Как, должно быть, этот юноша любит жизнь, если и угроза смерти ему нипочем», – думает Зорич. И вдруг прерывает расходившегося тавричанина, обращаясь к Франтишеку Пражме:
– А наш обувщик, видно, застоялся, судруг Пражма, – и смеется.
– Аж ногамы пэрэбырае, так на забаву побигты хочэться, – подхватывает Баштовой.
Агладзе от души хохочет, а Франтишек Пражма укоризненно смотрит на Павлинду, отвечающего майору веселой и добродушной улыбкой. Баштовой продолжает:
– Повиртэ, товарыш майор, всю дорогу бисовый хлопэць канючив, що запизнюеться на забаву, – и, понизив голос, доверительно сообщает: – Дивку, видно, прыгледив…
– И хороша?-живо интересуется Агладзе.
– Хороша Маша, да не наша, – притворно вздыхает Волостнов, не поднимая головы от своих штабных бумаг.
«Жизнь против смерти, – думает Александр Пантелеймонович,– и пушки тут бессильны…»
– Ладно уж, идите! – машет он рукой и провожает партизан веселым взглядом. «И мы были молоды», – думает он.
А доктор Пражма пожимает плечами. «Как у Зорича уживается военный человек со школьным учителем?»– удивляется он. Несмотря на это, доктор Пражма испытывает к командиру отряда большое уважение, смешанное (даже себе не признается в этом) с каким-то странным чувством не то сыновней нежности (хотя Зорич младше его), не то с восторженностью, скорее подобающей гимназистам, а не доктору права. «Хороший человек Зорич – вот и все!» – решает Франтишек Пражма и ставит на этом точку, так как. в землянку врывается Вануш.
– Товарищ майор, наши бомбят немцев!
– Должно быть, поздравляют с Новым годом,– говорит Зорич, и ему радостно при мысли, что это его отряд дал цели и в Топольчанах и в Злате Моравце. И кажется Александру Пантелеймоновичу, что вовсе не он в тылу у немцев и не они грозят ему уничтожением, а, напротив, он вместе с полками и дивизиями 2-го Украинского неотвратимо наступает на врага.
Все торопятся на свежий воздух, и кажется, что звездная россыпь в темном небе отражается на снегу, которым укрыты горы, нависающие над лагерем с северо-востока, и широкая равнина с другой, юго-западной стороны, где далеко внизу несет свои быстрые воды Нитра. И долго Зорич, Франтишек Пражма, Волостнов, Сукасьян и другие партизаны, бросившие землянки ради великолепного зрелища, любуются фонарями, повисшими между небом и землей. Их много – этих ярких шаров, сброшенных советскими самолетами для освещения целей, и отсюда они кажутся праздничной иллюминацией.
ВЕСТНИК ИЗ ТОПОЛЬЧАН
Дополнительной разведкой было установлено, что в новогоднюю ночь группа Якова Баштового сорвала перевозки по военной дороге не менее чем на сутки. Паровоз так и остался лежать на боку как живое свидетельство партизанской удачи. Видно, у немцев не было технических средств для подъема поврежденного гиганта. Три вагона сошли с рельсов, от двух остались остовы с погнутыми ребрами. Хотя язык шифра вынуждает к предельной ясности, присущей таблице умножения, Ниночка Чопорова расписывает «новогодний подарочек», как требует ее взволнованное сердце. Вместо Нестора за столом, сколоченным партизанскими плотниками, рядом с радисткой сидит Таня Каширина. Она утверждает, что навыки филолога якобы способствуют быстрейшему усвоению шифровальной работы. Но сегодня она доставляет Тане особое удовольствие. Впервые после гибели Нестора Таня Каширина испытывает непередаваемое чувство удовлетворения, помогая Ниночке превращать донесение о новогодней диверсии в строчки бесчисленных цифр.
После сеанса Ниночка уходит, а Таня остается, говорит, что хочет соснуть.
Некоторое время Таня слышит веселые голоса молодых партизан, затем постепенно опять наступает тишина, только слышны грузные шаги караульных и где-то скребется лесной зверек. И тут девушка не выдерживает. Уткнувшись лицом в жесткую подушку, Таня плачет. В который уже раз она сожалеет, что Зорич не послал ее в Братиславу. Обеспокоенный продолжительным отсутствием вестей от Колены и Штефана Такача, вызванным, возможно, не провалом, а потерей связи с долго блуждавшим отрядом, Зорич решил послать в Братиславу Власту.
Власта ушла вчера, Таня сама проводила ее до крайних партизанских постов, и, хотя упрямая русская комсомолка ни словом не выразила чувств, волновавших ее, Власта поняла, что Таня охотно пошла бы вместо нее. Таня стремилась к активному действию, только поединок жизни со смертью мог отвлечь ее от постоянной тоски о Несторе. Сердце подсказывало, что он жив, она не хотела верить в его гибель, и словами поэта она говорила: «Я буду ждать», горько сожалея о том, что не сказала этих слов, когда он вошел последний раз в землянку и попрощался: «Ну, сержант, я ухожу…» Могла ли она думать, что он совсем уходит из ее жизни?..
А в это же время, когда Таня предавалась своим неутешительным воспоминаниям, Николай Трундаев привел к Зоричу паренька, который сообщил, что Нестор Степовой жив, но может и погибнуть, так как находится в руках гестапо.
Это был коренастый юноша с круглым мальчишеским лицом, сейчас возбужденным и несколько смущенным. У него была светлая кудрявая голова, живые темные глаза и пушок на верхней губе.
Окинув парня быстрым и пристальным взглядом, Зорич спросил его имя.
– Янко. Янко Плинек.
– Чо вам треба?
Парень немного знал русский язык, который изучал тайком, чтобы не дознались гардисты или немцы. Они, ясное дело, и заподозрить не могли об истинных симпатиях Янко – сына надзирателя топольчанской тюрьмы. А юноша, как и большинство словаков, всей душой был на стороне русских. Янко давно искал возможность на деле показать свою ненависть к фашистам и свою любовь к русским.
Янко не мог толково объяснить русскому майору своих чувств, хотя усатое лицо партизанского командира располагало к откровенному и душевному разговору. Янко побаивался, что ему – сыну тюремного надзирателя – вообще могут не поверить. Виданное ли дело, чтобы сын предавал отца! Нет, Янко не хотел зла отцу, ни в коем случае. Отец его тоже любил Чехословакию и не очень-то жаловал фашистов. Янко знал это и поэтому пришел сюда, в горы, когда услышал от одного патриота, где стоят партизаны.
Велитель заинтересовался. Это было видно по выражению его лица, ставшего сразу строгим, даже, пожалуй, жестким, как позже рассказывал Янко. И лицо велителя уже не выражало обычной доброты, когда Янко стал рассказывать, как гестаповцы избивают и мучают русского парня Нестора. Это был партизан, попавший в гестапо из-за предательства. А несколько дней тому назад в тюрьме появился и второй русский – летчик, по имени Николай. Обоих ждут пытки и смерть. Их нужно спасти. Их нужно во что бы то ни стало спасти, пока еще не поздно, и вот Янко пришел к партизанам.
Он говорил быстро, взволнованно.
Летчика привезли ночью, рассказывал Янек, и он был в тяжелом состоянии. Янек знал, что летчика осмотрел местный лекарь и сказал, будто у того внутри все начисто отбито. Только русский мог еще держаться в таком паршивом положении, но жить ему осталось мало.
Все это Янек узнал от Ержи – тюремного переводчика и надзирателя, очень расположенного к Янеку.
Ержи был венгром по отцу и немцем по материнской линии. Но он не одобрял поведения германских солдат, их жестокости. И поражение Гитлера на фронте Ержи объяснял политикой фашистов, восстановивших против себя все народы.
Ержи продолжал работать переводчиком гестапо и тюремным надзирателем, оправдывая себя тем, что он не может обречь семью на голод. А это случится, если он откажется служить.
Русский партизан Нестор и летчик Николай были удивительными людьми. Таких Ержи не встречал. Когда Нестор поправился и стал ходить, его начали вызывать на допросы. Нестор возвращался избитый, но не унывал. «Все равно, Ержи, наша возьмет, – говорил он. – И твои фашисты ничего от меня не узнают, даже если они все жилы вытянут. Так и скажи им, Ержи, слышишь?»
Он был безрассудным парнем, этот русский партизан, но Ержи не был безрассудным и ничего не говорил истязателям Нестора, хотя по долгу службы должен был передать его слова. Ержи ничего не говорил, потому что Нестор все больше и больше нравился ему, и в ночные часы, когда можно было не опасаться начальства, Ержи заходил в одиночку русского и говорил с ним о его Родине, о России. Нестор уверял, что русские обязательно побьют Гитлера, хотя, может статься, сам Нестор и не доживет до победы. А когда Ержи спросил, почему Нестор так уверен в победе русских, парень даже удивился такому наивному вопросу.
– Потому, – ответил он, – что на нашей стороне правда, Ержи, а правда всегда побеждает. И еще потому, Ержи, что мы воюем не только за себя, а за счастье всех людей на земле, вот какое дело. Теперь вы понимаете, почему я пришел в вашу Словакию и не жалел жизни…
Ержи только головой качал: это не укладывалось в его сознании.
Тогда Нестор рассказал ему о какой-то чудесной книге, будто найденной на груди расстрелянного немцами юноши и ставшей чем-то вроде священной реликвии партизанского отряда. В этой простреленной книге были замечательные слова, которые, правда, были вырваны разрывной пулей, но Нестор помнил их наизусть:
– Самое, дорогое у человека – это жизнь…
Ержи согласно закивал головой. Он тоже считает, что самое ценное у человека – жизнь.
– Она дается ему один раз, – продолжал русский партизан, – и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы…
Ержи слушал и проникался к русскому партизану уважением, смешанным с удивлением и даже опаской. «Кто он такой, этот парень, похожий не то на кузнеца, не то на шахтера из Новаки? Мечтатель? Или, может быть, он немного спятил? Что ж, и это могло быть». Немало страшного повидал на своем веку тюремный надзиратель, особенно в последние месяцы. Эти парни в черных мундирах могли хоть кого свести с ума.
Как раз в сочельник, когда словаки сидели за праздничным ужином, на город налетели русские самолеты и сбросили бомбы на военный городок, где стоял один из батальонов германской армии, и на мастерские, где ремонтировали танки. Должно быть, русским дали знать патриоты, вот они и прилетели. В городе поднялась паника, но когда словаки узнали о бомбежке военного городка, то возвратились к ужину, и было немало выпито в тот «щедрый вечер» за здоровье русских. А потом привезли раненого летчика, который каким-то образом попал в гестапо.
Летчик был очень плох, лежал на тюремной постели и что-то бормотал. Ержи прислушался, но ничего не мог понять. Русский кого-то проклинал, бессвязно говорил о каком-то предательстве и повторял: «У-у, гад!..» Ержи немного знал русский язык, но слово «гад» ему не было известно. Ержи пошел к Нестору и привел того в соседнюю камеру, где находился летчик. Нестора в этот день здорово избили на допросе, у него распухли губы и заплыл глаз, он был весь в синяках и кровоподтеках. Но Нестор сразу забыл о своем несчастье, когда увидел раненого земляка. Ержи принес из кухни чашку чаю, добавил в нее ложку сливовицы, и Нестор поднес чашку к губам раненого.
– На, пей, друг… – сказал Нестор разбитыми губами, и в голосе парня звучала такая нежность, что Ержи не поверил своим ушам. Никогда он не думал, что этот медведь может так говорить.
Летчик приоткрыл глаза, облизал окровавленные губы и хрипло спросил:
– Где я?
– Спи, браток, отдыхай, – сказал Нестор, не желая тревожить раненого. – Все будет хорошо…
Летчик закрыл глаза и как будто заснул.
Утром, часов в восемь, он проснулся и приподнялся на постели. Он был очень слаб и не хотел ни хлеба, ни мяса, предложенных Ержи, но жадно выпил стакан чаю. Ержи опять привел к нему Нестора, и они стали рассказывать друг другу о себе. Летчик назвал себя Николаем, он был стрелком-радистом.
Как-то в эти дни Ян Плинек привез в тюрьму продукты для заключенных и угольные брикеты для кухни. Ержи нравился этот юноша, сын одного из надзирателей тюрьмы, и Ержи рассказал о том, что немцы привезли русского летчика.
Несколько дней узников не трогали, и они заметно окрепли. Летчик не без аппетита ел уже хлеб и полевку. Это был здоровый парень. Такой же здоровый, как и Нестор. И становилось больно при мысли, что таких славных парней замучают фашисты.
Но что мог сделать Янек? Он ломал голову над этим вопросом, но ничего не мог придумать. И именно в один из этих дней, перед своей поездкой в Братиславу с каким-то поручением начальства, отец передал Янеку записку, якобы найденную им в камере русского.
– Прочти, что он здесь расписал, этот русский парень, и сожги ее к дьяволу. Хорошо еще, что она попала в мои руки, а то ему бы несдобровать… – и сердито засопел, что всегда бывало, когда отец был чем-то смущен.
– Ладно, отец, – ответил Плинек, а сердце его так и запрыгало в груди, когда отец протянул ему партизанскую записку. – Сожгу, не беспокойся.
«Дорогие товарищи, – писал Нестор. – В топольчанской тюрьме сидят ваши братья, русские парни Нестор и Николай. Если не вызволите, нам крышка».
Только значительно позже Янек понял, как записка попала в руки отца, но тогда ему было не до того. Записка была адресована товарищам Нестора, видимо партизанам. Но где их искать? Должно быть, и сам Нестор не знал этого или боялся возможности предательства. Но Янеку от этого было не легче. Между тем юноша понимал, что дорог каждый день, и боялся, что слишком поздно передаст письмо по назначению. И вдруг Янек узнает от учителя, дочь которого Янек любил, что в горах, на северо-востоке, появились партизаны. По просьбе Плинека девушка сказала отцу, что хочет погостить пару деньков у тетки в горах. Сопровождать ее вызвался Янек. «С Янеком, – сказал учитель, – я разрешаю, хотя в такое время довольно опасно ездить в гости. Не знаешь, что тебя ждет завтра дома…»
Так Плинек попал в отряд Зорича.
Партизанский велитель прочел записку, и Янек заметил, как побледнело его лицо. Янек немного даже удивился этому: разве мог он знать, как Нестор дорог этому усатому, на вид суровому командиру? Потом он протянул Янеку руку и сильно потряс ее.
– Дякуем, – сказал велитель по-словацки и еще несколько раз повторил: – Дякуем.
Благодарность партизанского велителя глубоко тронула Яна. Именно такими и представлял он себе русских. Потом усатый стал о чем-то тихо совещаться с другими офицерами. Янек догадывался, что речь идет о нем. Возможно, велитель спрашивал, можно ли довериться Янеку. Может быть, он подослан гестаповцами, чтобы устроить партизанам ловушку? Янеку было обидно, что в нем сомневаются, но в то же время он понимал, что иначе они не могут поступить. Янеку очень хотелось как-то убедить этих людей, что он честный парень и стремится помочь русским.
– Пан велитель, – сказал Янек, – я понимаю, что вы мне не доверяете. В самом деле, откуда вам знать, что эту записку действительно написал русский партизан, а я не предатель? Так вот… – он еще более покраснел, так как был еще очень молод и то, что он собирался открыть этим людям, было его юношеской тайной. – Так вот, – повторил он и облизал сразу пересохшие губы. – У меня есть любимая девушка… Она тоже патриотка, и мы вместе сюда пришли. Только она осталась дожидаться меня в крайнем доме, там ее тетка живет, можете проверить. И вот она, если хотите, останется у вас заложницей, пока мы будем выручать ваших парией…
Партизанский велитель пристально смотрел на Янека во время всей его речи и, когда Янек замолчал, опять протянул руку и сказал уже по-русски:
– Спасибо! Ты настоящий патриот.
И сразу исчезли все сомнения, сразу посветлели лица у того, что в зеленой фуражке словацкой пограничной стражи (он оказался, как позже узнал Янек, командиром соседнего партизанского отряда), и у того, кого называли судругом Пражмой, и у светловолосого, который вычерчивал что-то на карте. Опять все возвратились к плану побега и стали горячо обсуждать его то на русском, то на словацком языке. Наконец остановились на том, что с Янеком поедут в Топольчаны двое парней из отряда усатого и разведчик соседнего партизанского отряда, командир которого носил зеленую фуражку пограничной стражи. Этих парней позвали и познакомили с Янеком. Старшим был Данила Грунтовой, вторым партизаном был здоровяк Алоиз Ковач, а разведчик назвал себя просто Дюло.
Выехали в крестьянской телеге, в которую запрягли самых резвых лошадей. Под кожаными тужурками партизан были спрятаны гранаты и пистолеты. Дело пахло порохом и кровью, и Янек впервые почувствовал себя по-настоящему взрослым человеком и бойцом той славной армии, к которой давно уже в мечтах причислил себя.
Они приехали в Топольчаны под вечер, в сумерки. Но было еще рано начинать операцию. Часы на башне показывали шесть тридцать, нужно было дожидаться ужина, после которого лишний народ уходит из тюрьмы, а дежурный надзиратель, подменяющий Ержи, храпит с газетой в руках на жесткой кушетке в канцелярии или режется в «очко» с караульными солдатами.
По пути к тюрьме Янек заехал на топливный склад, где обычно получал брикеты из бурого угля для тюремной кухни, разбудил сторожа и взял немного топлива, оставленного им на этот случай от вчерашней получки. Старик помог Янеку нагрузить телегу, и юноша угостил его сигаретой. Они покурили немного. Янек пожелал старику спокойной ночи и выехал на улицу, за углом которой его дожидались партизаны.
– Порядок? – спросил его партизан, которого называли Данилой Грунтовым.
– Все в порядке, – ответил Янек и, когда партизаны уселись на телегу, погнал лошадей к тюрьме. Но выехал он не к воротам тюрьмы, а в переулок. Янек показал партизанам калитку, через которую собирался вывести Нестора и летчика. Только надо подождать комендантского часа.
Янек остался на возу, а Грунтовой, Алоиз Ковач и Дюло заняли каждый свое место по указанию Янека.