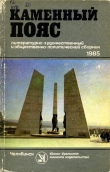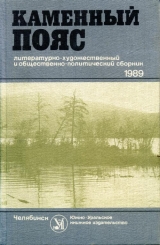
Текст книги "Каменный пояс, 1989"
Автор книги: Борис Попов
Соавторы: Антон Соловьев,Владимир Белоглазкин,Александр Беринцев,Александра Гальбина,Сергей Коночкин,Василий Уланов,Валерий Тряпша,Александр Завалишин,Павел Мартынов,Тамара Дунаева
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
Года два назад он еще ходил в пригородный лес на прогулку. Была у пенсионеров своя тропка, пологая дорожка меж сосен, устланная хвоей; была поляна, там отдыхали на скамейках, а потом дальше, дальше – и выходили на берег водохранилища.
Ни с кем из стариков он не дружил, они раздражали его своей болтливостью, мелкими заботами, их шуток на свой счет не переносил и, бывало, с тоской и жалостью вспоминал Николая Демина. Тот в сорок четвертом все-таки добился отправки на фронт, отвоевал в танке, был трижды ранен, вернулся, но в сорок седьмом году умер в госпитале восстановительной хирургии. Веры не стало через двадцать лет, замуж не выходила, растила троих детей, дети теперь кто где, ни один в Челябинске не остался.
…Два года не ходил в далекие прогулки, но вот сорвался, вышел из автобуса на краю леса, трава и деревья были побелены утренним инеем, воздух пахнул и морозом и травой. Как и ожидал, встретил приятелей, старика Фасхутдинова и Лебедюка, оба работали начальниками цехов еще с войны, только Лебедюк после инфаркта дорабатывал в отделе кадров. Оба знали о предполагаемом событии и шутливо говорили, что не прочь поплясать на свадьбе у Кариева. А правда ли, что соберутся в заводском музее? Правда, ответил Кариев.
И тут Фасхутдинов сказал:
– Так ведь музей-то затопило! – Как-то вредно сказал, будто радуясь.
– Ох ты! – искренно огорчился Кариев. Он беспокоился за экспонаты, за здание, теперь на ремонт потратят тысячи, а старикашка Фасхутдинов понял по-своему, хохотнул и стал подзадоривать:
– А за что, скажите, такая честь? Ты что, герой труда, заслуги особые?
– Не мне о том говорить, – сдержанно ответил Кариев, и Лебедюк поддержал: верно, верно! Но вредный старикашка не унимался:
– Ну, а что ты такое сделал? Что?
Как что? А новый сборочный цех в войну, а технология контроля, которую организовал Кариев и благодаря которой военная продукция шла без брака? Небось тоже помнишь: снаряды наши – из каждой партии в тысячу штук отстреливали только шестнадцать и ни на одну больше! А когда завод переходил на мирную продукцию, кто убедил начальство строить дорожные машины?
Приятели собирались прошагать до водохранилища, но Кариев внезапно устал и повернул обратно.
– Ладно тебе, ладно, – успокаивал Лебедюк, – не слушай брехуна.
Брехун и есть. Боже ты мой, старые люди, а все те же зависть, интрижки, никчемное соперничество!..
Однако домой он вернулся успокоенным, вздорное, что наговорил старый приятель, казалось смешным и только, а воздух освежил силы; надо, пожалуй, возобновить прогулки по лесу. Он сидел на мягкой старой тахте, оплывал приятной дремотой, и тут черт дернул его поглядеть и прибрать туфли: зайдет кто посторонний – это что за обнова, себе купили, зачем? – надо будет объяснять, помянуть предстоящее событие, которое уже тяготило и чем-то пугало Кариева.
Туфли он не нашел. Искал в шкафу и под шкафом, в прихожей потрогал всю обувь, искал на кухне, в ванной – нет нигде! Стала искать жена, она в таких случаях не спешит, не суетится, а задумывается и медленно одну за другой перебирает вещи. Но и жена не нашла… Он представил плутоватую мордаху одного из штукатуров, которые ладили потолок, – такой болтливый, сующий во все нос: а тут что, тоже шкаф, а тут встроенный? И Кариев пошел – стыдно было, а пошел в домоуправление, чтобы найти штукатура и спросить, не видел ли он случайно туфли? Но по дороге вспомнил отчетливо, как после штукатуров он взял с полу туфли, стирал с них пятна извести, а потом положил… Но если положил, то куда же они исчезли?
Он вернулся домой и лег, томясь в сущности глупым беспокойством: ведь надо было только переждать день-другой, а там нечаянно вспомнится. Мастура, стараясь по привычке не волновать мужа, говорила:
– Ну их, туфли! Пусть наши беды пропадут вместе с ними.
– Дело не в том, – бормотал он и злился. – Это, это… Что-то тут было оскорбительное, будто кто нарочно хотел помешать его свадьбе.
В суматошливом трении неспокойных мыслей подогревалась одна догадка, гадкая по смыслу, но ведь и не беспричинная: туфли мог взять Эдик. В свое время Кариев отдал ему новые брюки, дарил всякой мелочью, ненужной самому, и тот брал весело, как должное, а брюки продал: дескать, маловаты оказались. Ничуть не маловаты, а выпить стервецу надо! Так… спокойней. Тот бойковатый штукатур, он ведь приходил еще и потом, что-то вроде доделывал и инструмент свой забыл. В конце концов не жалко штиблет, но как оставить пропажу без последствий? В таких случаях заявляют в милицию, это обыкновенно, в порядке вещей. Но стыдно же будет, если рабочий не виноват. Нет, нет! – говорил он себе, думая уже не о том, что будет стыдно, а… допустим – допустим, – что милиция обнаружит пропажу у Эдика. Прослышит старик Фасхутдинов, пойдет молва, худые-то вести не лежат на месте!
Эдик человек простоватый, искренний, ему можно прямо сказать: ты? Зачем же берешь без спросу? – А я, папа… – Ну, ладно, ладно! – И на этом конец.
Однако появление сына сразу смутило Кариева: принес, бедолага, рябины в кулечке и так трогательно преподносил маме, и так он промерз, тянул руки к батарее… жалко смотреть! Говорить как будто не о чем, а молчать Кариев не мог. И завел разговор – помаленьку, полегоньку – о том, что у стариков бывают вещи, которыми они дорожат очень, ну, какой-нибудь пустяк, портсигар или старая самопишущая ручка.
– Конечно, папа, – соглашался Эдик, – лишить старого человека памятной вещи – плохо.
Однако недавно купленные туфли не старый портсигар, не подсвечник, пожелтевший от времени. Туфли никак не назовешь памятной вещью. И тут, вовсе потерявшись, он вдруг спросил:
– Ты почему не носишь брюки, которые я тебе отдал? Ну, те, без кармашка для часов?
– А, те! Да ведь я их надеваю в театр.
Лжец. Сам же признавался, продал, дескать, маловаты.
Но с каким видом лжет!
– Ладно, – сказал Кариев, превозмогая брезгливое чувство. И предложил издевательски: – Небось согреться хочешь, так матушка нальет… из бутыли.
– Я не замерз, – кротко улыбнулся Эдик. – Но разве попробовать…
Кариев отвернулся и ничего не ответил. Он, он, негодяй! Больше с ним никаких разговоров, и с женой тоже – ни одного слова. История выяснилась, тоже некое утешение: происшедшее относится только к ним, только к их дому и в огласку не пойдет. Ну, а если бы… Тогда и золотой свадьбы не жди? И не жди добрых слов? И – одна только глупая история может умалить дело, которому он отдал лучшую пору своей жизни? Что за чушь!
А и сын пакостник. С тобой, милый, я мучаюсь тридцать лет. Если бы ты был толковый и прилежный, то поступил бы в свое время в институт!
Сын закончил школу в пятьдесят пятом, мог бы и раньше, но сидел два года в седьмом. Или в восьмом? Нет, в седьмом. А конкурсы в пятьдесят пятом были жуткие. Они с женой в июле поехали в Крым, он хотел вознаградить и жену и себя за многие годы трудов, ребят оставили на попечение бабушки, да и сами ребята были уже не маленькие. Он попросил знакомого преподавателя порадеть за Эдика, тот собирался сдавать на строительный, а знакомый возьми и присоветуй на факультет приборостроения – современно, престижно, – а тот, конечно, недобрал баллов. Кинулся опять на строительный, а поздно. И пошел в техническое училище, год учился, на второй уже работал, деньги получал. Кариев, однако, не радовался: рановато, избалуется мальчишка, ему ведь учиться надо! Компании, узкие, срамные брючки, паралитические дергания, называемые танцами, вольные разговоры, сокрушающие отцов… за что? За то, что для них добыли хорошую жизнь, победили в войне непостижимой ценой? Охолонись, братец, подумай спокойно, как жить будешь. Куда там, у него любовь! И не что-нибудь мальчишеское, а прямо роковое, безудержное, сумасшедшее, и девушка не робкая первокурсница, а диктор телевидения, красотка старше его, избалованная мужским вниманием.
Кариев умел в нужный момент показать твердость характера, умел так сказать, что не оспоришь. Дикторша была не глупа, вняла строгим и спокойным увещеваньям, погнала от себя мальчишку. Тот сразу скис, куда что подевалось, плакал – характер мягкий, размазня! – ну, вот пусть родители тобой руководят, ежели сам не способен.
А была на примете у Кариева милая, скромная девушка, дочь его товарища, до войны вместе работали, потом он исчез в те окаянные годы, так и не увиделись больше. Семья товарища жила по соседству. Кариев помогал ей чем мог: то домишко старый подлатает, то картошку ихнюю с поля привезет… А девочку он любил особенной любовью, быть может, уже тогда представлял, как было бы славно, если б его сын и Дилара поженились в свой срок. Девушка училась в пединституте, но семье жилось трудно, и она устроилась сторожем в детский садик, садик был заводской, взяли по его протекции… Молодые люди стали дружить, и, когда сын заикнулся о свадьбе, Кариев тут же и согласился.
Сейчас он вспоминал о внуках, прелестных мальчиках, он плакал, когда Дилара увозила их в Нижний Тагил, в первое время ездили с женой, возили, подарки, помогали деньгами. Теперь уже мальчики большие, старший женился, а Дилара так и не вышла замуж и по-прежнему считает стариков родными. Все эти годы он надеялся, что у сына и невестки жизнь как-то сладится, сойдутся вместе, думал о том и сейчас, однако… смешно было так думать.
Вошла жена, и он по ее виноватому виду понял, что сказала сыну о пропаже.
– Ты сказала ему?
– Да. Но так, между прочим. У него своих забот хватает.
– Зачем? – Он поморщился, ровно от боли.
– Послушай, – сказала она мягко, даже улыбаясь над ним. – Неужели ты мог так подумать?
– Как? Да, боже мой, я никак не думаю. И мне наплевать… это ты зачем-то купила глупые штиблеты.
А ведь не он украл, подумал Кариев. Если он, жена бы почувствовала. Ей можно верить, она знает, что могут и чего не могут сделать ее дети. Однако и он… разве он подумал на сына? Нет, он только прикинул, что если заявить в милицию, а милиция выяснит, что рабочий не крал, может выйти целая история. Но какая история, если Эдик не мог этого сделать? Все смешалось в голове…
– Мату, – сказал он жалобно, – что, если я позвоню Нине и скажу, пусть оставит свою затею? Одна только нервотрепка.
– Как знаешь, – ответила жена. – Подумай, а завтра позвонишь.
Но он не позвонил ни завтра, ни послезавтра. Жаль было терять это чувство – неутихающего ожидания. Однако терялось, и все меньше верилось, и вместо волнующих, как праздник, забот пришли заботы мелкие, подозрительные и обидные.
Вот жена Малика пришла с мальчиком своим. Нурика записали в музыкальную школу, по классу баяна.
– Почему не фортепьяно? – спросил Кариев.
– А ему подавай баян! Да и нам не накладно будет, не пианино, а баян покупать.
– Ну, верно, – согласился Кариев, и у него чуть не сорвалось с языка: «Так чего же вы хотите?»
Конечно, хотели.
– Теперь будем деньги на баян копить, – весело говорила невестка. – У других на такой случай имеется сберегательная книжка, а у нас, можно сказать, ее нет.
У вас нет, подумал Кариев, а у нас с бабушкой есть. И баян придется покупать нам, что за разговор. Но зачем такие неуклюжие намеки? Мать ушла, оставив мальчика, а мальчик тут же и спросил:
– Так вы, дедушка, купите мне баян?
Он молча погладил внука по головке и подтолкнул к двери: ступай к бабушке. Зазвонил телефон, и Кариев посеменил в комнату, сорвал трубку. Спрашивали какого-то Уварина. Пробежка к телефону враз утомила Кариева, он медленно прошагал к дивану и сел, машинально взял со столика свои старые часы. Тоже и с часами волновался: ах, не успеют починить, до свадьбы то есть.
Собственно, зачем он ждет этой свадьбы? Зачем? Ну да, ведь там скажут, какие у него заслуги перед заводом, перед людьми. А не надо ждать оценки, не надо! И не надо ждать благодарности от детей. В этом есть как бы умаление своих трудов, точнее сомнение в их значительности. А прекрасно дело, которое ты совершаешь не помня о себе. Пожалуй, такое бывает только в молодости с ее расточительной щедростью – так он думал. И думал о том, что в его жизни была такая замечательная пора.
В сорок третьем году его командировали в Ташкент, тамошний завод тоже делал снаряды. Его и начальника ОТК. Они к тому времени хорошо отладили технологию контроля, модернизировали приборы, а недостающие сделали сами. Благодаря хорошей контрольной службе работали почти без брака: на испытаниях отстреливали шестнадцать снарядов на каждую тысячу (позже отстреливали шестнадцать уже на пять тысяч!). Но вот в Ташкенте, говорили, снаряды на испытаниях ложатся более кучно, чем у них. Кариев и поехал.
Продвигались через Балхаш. В Новосибирске пересадка. Вокзал, как в Чикаго, столпотворение! Люди по неделям ждут, когда закомпостируют билеты… Так ли это было, но сейчас, с другого конца сорокалетнего расстояния, казалось так: увидев людское злосчастье, Кариев и ехавший с ним начальник ОТК словно забыли, что им, работникам номерного завода, полагается черед короче. Они взялись разгружать багажные вагоны, чтобы получить талоны на компостер. Однако талонов им не дали, и они пошли к железнодорожному начальству предъявлять свои документы. Какая-то женщина, исхудавшая и чуть истая от своей беды, притершись к ним, шла и приговаривала одно и то же, как заклинание:
– Может быть, у вас окажется лишний талон, может быть, у вас… лишний талон!
Неужели они сумели выпросить для женщины лишний талон? Невероятно! Но лишний талон оказался в руках у Кариева, и он отдал его женщине. Она же стала протягивать ему полбуханки хлеба и глядела на него с мольбой на исхудавшем, прозрачном лице. Не могла же она умолять, чтобы он взял у нее хлеб!
На шестые сутки с начала пути приехали на завод, их повезли на испытательный полигон. И, вправду, снаряды здесь ложились покучней, чем у них, и сперва это обстоятельство очень озадачило Кариева. Но потом сообразил: они-то отстреливают в горах и дальность берут небольшую, три километра. А мы стреляем на открытой местности, с дальним прицелом! Отлегло от сердца… Походили по цехам. Лакировка деталей у них похуже, чем у нас. Рассказал о станках с вращающимися роликами, о том, что при лакировке деталей пользуются пульверизатором, что обходятся без сушильных камер, потому что под стеллажами установили нагревательные батареи. Директор завода помечтал вслух: «Вот бы нам такого технолога!» – и вдруг предложил билет на московскую оперетту. Представляли «Баядеру»…
На обратном пути он купил рису, целый чемодан, а в багаж чемодан не берут, таскал его на пересадках и мучился, и все время чувствовал какую-то виноватость. Прошло, когда, вернувшись домой, отсыпал из чемодана Деминым, и эвакуированной учительнице Ратнер, и Фасхутдинову, теперешнему вредному старикашке.
Не надо ждать оценки, не надо!
8Ему казалось, что сыновья немного хитрят, приходя будто бы для того, чтобы прибрать в квартире, купить молока и хлеба. Как будто скрывают настоящую цель. Или чувствуют себя в чем-то виноватыми. И он не только не разубеждал их, а хотел вроде усилить в них это чувство вины. Он капризничал, нудил по пустякам и – стыдно сказать! – притворялся очень больным, хотя и чувствовал себя не так уж плохо. И особенно донимал он своим занудством младшего.
Вот явился, хлыщеватый, в кожаной своей куртке, с неразлучным фотоаппаратом через плечо, задорный, с веселым шумом. Нынче его очередь мыть полы.
– Недавно мыли, – проворчал Кариев. – Зачем лишнюю сырость разводить?
– Папа, лучше меня никто не сумеет. Ух, сколько же я перемыл в армии! И никогда не жаловался.
Кариев еще поварчивал, как остывающая сковорода, а сын тем часом переоделся в трикотажный костюмчик, налил в таз воды и пошел, пошел наваживать тряпкой и под диваном, и под кроватями, и коврики поднял, чтобы стереть слегшуюся пыль. Вот подобрался к широкому креслу, на котором сидел отец, и стал перед ним, улыбаясь закрасневшим лицом, слизывая с верхней губы капли пота. Кариев поднялся и, обходя таз с водой, протянул руку и мягко потрепал сына по шее.
– Ну, папа!..
Что «папа»? Мне хочется помять и потискать тебя, мальчишка.
Потом чай пили втроем, и мальчишка сидел такой свежий, с молодым румяным лицом, с влажным кудрявым витком над стрельчатой чуткой бровью, а он, Кариев, какой-то замороченный от своих противоречивых чувств – то нежных и слезных, то суховатых, даже злых – и все к нему, к сыну, которого он все еще любил как мальчугана, в то время как к старшим отношение было давно уже чужоватое и спокойно-доброжелательное. Поговорили о том, о сем, Амир опять мимоходом покаялся, что никак не соберется сфотографировать родителей, а потом собрался и ушел. И когда он, одетый в кожанку, с аппаратом через плечо, стал, готовый шагнуть за порог, Кариев едва не сказал ему что-то обидное. Он и не знал, что именно, а сказать очень хотелось.
Однако, лежа в постели, о чем-то сожалел, о чем-то, может быть, давнем… Мальчику было десять, когда Кариев – отчего только помутился у него рассудок, ведь он был уже немолодой, – а увлекся инженершей из вычислительного центра. Молодая была, своенравная, дикая – во всем противоположность кроткой, вянущей жене.
Тяжелая то была одурь, сердце то молодело, а то сжималось, как в предсмертной тоске, он был далек от всего домашнего, но именно поэтому хлопотал и ошибался: сынишка собирался в пятый класс – он взял да и перевел его в другую школу, в математическую. А не надо было, в прежней он учился неплохо, привык к учителям, к своему классу, особых способностей к математике у него не было. И в новой школе сразу начались неприятности: стал хуже успевать, не ладились отношения с учителями, сложно дома – он ведь чувствовал состояние матери, видел странное поведение отца.
В конце концов мать опять вернула его в прежнюю школу, не сказав Кариеву, а он, когда узнал, накричал на жену, как только может кричать виноватый человек. Жена, однако, проявила твердость, но что-то уже было испорчено, сын учился все хуже, чуть что – огрызался, в слезы. Кариев пытался с ним сблизиться, но безуспешно… Отношения с инженершей тоже шли к своему концу, все рушилось, и из обломков надо было спасать самое необходимое. Уйти из дома он не мог, но и каждый день возвращаться в него было мучительно. Он взял в тягостную привычку ходить по улицам и однажды случайно оказался на старой Ключевской-Ахматовской. Шаг за шагом он медленно узнавал дома, они были почти прежние, только покрыты пылью от шумной дороги и с подоконников исчезли герани, обязательные в прежних окнах, как занавески. За последние тридцать лет ему как-то не случалось видеть герани, не могли же они исчезнуть в природе, но вот исчезли из быта. Бог с ними, с геранями, но дома-то были. А улица все же другая: трамваи, грузовые машины и толпы, толпы людей – и хотя бы один напомнил прежнего жителя Ключевской-Ахматовской.
Он остановил прохожего дядьку, несшего ведро назема (экий дефицит на улице, где прежде в каждом дворе держали скотину!), и спросил, какая же это улица.
– Проскурякова, – ответил дядька.
– Но раньше она была Красного фронта. А еще раньше – Ключевская-Ахматовская, верно?
– Ну да, – прохожий смотрел на него с боязливым любопытством, как будто видел перед собой каторжника после долгого отсутствия.
Кариев махнул рукой и пошагал дальше, не оглядываясь. И вдруг увидел перед собой спину отца. Не просто было в семидесятилетнем старике – отцу должно было быть именно столько – признать портного, но Кариев узнал и, покуда шел за ним десяток шагов, пережил настоящее потрясение. Он не думал, не хотел встретить здесь отца, да ее, этой встречи, и не могло быть, но вот ведь какое-то неясное его желание вызвало на глаза правдоподобнейший облик отца, даже его характерное раскачивание при ходьбе, даже его портняжную сутулость. У Кариева не хватило сил разбираться в происхождении этого наваждения, зато он отчетливо почувствовал, как же хочется ему поскорей домой.
Он не испытывал никакого раскаяния перед отцом, который в сущности бросил его, забыл о нем навсегда. Но он-то почему забыл отца? Да потому что отец бросил его! Ну да, но все-таки почему же он всегда отгонял саму мысль об отце, едва такая мысль приближалась, ведь неизвестно, что сулила ему встреча с отцом? Может быть, он познал бы замечательное чувство, что все, все позабылось, кроме одного, – это единственный родной человек, который знает о нем больше, чем кто-нибудь другой, и благодаря которому он, собственно, и есть на этом свете – такой и никакой иначе!
– Сынок, сынок, – бормотал Кариев. Так, наверное, бормотал бы его отец.
И с этого момента вся его любовь к сыну собралась в одну горячую покаянную страсть, и для сына она была удивительна, не нужна и, пожалуй, неприятна. Отношения со временем наладились, но резковатые, с нотками виноватости с его стороны и смущением, колючестью со стороны сына. Теперь он не так колюч, все такое прячется за бравадой, снисходительной лаской… их отношения как будто остановились где-то в давнем, а он все как будто ждал, как ждет всякий отец: вот однажды он удивится сыну – и разумен-то он, и строг по-взрослому, и что-то еще, еще!
Но время такое не наступало.