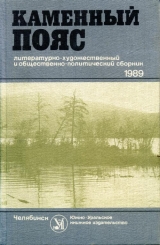
Текст книги "Каменный пояс, 1989"
Автор книги: Борис Попов
Соавторы: Антон Соловьев,Владимир Белоглазкин,Александр Беринцев,Александра Гальбина,Сергей Коночкин,Василий Уланов,Валерий Тряпша,Александр Завалишин,Павел Мартынов,Тамара Дунаева
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)
Анна Зинченко
БОЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Рассказы
Доктор приехалВместо заборов росла густая крапива, а под ноги стелилась трава-мурава.
Сергей, молодой врач «скорой помощи», шел по деревенской улице и удивлялся.
Только что машина «скорой» мчалась с предельной скоростью, прося сигналом, чтобы ей уступали дорогу. Сергей сидел рядом с водителем серьезный, сосредоточенный. До деревни домчались в считанные минуты. Но стоило Сергею перейти через речку по висячему мосту, возле которого остановилась машина, зайти в безлюдную улицу, как на него снизошла благодать. Да, да, именно так. Сколько раз ему встречалось в книгах это слово, а что оно значит – понял только сейчас, впустив эту благодать в самое сердце. Он шел по деревенской улице в белом халате, с белым чемоданчиком в руке.
Улица уже не была безлюдной, вслед ему смотрели встревоженные глаза. Молва о докторе умудрялась опережать его, и из каждого дома выходило по одному-два человека, выползали и старухи с березовыми палками-клюками, шамкали вслед: «Ли че ли, к Анатолью идет? К яму, к кому же ишшо?»
Анатолий Иванович Семянников жил на косогоре, в крайней от всей деревни и ближней к лесу избе. Весной его парализовало. Был он одинок, и за ним ухаживали всей деревней. Но когда пришла пора садить в огороде, гонять скот на пастбище, а потом начались ягоды, грибы, то Анатолий Иванович стал деревне немного в тягость. Упросили толстуху Фаину ухаживать за стариком, и та, выпросив, что изба после его смерти достанется ей, согласилась. Но Фаина была ленива, и усадьба пришла в запущение, Анатолий Иванович не стерпел и выгнал неудачливую сиделку.
К нему заходили все реже и реже. Сердобольнее всех оказалась Дуська-на-протезе, она притаскивалась к нему каждый вечер, приносила старику сваренное ею хлебово, но старик есть ее стряпню брезговал. Дуське-на-протезе был, однако, рад и досадовал, когда приспевала ей пора уходить.
– Че там в деревне про меня-то говорят? – спрашивал он все еще непослушным толстым языком.
– А! – махала Дуська. Ей за долгую неприютную жизнь доставалось от людской молвы, и она ограждала сейчас от нее старика Семянникова.
А говорили о нем вот как: ну что же, зажился на этом свете Анатолий-то, чем так мучиться и других мучить, уж лучше на тот свет отправиться. Кладбище-то всех упокоит, не в один час, а все там будем…
Дуська знала цену жизни. С тех пор, как ей оттяпали ногу и вставили протез, все ее силы шли на то, чтобы никому ни в чем не уступить. Начинался сенокос, и литовку первой точила Евдокия, хотя у нее и коровенки-то сроду не было. Поспевала в поле клубника – снова Евдокия всех опережала, бабы еще потягиваются, а она уж варенья наварила. И было ей непонятно и жалко, когда умирали люди. И Семянникова она жалела: тоже мытарь, в войну израненный, бабой своей битый. Сейчас, после ее смерти, только бы и пожить-то ему в спокое, так надо же было притче случиться – обезножил вот…
Евдокия тоже узнала о приезде доктора и поковыляла вслед за всеми на косогор.
Сергей, перешагнув порог избы, тут же отрешился от мирских радостей и снова стал тем сосредоточенным серьезным молодым человеком, каким его знали сослуживцы. К больному он поспел вовремя. Вторичного инсульта, к счастью, не было, старика истомила жара, которая калила зноем, словно наверстывала за все дождливое лето. Уколы, массаж да и само присутствие Сергея успокоили старика.
Около часа хлопотал доктор в избе Семянникова, а возле нее за это время собралась вся деревня. Даже Маланья Степановна, слепая и глухая старуха, была тут. И теперь все снова жалели Семянникова и не хотели, чтобы он умирал.
Сергей вышел на крыльцо, и (странное с ним происходило в этой деревне) снова хлынули в него все запахи и звуки мирной жизни: и стрекот кузнечиков, и запах конопли с огородов, и визг ребятишек на речке. Ах, какая благодать! И он не сдержался, потянулся всем телом, высоко подняв белый чемоданчик. На солнце сверкнул красный крест.
– Хорошо! – громко сказал Сергей. Заулыбались старики и старухи, какая-то бабка с деревянной ногой вскарабкалась на высокое крыльцо, а Маланья Степановна все кивала и кивала головой, затянутой в теплую клетчатую шаль.
Бой местного значенияШитиков шибко огневался, когда фамилию его не назвали. Был в клубе праздник, и день был святой – 9 Мая, фронтовикам давали премию по 20 рублей, а Шитикова в списках не оказалось. В запале ярости он вскочил на сцену и, чуть не хватая за грудки бригадира, потребовал, чтобы ему показали бумагу.
И тут из первых рядов раздался ровный негромкий голос:
– Хватит уж блажить-то, Шитиков. Сколь уж лет блажишь, а ведь все знают, какой ты фронтовик.
Шитиков одним скачком долетел до Перфильича и оскалился на него металлическими зубами:
– Это хто тут еще голос подает? Ты, калека? Ну, и какой же я фронтовик?!
Так же ровно и спокойно Перфильич ответил:
– А такой. На военном заводе ворота открывал и закрывал заключенным, вот и весь твой фронт. А давеча-то че ты пионерам заливал? Бегу, мол, с автоматом в атаку, «уря, уря», а немецкий летчик меня сверху свинцом поливает. Аха. Один ты на поле боя, и только тебя тот летчик и увидал! Да подь ты от меня в дыру!
Неожиданная концовка деда всех рассмешила, мужики радостно заржали, они никогда не любили Шитикова, у него и кличка была «Капитан», хоть сроду никаких чинов за ним не водилось.
Еле переждав смех, Шитиков спросил:
– А тебе че, калека, колхозных денег стало жалко?
– Жалко, аха. И совесть твою жалко было бы, да у тебя ее нет давно.
Мужики снова захохотали, довольные, и мало кто слышал, как Шитиков, нагнувшись к Перфильичу, пригрозил:
– Я тебе, калека, костыли-то скоро обломаю!
Поздним вечером, веселый и благодушный, возвращался Перфильич из гостей домой. Из огородов пахло землей, вспаханной тракторами. «Торопятся все нынче, – бормотал Перфильич, – ишо сорок заморозков, поди, впереди, а мы уж – сажать надо!»
Но и ему одному из первых вспахали огород, фронтовиков в колхозе чтили. Перфильич ни наград, ни почестей, ни привилегий за войну не хотел получать. Он даже вспоминать ее не любил. При отступлении в болотах отморозил ноги, всю жизнь они у него мерзли, и летом валенки носил, а теперь и вовсе мертветь стали. Районный доктор намекнул на ампутацию, на протезы, но старик ему сказал: «Сколь пробегаю еще на своих, столь и ладно. А чурки деревянные вместо ног мне уж ни к чему».
И не то, чтобы старик серчал на войну за то, что обезножила его, люди вон головы положили. И не то обидно, что был бы хоть какой-нибудь решающий тот бой, переломного значения, нет, так; бои местного значения шли, как сообщали сводки, а за такие бои и наград-то не давали. Плохое это дело война, паскудное, чтобы за нее еще и привилегии брать, так считал старик и потому шибко не любил Шитикова. «Ловко я его отбрил седни, давно уж надо бы», – радовался дед.
И тут его сбили с ног. Вышибли костыли, Перфильич упал, его пнули несколько раз, но не сильно и не больно, вроде как для формы, и умчались в темь улицы.
– Испортить, гад, решил все же праздник! Сам-от не решился, мальцов нанял, – ворчал Перфильич, пока искал костыли, унимал дрожь в ногах, подставляя под них подпорки. Но – странное дело! – ни обиды, ни досады Перфильич в себе не учуял, дух его по-прежнему ликовал, как весь день.
Он добрался до дому, выпил распаренных в термосе травок, намазал ноги мазью «эфкамон» и улегся в постель. И показалось старому, что он только что снова вышел с поля боя. Не с того, после которого они попали в ледяное болото, за что он всю жизнь корил себя, будто был главнокомандующим, а не простым солдатом. А с того поля боя, где он бежал во весь рост и крошил врага. За Родину! Ура!
Дед еще маленько поворочался в постели, все искал ногам пристанища и, уже почти засыпая, сладко зевнул: «Славно я седни повоевал!»
Под парсонь– Ну что же, будем знакомиться. Нам ведь предстоит прожить вместе 24 дня. Меня зовут Вениамином. А вас? Дмитрий? Дима, значит, вы мне в сыновья годитесь. Лучше Митя? Совсем хорошо, люблю это имя, у меня на фронте был дружок, тоже Митей звали. Молодой я для фронтовика, говоришь? А я ушел в шестнадцать лет на войну, парень был крепкий, деревенский, ну и прибавил себе пару годиков.
Что ж, для знакомства полагается выпить, я коньячку прихватил из дома. Не пьешь? Даже рюмочку коньячку? Да ты что, Митя, одну-то?! Ну, как хочешь. А я выпью, да и погуляем, приглядимся к местному населению женского пола. Ох, охоч я до них! Я ведь и на фронт уже мужиком ушел! Девки ко мне сами льнули, не смотри, что рыжий. Однажды чуть жениться не заставили силком – отец с дрыном бегал за мной. А деваха была хороша! Мне как раз под парсонь – под стать, значит, и ростом, и силой, и тоже маленько срыжа, коса толстая, вот досюда. Уходил на фронт – сколько слез-то было! Ты не возражаешь, если я еще рюмочку пропущу? Ох, хорошо прошла! Ну вот, а на фронте, куда я спустя два года после училища попал, меня в первых же боях ранило, да еще как! Весь низ разворотило. На перевязках стыдоба было – девахи же все молоденькие. Я уж таблетки сонные начал копить… И тут старшая медсестра Клавдия, Клава… Влюбилась она в меня. Не поверишь – на руках в перевязочную носила, от меня, правда, тогда только скелет и остался.
Рослая, сильная, красивая была баба, а лет ей уж за тридцать. Умру, говорит, Венька, с тобой в постели, а из тебя мужика снова сделаю! Нельзя допустить, говорит, чтобы война над твоей молодостью так насмехалась. Ну, я еще выпью… И сделала… Зажили мы с ней как муж и жена, ни от кого не прячась. И знаешь, Митя, весь госпиталь нашу любовь эту как бы благословил, как-то все берегли ее, уж не знаю или из-за нее, или из-за меня… Потом она меня из госпиталя к себе забрала. А я, понимаешь ты, домой надумал уехать. Стал меня ее возраст смущать, да и мужем становиться, хомут на шею одевать, не хотелось мил-соколику. Ну и уехал…
Приехал домой. Молодой, фронтовик, да еще с орденом – и закружили опять мою башку девки-бабы. Всласть я с ними, Митя, пожил. Потом уж, вдолге, женился, два сына у меня, а внуков – так и не счесть. Сыновья-то, вишь, в меня пошли, уж не по первому разу женатые, и в каждой семье – дети… Я их привечаю всех одинаково – как лето, кто-нибудь гостит. В лес их вожу, я грибник отчаянный, их всех привадил. С женой живем всяко, ревнивой она так до старости и осталась, да и есть с чего ревновать-то…
Но вот ведь как дело-то вышло… Ты только не подумай, что это во мне коньяк плачет-горюет. Дело-то, Митя, в том, что любил я только одну-единственную женщину во всю мою распрекрасно-сладкую жизнь… Вот эту самую Клавдию. Да… И сейчас люблю. А ведь ее, поди, и в живых-то уж нет, раз ей тогда уж было за тридцать, да сорок лет прошло, где уж поди и живой-то быть… Только я об этом и думать не хочу, не желаю! Жива она, в сердце моем жива! Видно, одна она под парсонь-то мне была. Вот ведь как все вышло… Вот тебе и девки-бабы… Да ты-то что загрустил, Митя? Твое дело молодое, иди погуляй до ужина. А мне одному посидеть хочется… Ступай, Митя, ступай…
МоникаДождь все сеял и сеял, дорогу развезло, и автобус доходил только до центральной усадьбы. Звать кого-нибудь с собой было бесполезно, а чтобы одному выбраться из дома, надо было найти заделье. Времени, однако, у Григория Васильевича было мало. Он снова вытащил из кармана брезентового плаща смятую газету, разгладил на столе и прочитал вслух:
«Только 15 дней. С 15 по 30 сентября в райцентре пройдут гастроли Московского зооцирка. В зооцирке заняты животные со всех частей света: львы, тигры, пумы, пантеры, большая группа медведей, обезьяны, а также сипы белоголовые, гриф, пятнистый олень, лама, гривистые бараны, слониха Моника весом более пяти тонн и другие животные. Зооцирк расположен возле завода и работает с 10 до 20 часов. Администрация».
Газетку он таскал в кармане давно, но, пока не выкопали картошку, о поездке в город нечего было и заикаться. Григорий Васильевич знал наперед, что услышит от старухи: «Сам ты старая облизьяна, чево тебе на них смотреть?! Облизьяна ты и есть, облизьяна». За сорок совместных лет прозвищ у него от супружницы накопилось немало, но это больше других ранило Григория Васильевича, усохшего и скрюченного к старости.
Потом, после картошки, надо было починить сараюху, а потом зарядила непогодь. И вот уже остался день до закрытия зооцирка, а он все еще не выбрался посмотреть слониху.
Никто так не интересовал Григория Васильевича, как эта самая Моника. Какие-то сипы белоголовые, лешак их знает, птицы это или звери, конечно, любопытно будет узнать. Или вот еще гривистые бараны, это чем же они от наших отличаются дураков, которые шишки репья собирают в свою шерсть со всей округи?
Так рассуждал Григорий Васильевич уже по дороге на центральную усадьбу, куда он, так и не найдя умного заделья, попросту сбежал из дома. Ноги разъезжались в грязи, край брезентухи больно бил по голяшкам, но Григорий Васильевич шел и думал о слонихе весом более пяти тонн.
Григорий Васильевич был по натуре философом, а горячая печка-лежанка сильно располагала его к размышлениям в зимние деревенские вечера. В последнее время его смущала мысль о том, куда девается сила, энергия и вообще куда исчезает жизнь? «Вот ветер залез в трубу и гудит, как голова с похмелья, – думал Григорий Васильевич, ворочаясь от жара с боку на бок. – А на воле он вон как силен, ветки ломает, как давеча дуреломом по березняку-то прошел, наделал делов. А куда же сейчас улетела сила? Смирненький в трубе-то сидит, только подвывает. Или взять его, Григория Васильевича. Был рослым, прямым, сильным, телегу из любой колеи выворачивал. Что же сталось с его сильным телом, что скрючило и скорежило его? Куда все ушло, куда исчезло? В нем было так много силы, он чувствовал ее даже в старости и слышал, как она уходит, его сила, но куда и к кому, в какой такой сосуд переливается?»
Григорий Васильевич заглядывал в учебники внука и знал некоторые законы физики, да и мужики в их деревне были не дураки, умели о жизни поразмышлять.
И, думая однажды о себе, Григорий Васильевич пришел к мысли о слонах. Вот какой гигант, силушку-то чуть не век копит, а потом все-таки тоже умирает, а куда же девается его могучесть? В никуда? А это что такое?
Старик постеснялся поговорить об этом со студентом, который квартировал у них осенью, и зимой шибко жалел об этом. Летом наплыли дела, и мысли были хлопотливые, суетные. Но когда в газете Григорий Васильевич прочитал о Монике, он понял, что никогда не простит себе, если не увидит ее. Там, возле нее, он найдет ответ на мучившую его мысль.
В городе, прежде чем пойти в зооцирк, Григорий Васильевич навестил своего приятеля, такого же старого и усохшего, как он. Старый приятель посмеялся над ним: «И не лень из-за чепухи грязь хлебать! Потом зайди все же, расскажи, что там и как…»
Моника разочаровала, даже обидела Григория Васильевича: старая, морщинистая, она даже не могла разжевать кочерыжку капусты, которую ей бросили дети. Она стояла безучастная, маленькие тусклые глазки затягивались пленкой. Только один раз оживилась слониха, когда к вагончику, где она стояла, подошли двое пьяных парней. Глаза ее заблестели, хобот напрягся, уши зашевелились. «Сердится», – уважительно подумал Григорий Васильевич, который не терпел пьяных и сам выпивал только по большим праздникам. «Па-а-прашу отойти от слона», – строго приказал парням служитель, прибежавший на шум. Моральная устойчивость слонихи порадовала Григория Васильевича, но ее старое тело вызывало неприязнь. «И ты тоже дряхлеешь», – с сожалением сказал он, уходя от Моники в поисках гривистых баранов.
После зооцирка ему захотелось домой. Он не стал заходить к приятелю и объяснять, что и как. Он не знал этого и сам, что уж другим объяснишь?
За окном автобуса мелькали знакомые перелески, родные сердцу даже в эту пасмурную стынь. А вот тут-то и осенило старика: да вот в нее, в землю-матушку, на которой они все живут, и уходит сила и людей, и зверей. Люди и звери умирают, а землюшка цветет и цветет, и будет цвести, когда не будет на ней ни Григория Васильевича, ни Моники, а силу их она передаст другим людям и зверям. И так было, и так будет.
Вечером Григория Васильевича уже не жгли мысли, он не ворочался с боку на бок, спал тихо, без стонов. А утром выяснил, что рассерженная его бегством бабка не вытопила накануне печку. Ему, старому дураку, в наказание.
Дашка-соловейСвадьба уже шла на убыль, когда ввалилась Дарья, как всегда, незвана-непрошена. Она направилась прямо к молодым, и, куда денешься, пришлось поднести ей стаканчик. Дарья выпила, закуски не взяла, требовательно смотрела на жениха. Он налил снова. Старуха выпила водку, взяла с блюда раздерганный кусок жареного гуся да и сама угнездилась на свободной лавке. Она подсунула под себя снятый ватник, спустила на плечи клетчатый платок. Лицо ее сразу запылало, глаза зорко обшаривали гостей.
Посредине избы топтались под магнитофон приезжие студентки, подружки невесты. Они уже утомились от свадьбы, но надо было ждать до утра, до первого автобуса. К ним так и сяк прилаживался парень, одетый модно, по-городскому, но с лицом обожженным деревенским солнцем. Попасть в такт вихлянию девиц от так и не сумел и, чуть смущенный, пошел к гармонисту. Тот уже дремал, но и во сне помнил, зачем зван на свадьбу, и, как только парень задел его плечо, тут же, с закрытыми глазами, растянул меха. Пляска у парня тоже не клеилась, выкидывать коленца он не умел, идти вприсядку было неохота. Он сел рядом с гармонистом и запел: «Степь да степь кругом, путь далек лежит…» Голос у парня несильный, но приятный, и к песне стали подлаживаться голоса других гостей, но тут парень перехватил взгляд одной студентки и переменил репертуар: «Малиновки заслышав голосок, припомнил я забытое свиданье…» Хор про малиновку петь, однако, не захотел.
И тут задрожали окна избы. Весь дом пронзил лихой, разбойничий свист. «Ой, что это?!» – испуганно вскрикнула студентка. «Да не обращай внимания, – сказала мать невесты, которая как раз ставила на стол электрический самовар, – это Дашка-соловей. Придет без зову да еще гостей пугает. Попало маленько за воротник-то, дак сейчас ее и не выгонишь. Вы танцуйте, танцуйте, девочки, а то вот чайку попьем».
Но студентка оказалась любопытной. Она оставила подружек и подошла к Дарье. Старуха, заложив пальцы в рот, продолжала оглушительно свистеть. Лицо ее напряглось, вздулись вены на висках, но свист был хоть и громкий, но какой-то удивительно свежий, чистый.
Наконец Дарья умолкла..
– Ба-а-бушка, как это вы так?!
Дарья подмигнула студентке: «Заинтересовалась? Ну-ка, налей бабке, она тебе еще посвищет, раз интересуешься».
И опять багровело ее лицо, косились бабы, мать невесты махала на нее платком, а свист перелетал через улицу, огороды и затихал где-то в заречных лугах. Студентка не сводила с бабки удивленно-восторженных глаз, а та видела это и еще пуще старалась. Выдохлась, замолчала, долго обтирала красное лицо. Отдышавшись, обратилась к девушке:
– Ты меня давеча бабушкой назвала. Не, меня так не зовут. В деревне мне кличка есть: Дашка-соловей. Звали когда-то и соловушкой, и Дашенькой, да забыли. Люди многое забывают.
– Почему, бабушка?
– Да говорю тебе, не зови меня так. Не умею я это слушать. Бабкой Дарьей зови. Почему забыли, говоришь? Много помнить – жизнь тяжелей будет.
И вдруг бабка Дарья помолодела, даже как-то похорошела лицом:
– А ведь я однажды свистом-то этим деревню спасла. Рассказывать, интересуешься?
– Очень, баба Даша, расскажите.
– Девчонкой я еще была. Когда свистеть-то стала, не помню. Видно, так с этим и родилась… Колчак тогда еще был, в соседнем селе стоял, а наших парней да мужиков заставлял себе служить. Ну, они уходили в леса, прятались. Наши же леса-то рядом. Домой когда спать приходили, когда в бане помыться. Как-то в субботу начали топить бани, а меня на тополину высокую, у родника, на околице и посадили. Гляди, говорят, Дашутка, и как отряд на дороге увидишь – свистни громче. Скоро вижу: пыль поднялась облаком на дороге, скачут, лешаки! Я и засвистела, с тополины кинулась, чуть не убилась, все бани успела обежать, да свистеть-то не переставала, как наказывали. Те-то приехали, а в банях одне бабы да стар и млад плещутся. Я после того свист-от сорвала, долго голосом мучилась. Бабы тогда меня все задабривали: «Дашутка, да соловушка ты наша…» На свадьбы, на крестины звали, в красный угол садили. Забыли… Сейчас вот бабка Дарья сама является, без спросу. Все на людях-то веселее. Городские завсегда моим свистом интересуются, как это, мол? Вот как ты давеча спросила. Ниче объяснить не могу, пальцы в рот, а вы слушайте. Так, видно, со свистом и помру.
– А вы с кем живете?
– А вот со свистом-то, – старуха громко засмеялась, видно, шутка самой по душе пришлась. – Ты поди думаешь, просвистела бабка жизнь. А ты айда в мою избу, погляди, у меня вся стена грамотами обклеена, как у вас в городе обоями. В один только уголочек не хватило, дак я старые облигации прилепила, на них тоже пороблено было… А вот счастье-то свое бабье, может, и просвистела. До войны больно разборчивая была, а после войны и выбирать-то не из кого стало… Меня раньше на свадьбы часто звали, как на представление, ну, знаешь, в клубе счас часто концерты задают, а тогда и клубов-то не было. Я приду, сижу тихонько, пью маленько, берегу себя, часа своего жду. Про меня забудут, а тут хозяин знак подаст: давай, мол. Тут уж я всю свадьбу пересвищу, хоть пойте, хоть на баяне играйте. Все меня слушают… Ну дак што, пора и честь знать. Спасибо, хозяева, за хлеб, за соль…
Она поклонилась молодым, забрала свой ватник и, грузно ступая по половицам, вышла.
Свадьба угомонилась. Крепким, нетревожным сном спал баянист. В летней пристройке шушукались студентки. Фыркал под рукомойником парень, освободившись, наконец, от городской одежки. Луна встала над домом, над речкой, над заречными лугами. Тихо было на белом свете. Только на околице, у заброшенного родничка со старыми тополинами, одиноко посвистывала Дашка-соловей.








