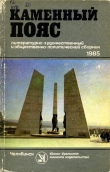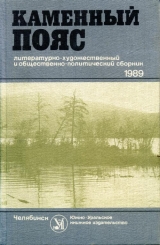
Текст книги "Каменный пояс, 1989"
Автор книги: Борис Попов
Соавторы: Антон Соловьев,Владимир Белоглазкин,Александр Беринцев,Александра Гальбина,Сергей Коночкин,Василий Уланов,Валерий Тряпша,Александр Завалишин,Павел Мартынов,Тамара Дунаева
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 19 страниц)
Владимир Белоглазкин
МУЖСКОЙ ПРАЗДНИК
Рассказ
Июль. Окно в спальне открыто. Утренний ветерок то царапнет по щекам прохладой с Волги, то погладит нежной пушистой лапкой, теплом с полей. День будет жарким.
Валера проснулся рано. Бабушка выгнала овец в стадо и стучала за стенкой ухватами. Валера услышал, как она осторожно открыла дверь и подошла к кровати.
– Внуче-ок, пора вставать, – раздался ее негромкий певучий голос.
Завтракали они маканцами и парным молоком.
– Ты уж до вечера-то не бегай, – говорила бабушка, – пораньше приходи. Нам с тобой сегодня дрова попилить надо. А то уедешь, кто мне тогда поможет.
– Ага, – сказал, жуя, Валера. – Я только искупнусь и обратно.
– Дров-то немного. Сегодня да завтра, осилим, чай.
– Чай, осилим, – согласился Валера, и они засмеялись.
Июльское солнце стояло высоко над Новой Слободой, когда Валера пришел на пруд. По дороге он заскочил к колхозному клубу, месту сбора всей компании, потом пошли в заброшенные сады, посаженные на склонах оплывших холмов еще в царские времена. Купаться полагалось до посинения, а так как вода в пруду была теплой, возвращался Валера домой в сумерках.
Подходя к воротам, он услышал звук пилы и с досадой поморщился: совсем забыл про обещание. Осторожно открыл калитку и заглянул во двор.
Бабушка пилила дрова. Большая двуручная пила извивалась у нее в руках, взвизгивала, застревала в пропиле, но бабушка упрямо выдергивала ее и продолжала работу. На Валеру она не взглянула. Он постоял, нерешительно подошел и попытался поймать вторую ручку пилы. Бабушка остановилась.
– Явился? – сказала она резко. – Иди, ешь.
Она снова дернула пилу, и снова Валера попытался ухватиться за ручку.
– Иди в дом, – сказала бабушка, – без тебя справлюсь, помощничек.
Валера слонялся по комнатам. Обижался на бабушку: чего она сразу, лучше бы спросила его, где был, и узнала, что он сегодня перенырял всех деревенских и как был горд собой. Злился на себя, за то, что обещал и не выполнил, значит, виноват, а виноватым признать себя очень не хотелось. Самое лучшее, чувствовал Валера, это попросить прощения, но вредное самолюбие не пускало, отталкивало от двери. Валера слушал визг пилы, маялся и упрямо повторял: «А я докажу, все равно, вот увидишь».
Сумерки над Новой Слободой загустели, воздух потяжелел. На центральной улице зазвенели голоса, ребятня собиралась у клуба. Валера вышел во двор, неловко потоптался у калитки.
– Я в кино пойду?
– Ступай.
В кино Валера не пошел, забрался на холм, к самым полям и долго сидел на краешке межи, разглядывая сверху деревню. Зажглись и вскоре погасли окна. Валера задами прокрался к бабушкиному дому, прислушался – тихо – и осторожно открыл калитку. Темнота во дворе казалась гуще, чем на улице, и Валера некоторое время стоял не двигаясь, привыкал.
Недопиленный сушняк темной кучей лежал посредине двора. Ступая осторожно, словно под ногами была не земля, а скрипучие половицы, Валера прошел вдоль ворот к сараю, где хранилась пила, и потянулся за ключом. Обычно он висел на гвозде рядом с дверью. Бабушка не убирала его, считая, что лезть к ней некому – свои все люди, и незачем – ничего особо ценного в сарае не было.
Валера нащупал гвоздь, и настроение у него разом упало. Ключа на гвозде не было.
Задача его осложнялась. Если на этот раз бабушка унесла ключ в дом, то она наверняка повесила его в сенях. Предстояло пройти по высокому, с перильцем крыльцу мимо бабушкиного окна и попытаться открыть дверь в сени (эту дверь бабушка тоже не всегда запирала, чтобы Валера, приходя домой поздно, не будил ее).
По крыльцу Валера пробирался на четвереньках и только у двери встал на ноги и надавил на дверь плечом. Немного ему надо было времени, чтобы убедиться, что и эта дверь закрыта на внутренний засов.
Валера стоял на крыльце и смотрел поверх забора на холмы – там едва заметно высвечивалась белесая полоска.
«Может, оттолкнуть засов прутиком? – подумал он и долго ковырял березовой веткой и под дверью, и сбоку, но все было напрасно.
Он покружил вокруг дома, потрогал рамы форточки вдруг удастся влезть через окно, но в конце концов снова пришел во двор и сел на козлы. Ничего он больше придумать не мог.
Но чем безнадежней казалась Валере его затея, тем больше хотелось ему осуществить ее. Он слез с козел и подошел к сараю.
Это был обычный деревенский сарай: четыре столба, поперек них – по два бруска с каждой стороны, и на брусья прибиты горбыли, концами упирающиеся в землю.
«Подкоп!» Валера едва не заплясал от радости.
Он забрался на забор и спрыгнул в картофельную ботву Огород был интересным местом. В одном углу его густо росла поспевавшая черная и красная смородина, в другом были разбросаны огромные, полусъеденные непогодой кости и длинный череп, как говорила бабушка, лошадиный.
Вдоль забора Валера двинулся к сараю. В огороде было прохладнее, чем во дворе, от раздавленной ботвы тянуло сыростью. Земля около стенки оказалась мягкой. Валера опустился на четвереньки и принялся пальцами рыть яму Вначале работа шла споро, но вскоре верхний слой почвы сменила вязкая глина. Пальцы под ногтями заболели. Валера лег на спину и стал протискиваться в сарай, но только и смог сунуть в подкоп руку. Он пошарил наугад, натолкнулся ладонью на что-то металлическое, тяжелое и вытащил наружу ржавую кувалду с треснутой ручкой. За кувалдой последовали капкан, дырявый лапоть, обрывок цепи, серп. Валера извлек из-под сарая кучу интересных, но, к сожалению, бесполезных вещей. Напоследок он кончиками пальцев ухватил что-то плоское и твердое и изо всех сил рванул на себя. В сарае глухо ухнуло, и руку Валере до плеча засыпало чем-то теплым. Из-под сарая вырвалось облако пыли, ударило Валеру в ухо, в глаза. Он вскочил и закашлялся.
Он долго отфыркивался и отплевывался, а вокруг него медленно клубилось призрачное облако. Рухнувший бумажный мешок с цементом наполовину высыпался наружу. В грязных брюках, рубашке, которая из белой стала серой, Валера стоял перед сараем и чуть не плакал.
Так бы, наверное, и ушел он ни с чем, но вовремя вспомнил, что у самой стенки в углу валялась другая пила. Она была ржавая и тупая, в ширину превосходила обычную пилу раза в два, в длину раза в полтора и весила соответственно. Ручки у нее были толстые и кривые, а зубья – с Валерин палец, редкие и длинные. Делать было нечего. Валера расширил подкоп, после недолгих усилий извлек из сарая пилу и потащил ее во двор.
Над Новой Слободой поднялась луна, и во дворе стало светлее. Валера сделал первый рез и тут же понял – начались главные трудности. Березовые и дубовые бревешки, заготовленные с весны, были чрезвычайно твердыми. Пила перескакивала на них с зуба на зуб, а когда Валера, озлившись, дергал сильнее, бревешки вертелись, словно живые, козлы подпрыгивали, и все это вместе так и норовило упасть Валере на ноги. Валера распилил два небольших ствола и понял: всех дров ему не одолеть и за ночь.
Он уволок в дальний конец огорода кувалду, потом, надпилив ствол до середины, понес его туда же. Один конец он положил на деревянный переплет изгороди, другой упер в землю. Треск, похожий на выстрел, разорвал ночной июльский воздух. Дубовый ствол треснул по надпилу.
Валера размахнулся еще раз, промазал, и фонтан земли брызнул ему в лицо. Стиснув зубы, Валера заработал кувалдой. После трех-четырех ударов он выдохся, но ствол сломал.
Дело пошло чуть быстрее. Горка поленьев росла. Светила желто-зеленая луна. В короткие промежутки отдыха на двор наваливалась тишина, такая, что были слышны голоса лягушек на деревенском пруду.
Валера брал ствол, клал его на козлы, делал пропил-другой и, подхватив под мышки заготовки, тащил их в огород. Он уже не осторожничал, считая, что если бабушка к этому времени не проснулась, то все в порядке.
Валера в очередной раз взялся за ручку пилы, и ладонь заломило. Он посмотрел на руки. У оснований пальцев и на ладонях темнели пятна. Мозоли прорвались, и руки жестоко саднило. Валера попробовал пилить, но тотчас опустил инструмент.
Не помогли и листья лопуха, которыми он обмотал руки. Валера покружил по двору в поисках рукавиц или хотя бы тряпки, но ничего подходящего не нашел. Он подошел к хлеву. Льняное полотенце висело там, внутри, на самодельной вешалке, рядом с лестницей на сеновал. Валера повернул вертушку на двери хлева. Из теплой темноты пахнуло сеном. Раздался перестук копытец, и на Валеру глянули четыре пары светящихся ярким голубым огнем глаз.
– Ну, чего вы, – шепотом сказал Валера в темноту, – меня, что ли, не узнали? Тише вы, глупые.
Он вошел в сарай и закрыл за собой дверь.
Голубые огоньки переместились ему за спину, и тут впереди загорелись еще два огня – тоже голубых. Проснулась и заняла боевую позицию коза Стрелка.
Валера остановился. Зная вероломный характер козы, он не хотел с ней ссориться.
– Стрелка, Стрелочка… – Он потянулся, выдернул с сеновала клок сена и протянул козе.
Нет, это был не хлеб с солью. Голубые огоньки погасли. Коза наклонила голову. Валера не успел увернуться, но испуганные его резким движением овцы метнулись, опрокинув корытце с яблочными обрезками. Будь что будет! Валера напролом бросился в угол, за полотенцем.
Шум поднялся неимоверный. Налетая на ведра, спотыкаясь о корытце, метались и блеяли дурными голосами овцы. Коза в общей суматохе без пощады долбила каменным лбом всех подряд: и овец, и Валеру. За перегородкой проснулись куры и раскудахтались на разные голоса. Валера в темноте кое-как нащупал полотенце, добрался до двери и вылетел во двор.
Деревня спала. Бабушкино окно было задернуто занавеской. Валера разорвал полотенце, намочил его в бочке с дождевой водой, замотал руки.
…Ему казалось, что пилит он вечность. Ствол, рез, другой, третий, взмах кувалдой – а куча не уменьшается. Заболели плечи, заныла поясница, и тело зачесалось от пота и грязи…
То, что куча дров все же кончилась, не очень удивило Валеру. Он равнодушно огляделся, утащил козлы в угол двора, затолкал под сарай инструменты. От усталости его покачивало. Мало того, захотелось есть. Раздумывать долго не пришлось. Яблок в огороде, в уголке, рядом с малиной и лошадиным черепом, было навалом. Кислые, маленькие – они брызгали соком и казались такими обжигающе вкусными. Едва доев одно, Валера толкал в рот другое. Он набрал их побольше за пазуху, привалился к плетню и… проснулся от того, что упал на бок, в куст малины. Валера поднялся на ноги.
Все еще была ночь. Дома черно-желтые в лунном свете казались вымершими. Дорога проулком уходила за Новую Слободу в поля и дальше – в глухой таинственный лес.
Валере стало жутковато. Оглядываясь по сторонам, он припустил во двор. Некстати вспомнился вещий Олег, которого цапнула за ногу змея, выползая из такого же вот черепа…
На крылечке Валере стало как-то поспокойнее. Дверь была рядом, можно было стучаться.
Пусть бабушка ругает, что пришел поздно, зато утром, когда она выйдет во двор…
Валера поднял было руку, но вовремя остановился. Сюрприз, похоже, переносился на более близкий срок. Рубашка и брюки – трудно даже сказать каких они были оттенков: от светло-серого «цементного» до угольно-черного.
Ему стало весело. Ползанье перед сараем, кувалда в огороде, череп, овцы – все перемешалось…
Он быстро, с настроением постирал рубашку и брюки в бочке, слегка окатился сам. Теплая вода припахивала тиной. Сон улетучился напрочь. Захотелось сделать что-нибудь этакое. Заорать во весь голос или застучать поленом по воротам. Он сдержал себя, но все-таки, пока сушилась одежда, решил слазить на сарай.
Валера забрался на крышу и встал на ней во весь рост. Новая Слобода сразу стала меньше, выгнулась чашей, ближние дома утонули в хлынувшей к ногам черноте. Лугов не было видно, но хорошо просматривался лес, который охватывал деревню. Был он смешанным – дубы да березы на склонах древних помельчавших оврагов, но далеко-далеко, даже днем едва видимый возвышался над зеленой чашей белым боком глиняный откос, на вершине которого росла гигантская сосна. Редко кто там бывал – такая это глушь. Валера представил: сейчас в той далекой стороне собрались те, кто не может выносить дневного света. Нечисть кружит хоровод вокруг морщинистого звероподобного ствола. Мечутся тени на деревьях, русалка свесилась с ветки и хохочет, путая средь зеленых игл длинные волосы…
Волшебный туман сказок обволакивал Валеру. Тряхнул узкими листиками вяз в переулке, и из-за него тихо вышел ученый кот. Бабушкин дом переступил с ноги на ногу, закряхтел, закружился на месте. Шевельнулись обвитые хмелем плетни, и невесть когда то ли услышанное, то ли прочитанное нашепталось Валере в уши: «И черти пляшут при луне»…
Он поднял голову к звездному небу и счастливо рассмеялся. Он почувствовал Землю – всю от начала и до края, ощутил, как она глыбой повернулась под ним и, набирая ход, все стремительнее закружилась в сверкающем потоке…
Очнулся Валера от гудка. По Волге медленно двигался рой ярких огней – к пристани подходил теплоход. Валера увидел над холмами розовую полоску. Он слез с сарая, надел почти высохшую одежду и пошел домой.
Он не стал стучать – просто забыл это сделать. Постоял немного, улыбаясь чему-то, посмотрел на распиленный сушняк, на ладони и толкнул дверь.
И она отворилась.
Владимир Карпов
ПРИВЫЧНЫЙ ВЫВИХ
Рассказ
Сухого кряжистого старика с морщинистым лицом и длинными белыми волосами Борис узнал сразу – он торговал билетами лотереи «Спринт» в переходе около центральной площади. Сидел неподвижно, как шаман, и монотонно, скрипуче повторял: «Счастливые билеты… За рубль – автомобиль…» Походил на Скупого рыцаря, точнее на старого гримированного актера в роли Скупого рыцаря. Юноша и девушка, присоседившиеся с ним за ресторанным столиком, как скоро выяснилось, оказались его сыном и снохой – миловидная такая окольцованная парочка! Впрочем, Юра, сын, был гораздо привлекательнее жены, если говорить о внешности, – с нежными, правильными чертами лица и не то печальным, не то безразличным ко всему отсутствующим взглядом. Таню, жену его, можно было скорее назвать броской. На улице таких сотни. Хотя вот оказался Боря с ней рядом – защемило дух, словно закусила она его своей этой общей зубастостью.
Борис пришел в ресторан с женой в знак примирения после очередной семейной размолвки. И было им немножко странно: старика лотерейщика они зрительно помнили, а их, актеров областного театра, довольно часто мелькающих на экране местного телевидения, не узнал за ресторанным столиком никто.
Разговорились. Старик сразу задал тон: при всей своей театрально-интеллигентной внешности неожиданно, с блатной даже бравадой, рассказал, как пару дней назад он хорошо поддал – слово это тоже не вязалось с его обликом, – открыл коробку «Спринта» и давай рвать билеты! Дома было четыре коробки – все изорвал! И ничего. Восемьсот рублей в трубу выбросил! Такой азарт в старике тоже трудно было заподозрить. Правда, по его словам, девять продавцов из десяти в городе знали, что в поступающей партии должна прийти машина, ловили выигрышный билет. И вот, подлая жизнь, попался он тому, десятому – только устроившейся новенькой женщине. А та, дура, конечно, упустила из рук…
Называли его молодые «батей». На Танюшке были золотые серьги, кулон, и она похвалялась: «Это все батя мне, батя…» Батя скоро пригласил на танец жену Бориса, привстав, медленно склонив туловище и протянув руку – ну, точно, будто Скупой рыцарь к сундуку! А Борис, пользуясь случаем, потянул на пятачок перед эстрадкой Таню. Та опять принялась хвастаться: «Он нам может и машину купить, если захочу…» Она своими глазами видела батину сберкнижку, на которой двадцать пять тысяч, но у него, наверное, не одна, еще есть. Борис при своем актерском окладе в сто тридцать рублей и прочих небольших приработках был ошарашен: откуда? Неужели такие деньги приносит торговля билетами «Спринт?» И Таня объясняла: если в очередной коробке останется совсем немного билетов, а выигрыша не было – продавец обычно покупает оставшиеся билеты сам. Когда людям выпадает выигрыш, допустим, рублей пятьсот, то лотерейщик предлагает выдать сейчас же наличными, скажем, четыреста семьдесят пять, дескать, больше у него при себе нет. Люди, конечно, соглашаются, подумаешь, четвертак, все равно дармовые деньги, зато никуда ходить не надо… А раньше батя ездил шабашником по селам, потом сам уже не работал, был кем-то вроде маклера у шабашников. Теперь занялся этим делом: если он занялся, значит, навар есть…
Юра же, не в пример жене, все больше молчал и не поднимался из-за стола, ухмылялся только – как это они сейчас научились ухмыляться, расслабленно, притомленно и снисходительно. Лишь изредка что-то ироничное вставлял – опять же как сейчас любят вставить ироничное словцо. Но Борис тоже не лаптем щи хлебал, и с умниками вел себя просто – не обращал внимания. Это для них хуже всего, для умников. Говорил с батей, а когда тот уводил жену Бориса танцевать, исключительно с Танюшкой. Она как-то все ближе делалась, начинала казаться простой, отличной девчонкой! И в театр он ее уже успел пригласить, хоть контрамарку оставит, хоть со служебного входа проведет. И, как бы для того, чтоб к театральному искусству приобщить, телефон мужских гримерных ей дал.
– Дружок мне один рассказывал: пришел он к женщине, – веселил Боря компанию, пытаясь выглядеть свойским парнем, невольно как бы подыгрывая бате. – Приятная из себя, порядочная, квартира двухкомнатная, правда, ребенок. А жена у него… Вот если бы туалет был не в квартире, она бы за ним туда ходила, следила. А тут еще работы у него много, халтуры – некогда гулять, а… охота! Ну, дома он большую предварительную работу провел, блесны какие-то точил – на рыбалку собирался. Версию заранее придумал: мол, рыбы наловил – во! Инспекция накрыла – пришлось отдать, чтобы не засадили. Короче, пришел. Коньячку бутылочку купил, с бормотухой, говорит, думаю, неловко – она начальница какая-то. Гляжу, говорит, она в халатике, на кухню побежала сразу, того-сего приготовить, ага, думаю, нормально. Прошел, сел на диван. А там этот ее ребенок. Лет пять пацану – и давай по нему, и давай! Он аж, говорит, с ним и на четвереньках, и в прискок… В поту весь – со своим сроду столько не играл! Стала она его укладывать – часа полтора сказки ему рассказывала, былины разные… Уснул. Только сели за стол, разлил по рюмочкам – ба-ба-бах! Этот пацан в дверь: «Мамка, – орет, – мамка!» Да так, будто там его режут. Опять ему сказки, прибаутки, я уж, говорит, все ему песни спел, какие знал, и колыбельные, и блатные… Снова сели, только рюмочками дзинь! – ба-ба-бах! «Мамка, – опять орет, – мамка!» И так еще раза три. Где-то уж в двенадцатом сели за стол, оба на цыпочках, полушепотом… Подняли рюмки, он говорит: давай за твоего пацана, активный парень растет. Она: «Ха-ха-ха». Закатилась. Он рюмку-то ко рту подносит, глядит – фигня какая-то! Она, как хохотала, так и осталась с разинутым ртом. И смотрит, говорит так… Остолбенело. Он спрашивает: чего ты? Она в ответ «Ы-ы-ы…» Он понять не может, дурачится иль того… А она опять: «Ы-ы-ы…» И челюсть-то у нее – вперед куда-то выперла. Взяла карандаш, написала: «Привычный вывих». Называется так, привычный. Он у нее уже одиннадцатый раз. Зевнет широко иль расхохочется сильно – и челюсть вылетает. Ну, говорит, думаю… Стали вправлять эту челюсть, тянул ее за зубы, тянул, ничего не получается. Пришлось идти в травмпункт. А как раз чемпионат мира показывали. Иду, говорит, и думаю, сидел бы сейчас дома в кресле, смотрел хоккей или уж на рыбалку правда поехал. Вправили ей там, вернулась. Он наливает, ну, говорит, давай, чтоб дальше без вывихов. Она: «Ха-ха-ха». Опять как хлебало-то разинула, так и застыла! Что ж ты, говорит, думаю, дура, гогочешь-то без конца! А она еще и в рев, с ней чуть ли не истерика! Опять в травмпункт! На этот раз ей все лицо замотали, чтоб не хохотала, одни глаза остались. А он, говорит, вернулся, оглоушил один всю бутылку и лег на раскладушку. Утром, говорит, иду домой: счастливый – жене не изменил…
– В мозгах у вас… вывих, – снова покривился Юра.
Борю задело это «у вас». У него-то, значит, у Юрия вывиха никакого нет! Прочитал, поди, за жизнь полторы книжки, две-три мысли усвоил, а спеси!.. Ладно, ухмыляйся, подумал мстительно Боря, проухмыляешься… Тане он «по секрету» сообщил, что история, какую рассказывал, приключилась вовсе не с каким-то другом, а с ним самим, чем вызвал у юной женщины взрыв хохота и доверия! Соврал, конечно, в обоих случаях: история была собирательной.
Старик оказался самым стойким кавалером: танцевал не только с женой Бориса, но и с молодой снохой, которая с течением вечера становилась все более возбужденной, и в широко раскрытые ее разводы глаз Боре так и хотелось прыгнуть с места без разгона! Но приходилось придерживать коней. Рядом была жена, да и Танюшкин муж, какой ни есть он ухмылистый… Когда оставались за столиком втроем, без бати и Тани, Боря изо всех старался ухаживать за женой, хотя на самом деле пережидал время. А жена, видимо, чувствуя перед безучастным ко всему Юрой неловкость или по-человечески заинтересовавшись им, пыталась его разговорить. Получалось это, если слушать и смотреть со стороны, довольно забавно.
– А вы, наверное, где-то учитесь?
– Нет.
Молчание. Жена понимающе, со страданием в глазах, кивает.
– Работаете? – опять волной надвигался наполненный округлый звук.
– Работаю, – отвечал хлипкий, хлюпающий голос.
Молчание. Кивание.
– А где?
– Здесь.
– В этом ресторане? Кем?
– Сторожем.
Юра рисовался, но не шутил – он был как бы выше этого. Стало понятно Борису, почему официант Игорь, обслуживающий стол, тоже весьма слащавый малый с капризно вздернутой верхней губой, то и дело подходил, склонялся к Юре и Тане, приобнимая их, что-то говорил им…
Как только Таня была за столом, Борю снова схватывал прилив красноречия.
– За троицу! – поднял он тост, вспомнив, как утром старухи в трамвае говорили, что троица сегодня. В данном случае и на Юру немножко постарался «сработать», давно заподозрив, что парня этого, как всякого слабого, замкнутого на себе человека, должно притягивать мистическое, потустороннее. – Сегодня же троица: за отца, сына и святого духа!
И все уже было дружно подняли фужеры – женщины вообще с большей охотой пьют за религиозные праздники, чем за любые другие, включая сюда даже Новый год и собственный день рождения. Звякнуло в чоканье торжественно стекло…
– А ты разве веришь? – тихонько, мягким своим голосом спросил вдруг Юра.
И словно подсек Борю, как легко можно сбить подножкой припрыгивающего человека.
– Да при чем здесь… веришь, нет, – пытался духовито отвечать Боря, но слова уже застревали: отбрыкивался он, а не отвечал. – Праздник – почему нам его не отметить? Может, и зачтется, а?! – искал он поддержки у остальных.
Юра глядел уныло исподлобья – был он все-таки собою не то чтоб уж очень красив, а именно хорош, мил, изнеженно мил, как подумалось Борису.
– Зачем? – опустил он глаза. – Для кого-то это вера, святость. Пусть они заблуждаются, а мы нет… Зачем притворяться? Раз не верим, давайте так и будем пить – молча…
Боря, конечно, мог бы при усилии воли найти резонный ответ. Но не хотелось. Он ведь и сам подумал примерно как Юра, когда Танюшка напротив взметнула ресницами, ах, дескать, неужели сегодня троица!.. Троица иль христов день, все едино – лишь бы праздновать! И взглянул тогда Борис на изнеженного, ломучего с виду юнца, иначе.
Юра не был юнцом. И не только потому, что исполнилось ему уже двадцать два года (выглядел он на восемнадцать). В какой-то момент, когда оставались один на один, Юра вдруг без всякого к тому повода спросил:
– А хочешь, я про твою кое-что скажу? – И продолжительно так, искоса посмотрел.
И Боря даже при желании ничего бы вымолвить не смог: настолько неожиданен был вопрос. Знает он жену, что ли? Видел где-то? С кем-то? Здесь!.. В ресторане!.. Да нет же, нет, не могла она здесь быть ни с кем… Боря уж готов был ему за грудки вцепиться, говори, закричать, говори все, что знаешь!.. Да вовремя сообразил – это же он так, осадить, нервы пощипать, психологический практикум…
– Тебя это волнует? – прищурил пристально глаз Юра. И сам себе ответил: – Волну-ует…
Протянул он это по обыкновению с усмешкой, но не в адрес Бориса, а как бы подытоживал свою какую-то мысль. И умолк в ироничной сосредоточенности.
У Бори совсем отлегло от сердца: он стал понимать дело так, что Юра всего-навсего хотел свою проницательность проявить, назвать какие-то подспудные черты характера его жены…
– А я тоже когда-то хотел актером стать… – еще раз, теперь уже окончательно, вышиб Бориса Юра из себя.
Или наоборот: вернул к себе. Стыдно стало!.. Выходит, все это парень видел, замечал, все его «ужимки и прыжки»; другому оно, может, и простительно, а ему, актеру, носителю духовности, как ни говори, очень уж стыдно.
И потом уже на улице, где они опять же были один на один, вышли «дыхнуть» воздухом, Юра рассказал, как поступал в театральный институт и почти год прожил в столице. Говорил по-прежнему сквозь ухмылку, тоном нарочито бесстрастным и безразличным – горько ли ему, приятно ли, понимают его, нет…
После десятого класса Юра и его лучший друг Игорь – тот самый официант, который обслуживал стол, – поехали в Москву поступать в театральный. Оба всегда считались красавцами, участвовали в самодеятельности, куда им, как не в артисты?
Устроиться в гостиницу не смогли, ночевали на вокзалах: на Казанском, на Ярославском… К ним тогда часто подходили мужчины, приглашали к себе домой, музыку послушать, коньячку выпить… Они с Игорем сначала не понимали, в чем дело, думали, ограбить их хотят, в какую-нибудь преступную группу затянуть… Измучившись совсем, согласились поехать к одному, деликатному такому с виду, толстенькому человеку – решили, может, просто добрые люди им попадаются, готовые бескорыстно им помочь… Посидели, выпили хорошо, легли спать, проснулся ночью, а его кто-то целует… После такого ночами уж ни ногой с вокзала. Мужчин этих научились сразу, по взгляду различать – смотрят, как на женщин. И наоборот – как женщины. Обольстительно. Да и повадки все, слова, какими мужчина женщину завлекает… На экзамены, на творческий конкурс, приходили замызганными, невыспавшимися – поживи-ка неделю на вокзале! Присесть негде, найдут место, притулятся только – милиционер будит, документы проверяет… Провалились, конечно, оба. Хотя был с ними третий, рябой, морда утюгом, поступил! Теперь уже в кино мелькает… А они – нет. Игорек сразу уехал обратно, домой: он и поступал-то больше за компанию, из солидарности с другом. А Юра остался: ему действительно хотелось стать артистом. Он и на гитаре ничего… лабал.
Юру познакомили с женщиной, которая пообещала с ним позаниматься и через год устроить его в театральный. Он поселился у нее – как бы помогать, присматривать за квартирой, когда хозяйка уезжала выгуливать собаку… Было ей сорок семь лет, ему шел восемнадцатый. Правда, она очень следила за собой, выглядела неплохо для своего возраста… Юре, как периферийному мальчику, нравилось, что его женщина вращается в высоких кругах и часто посещает заграницу. Он привязался к ней – она была для него первой…
Рядом вдруг появился распаленный официант Игорь, оценил метнувшимся взглядом обстановку.
– Разговариваете? А я уж думал, вы тут… – он изобразил жестами легкий спарринг руками. Попросил закурить, затянулся и, тут же поняв о чем разговор, совершенно беззастенчиво поведал.
– У нас с ним примерно в одно и то же время одинаковая история вышла. У директрисы вагона-ресторана жил – той уже весь полтинник был, но из себя тоже – еще сядет на диван, закурит, ногу на ногу и халатик так специально откинет! Она по пятнадцать суток работала: пятнадцать в поездке, пятнадцать – дома. Уезжала, мне две сотни оставляла и ключи от квартиры! Сейчас бы, конечно, на фиг она нужна, а в восемнадцать лет: чего не жить, не балдеть?! И вот же, тварь старая: как-то вернулась из поездки, я свое отработал – и через пару дней насморк, который не из носа! Ну же, корова ненасытная!..
Истории действительно были похожи: более интеллектуальная Юрина пассия денег давала ему меньше, но приодела, купила кожаный пиджак, джинсы… И кончилось все тем, что Юра узнал о существовании еще одного, более взрослого любовника у своей молодящейся сожительницы… (Кто она, кем работала, говорить он не захотел.) Был тогда апрель, начинали щебетать весенние птицы и будоражить в потерявшей юной душе тоску по дому. До экзаменов оставалось совсем недолго – творческий конкурс в театральный начинается уже в мае. Юра снял кожаный пиджак, снял фирменные джинсы, облачился в старый костюм, купленный когда-то покойной матерью, и с трешкой в кармане отправился на Казанский вокзал. Дождался нужный поезд, прошел в общий вагон и ехал двое суток на третьей полке, почти не спускаясь вниз, голодом, поджав ноги и прижимаясь хребтом к перегородке.
В армии Юра не служил: они тогда с Игорьком стали немного покалываться, но Игоря все-таки призвали, а Юру отправили в психушку.
Юра окончил курсы официантов и до недавнего времени работал в лучшем ресторане города, потом перешел в этот, куда устроился после армии Игорь. Два месяца назад его за обсчет перевели в сторожа. Какой из Юры «обсчитывальщик», можно судить по тому, что джинсы на нем были самодельные. Официанты самопала не носят! И увольняют не тех, кто обсчитывает, а тех – кто «не умеет работать», пользуясь специальной терминологией, пояснил Игорь.
На Тане он был женат уже около года. Сначала так, приютил ее – она ведь с виду такая веселая, а за жизнь-то натерпелась. Родители у нее слишком много сдавали порожней посуды… Поэтому теперь она такая довольная – ничего хорошего никогда дома не видела, одета всегда была кое-как, а батя ей фирменных тряпок накупил, золотишко… Бориса только удивило, хотя и смолчал о том: почему это батя, коль так он печется о снохе, о сыне-то, видно, не очень заботится?..
Наутро Боря не испытал обычного после бурных вечерушек ощущения нелепости прожитого, постыдности собственного поведения и горячего, несоразмерно откровенного общения, когда в результате хочется соскрести с себя грязь, отмыться делами хорошими, жить чисто. А первое, что пришло ему на ум, заставив с содроганием биться сердце и выкручивая мозги, это Юрина фраза: «А хочешь, я кое-что скажу про твою…» Как же Боря дал такого маху! Не расспросил исподволь, не выведал, когда на улице стояли и говорили по душам! Сначала проделикатничал, не хотел унижаться, оправдывал Юрины слова особенностями его психики, потом из головы вылетело! Занялся, видите ли, ранимой душой… Дундук! Он же, Юра, в театральный поступал, наверняка, и по сей день интересуется театром, по крайней мере жизнью артистов… Слышал что-то, хотя, конечно, какие только слухи про актеров не ходят…