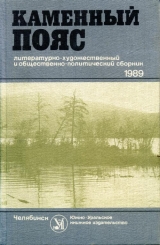
Текст книги "Каменный пояс, 1989"
Автор книги: Борис Попов
Соавторы: Антон Соловьев,Владимир Белоглазкин,Александр Беринцев,Александра Гальбина,Сергей Коночкин,Василий Уланов,Валерий Тряпша,Александр Завалишин,Павел Мартынов,Тамара Дунаева
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 19 страниц)
Колька догнал сбежавшего аж за колхозной птицефермой. Раскрасневшегося. Жаркого. Едва остановил. Придержал осторожно, завернул и повел потом за руку, бессильного, обратно. По пути маленький всхлипывал. Передергивало его с головы до самых до пяток. И Колька успокаивал бедненького, утешал как мог, про себя сперва подсмеиваясь над чудным.
– Не тебя она драть хотела, Леня. Честное слово, не тебя. Так что ты не бойся. Ну, чего ты? Я каким на крыльце тебя увидел, мне так за тебя опасно стало. Кошмар! Ну, чего ты? Перестань слезиться. Ну, вот, честное пионерское, не на тебя это она кричала. Обозналась просто. Что, не веришь? Опять расквасился. Ну, чего ты, глупенький? Хочешь, я тебе рогатку подарю. На два дня только. Ладно, ладно. На три. Ну, не плачь, Леня, слышишь, что ли. Не на тебя это она так…
Мальчонка не слушал. Его неуемно одна мысль одолевала. Он все никак не мог понять, зачем тетя Нина так ругалась на Колю?
– Зачем она… – тер глазенки свидетель. – Зачем? О-о-ой…
– Да не тебя она, – гладил по вздрагивающему плечику старший младшего. – Правда, не тебя. Ох, и хлопот с тобой, соплячонок ты мой, Ленюшка. Ну, хочешь дома опять парусник выстругаем?
Так по грунтовой дороге мальчики, не спеша, приближались к первым деревенским избам. На подходе к ним они оба замолчали и, не подозревая, что призадумались случайно об одном и том же, глядели на разные палисадники, в которых сладко цвели то грациозные георгины, то разноцветные астры в одной клумбе и простые чистые ромашки. А где-то с задворков от навозных куч, окруженных жалящей крапивой, горько тянуло подсохнувшей полынью, на ветерке колыхающейся. Братья неотрывно смотрели и вспоминали, у чьей мамы чего такого больше.
4Старость – не радость. На мягком лбу морщины складками переживаний пересекали проступившие коричневые старческие пятна. По просвечивающейся тонкой коже вокруг впалых глаз медным ободом полосы замкнулись и синели иногда от состраданий. Втянутые в полубеззубый рот сиреневые высохшие губы плотно сжаты. Ничего сердечного с языка не отпускают, чтобы сгоряча не ошибиться. А от ума трезвое слово все не доходит никак пока. Рассудительности и уговорам с ила засверкавшего наверху душевного пруда не всплыть, видно, сразу. А без этого, стало быть, и не помирить этих двоих осатаневших. Но вот мать неуверенно начинает слова срывать с губ отвердевших и пускать их по раскаленному воздуху до детей как есть повзрослевших и рядом скандалящих. Те же, было на момент прислушивались, враз от себя отдунули прохладные осторожности материнские, с ее ума припорхнувшие. Буря споров и упреков сильней и ожесточеннее разгоралась между ними. Растерялась мать. В висок забило. Обида ужалила. Даже не примолкнут как следует, когда было на примирение разумно наставить попыталась. В голове помутилось. Надежда на лучшее споткнулась. Упала. И далеко вниз, в сумеречную мглу, со свистом сорвалась. Сорвалась да сердечком красненьким подхватилась. Кровь откровенностью алой взыграла и до губ зарницей искренней прямословье донесла.
– Дети вы мои, дети. Батюшку своего вы ласковым помните. Да шибко он побаливал. Потому и кормить вас как следует не мог. Так ведь покуда подростками с голодухи мучились – поди-ка ить и пустым наваром груздянки между собой делились. Делились как-никак. Пришла пора – выросли. Опыта, знать-то, набрались. Да, видать, больше с вражьей стороны набрались, к нашему горю. Теперича друг друга и признавать всякий раз не желаете. Лучше позабыть да позабросить, решили, можно, ежели не нужным кто вам из вас покажется. Ну их, значит, хоть и родных. Мол, своя рубашка ближе к телу. Лишь бы самим пожить повольней да побогаче. А ведь жизнь порой разное преподносит.
– Наша жизнь вроде детской рубашки – коротка и загажена, – вставила Нинка.
– Смотря как ее поведешь, да, – перебил ее Сергей. – Рубли не надо по ветру пускать. И плясать на вечеринках реже следует, как и с кобелями миловаться. Тогда под утро и выть не потянет, да.
– Господи! – простонала. – Родные вы брат с сестрой или сведенные? Когда огрызаться-то перестанете? Разве не в один голос у отцовского гроба ревели? Поди-ка, за руки держались вместе ведь. Сами обещались никоторого в беде не оставить. Или уж вовсе свихнулись головы-то ваши от неугомонных страстей молодых? Все еще они у вас кружатся и никак приземлиться не желают да оглядеться опосля толково. А живот что, дороже сердца стал? Господи! Так знайте ж, сдуревшие. Покуда я жива, покуда дышу еще на земле уральской прадедовской – ко мне приходите все какие есть! И никто вас, всех пятерых, от порога не поворотит! А уж за порогом мне решать, как принимать. Кого наставить. Кого на сколько при себе оставить. А кого, не приведи господь, и выставить зачем-либо. И закон такой русский сломать никто не посмеет!..
Успела, хоть и тяжелым шепотом, закончить и на стену навалилась. Так, о стену опираясь, сгорбившись, и удалилась мать в избу, на детей в изнеможении не глядя. Дернулись они следом и приостановились.
5Чуяла долговязая Нинка, что, переступи она порог, – заведет мать с ней распросительную беседу. И она не удержится, раскроется, отчего сегодня сердце камнем лежит, а язык досаду на белый свет выносит. Ну, как не обозлеешь? Напарница на колхозном складе грузчица Лидка Митрофаниха похвасталась, что деверь их навестил. Вдовый. Бездетный. Пообещала с ним сблизить. Однако вчера подвела. Не познакомила. Потому всю эту ночь худая горбоносая Нинка в рассуждениях прометалась. Давно уж так не бессонила. Хотя и мучилась по тем, кого хорошо раньше знала. И не по одному имени знала. Да натерпелась от соблазнителей столько лиха. А они в конце концов за себя брать никто не согласился. Так вот потому этого последнего возможного сожителя ей упустить и не хотелось. Перед сегодняшним рассветом от прихватных уловок и раздутых мечтаний голова Нинкина до того распухла… А Митрофаниха-то и сообщила, что деверь этот ее проклятый знаться с такой, как Нинка, поди-ка ты, опасается. Выдумала ведь. С такой! Понятно, что с такой! Прошлого не изменишь. Да, виновата. Разве что по глупости недосмотрела и в подоле смолоду наследничка домой приперла. Сумела – сразу бы его прикончила. Не стала б на людях лишним грузом позориться. А то нынче этот дармоед карманы-то и опростал. От празднующих компаний ее оттянул. Из-за него что где приглянется – себе не купишь. И с кем доведется – всласть не поспишь. А этот деверь Митрофановский, при расчете на него, взял да тут от нее и отвернулся.
Сергей тоже у крыльца губы дул. Кудрявый чуб его ветерок ерошил. Мускулы под рубахой нервно перекатывались. Прищуренные глаза из-под нахмуренных бровей зеленели в утайку. Широкие ноздри приплюснутого носа, сдерживаясь, сопели надрывно. С Нинки глаз не сводил. К матери пойти боялся. Не сдержится перед ней. Сорвется. И понес на сестру.
– Нинка ты, Нинка. И что ты за баба? Ни гнезда у тебя нет теплого, ни выводка под крылом, да. Поганой мухой с одной грязи на другую гадость и перелетаешь.
– А тебе кто это наболтал, что треплюсь я с кем?
– Да нужна ты кому топтанная. Прошлой скверности за тобой осталось столько, что до сих пор люди носы в сторону воротят.
– По прошлым дням и судите.
– Приличного за тобой еще ничего не замечено.
– Было б для чего показывать. Да и некому.
– Сына, значит, ни за кого не считаешь?
– Мал еще. Толку мало, – фыркнула ответчица.
– Вот как! – взорвался Сергей. – Толку мало! Значит, попозже прояснится, а пока пускай у меня кормится, да?!
– Я же ему приношу, иногда, – попыталась бедовая утихомирить, поскользнувшись на слове.
– При-но-шу, – растянул он брезгливо, нападая. – Коту на блюдечко так приносят! А одеваешь тоже ты?
– Знаешь ведь. Одна я. И так концы с концами свожу еле-еле.
– А я? А мне? – затвердил громче и настойчивее разошедшийся налетчик, пытаясь заглушить в себе то, что мешало ему сейчас нависшие за годы упреки высказать. – Мне хватает? Трактор завожу с запевом петухов. С педали ногу убираю последним. Сколько полей обработал! После работ отдохнуть полагается. Да, отдохнуть! И так отдохнуть, чтоб соседи позавидовали! Чтоб и похвалиться было чем перед ними. И себя показать, и нажитым посверкать! Так чего ради должен я сына чужого содержать в чистоте и порядке? Да, с этим немалые деньги растрачиваются. И никто их обратно мне вернуть не догадается. Да и кому на ум придет рубли дарить? Разве мне одному, идиоту! Пора кончать с этим! Хватит ерунду пороть! Надоело, когда надо мной смеются! Да, смеются! Есть деловые люди. Знают, как жизнь вести. Потому и смеются! И не пяться, да. Забирай свое добро! И не пяться, не пяться.
Он на всякий случай оглянулся – и поперхнулся.
6У ворот стоял Колька, обняв брата своего младшего, которого он сюда привел. Сергей кашлянул. Уреванный Леня уже с него красных глаз не сводил, поразительно изумленный ужасом слов ему ближнего.
– И нечего пальцем мне тыкать. Вижу, да. От своего не отказываются! Каким бы ни был. Сама воспитывай!
Притихший Колька взгляд прятал.
– Парень не маленький. Во многом сам управляется. От труда не уклоняется. Наказы исполняет, да. Вот и забирай!
У двери сеней тяжело задышала вернувшаяся мать-старушка.
– Если попросишь, то помогу, чем смогу, будет на то время. Не пропадете! К нам забегайте, – заторопился разговорившийся Сергей.
Ресницы Ленины блестят. Не трепенутся. Но вот он ткнулся личиком под мышку своего брата. А тот так и замер.
– Одного греха пара – вместе и расплачивайтесь. Давно ли с одной тарелки хлебали.
Остекленевший взор обескровленной матери бил бессловесно. Это мучительно раздражало.
– Вместе и радуйтесь, чему придется. Так что забирай кукушонка и не уклоняйся. Чего засуетилась? Не нагибайся к матери! Ей и без тебя тошно! Стой! Ты чего? Куда драпанула? А сына? Бросила?! По-жа-леешь, да… ну, нет! Будет с меня! Натерпелся! Давай-ка, Николай, за ней следом отправляйся! – решительно махнул рукой истязатель.
Коля, не поднимая головы, исполнительно убрал с себя руку брата. Медленно повернулся и направился сиротой к калитке. Оставленный в оцепенении малыш вдруг отчаянно сверкнул глазами и к нему кинулся.
– Ма-м-ма, ба-б-ба, – заикал он.
Но Коля бережно его отодвинул и заприговаривал в растерянности утешительно:
– Ленечка, вон баба. А вон это, ну, этот, твой папа. А я приду. Честное слово, приду. После. Или ты приходи лучше, ладно? Приходи браток, Ленюшка.
Леня зарыдал. Детский крик «Зачем!» рванул наступившие сумерки.
– Иди, Коля, иди же, – выдворял со двора племянника заколебавшийся дядя.
– Я с тоб-бой, – прижался к старшему брату младший.
– Глупенький. Ну, куда со мной? Маленький. Куда? Я тебя завтра, ну, у плотины там подожду. За малиной с ребятами сбегаем, – нечаянно вздохнул горемыка.
– Уходи! Уходи, говорю! Все! – грохнул по бревну кулаком Сергей. – Хватит. Не могу выносить больше.
Мальчик растерялся – то ли гонит его дядя, то ли обратно к себе зовет.
Приземистый мужик быстро шагнул к вздрогнувшему мальчонке, ухватил его волосатой рукой за плечонко и толкнул.
– Ступай домой, да. Видно, судьба твоя у меня пока расти, да. Да и бог с тобой. Расти не обижайся, – отлегло у хозяина на сердце. Да, сорвался он все-таки, значит. Не сдержался… А оно и лучше. Совесть давить не возьмется. Голос его опустился. – Вон, как ты, Коля, просил, вам мотыля наловил. Там стоит. В баночке. У сруба. Рыбачьте на зарнице у Семеновской горы. Да.
И он, подхватив на ходу пустые ведра, неторопливо вразвалку, вроде как бы напоказ, для последнего чьего-то, если не своего, успокоения зашлепал в калошах к прудовым мосткам за водой для поливки огорода.
А младший братик потащил старшего к бабушке, присевшей на крыльце. Тут Коля и упал лицом ей в передник.
7В груди у старой потихоньку отпускало. Режет еще, но послабже. С каждым вздохом она старалась набирать воздуху побольше. Отдышаться-таки наконец. Цвет лица возвращался к прежнему. Глаза полегчали. И язык, вроде, поворачивается. Вспомнила старая, что ведь на днях сноха из роддома с ребенком сюда вернется. Новые заботы. Бежит времечко – не остановишь. И чего только не наглядишься. А там, где печали, – и радости приведутся. Заворковала старушка над родименькими внучатами, а сама исподволь теперь и сыном любуется.
– Милые вы мои птенчата. Не то вы сегодня получили, что заслужили. Дай вытру на щечках, Ленюшка. А ты, Колюшка, не тяготи себя. Пускай слезки прорвутся, пускай. Чистые слезушки любое горюшко смывают. Хоть немножечко. Так что не задерживай их. Поплачь, родименький, поплачь.
Старушка вздохнула – куда мальчонке к матери идти? Мазанка ее на окраине деревеньки. Крыша дырявая. Голые темные оконца. Посередине узенькой комнатушки – старый стол под материнской скатертью. Вдоль него – два дядиных стула. Не по-мужски прибитая к стене полка с ополоснутой наспех посудой. Железная скрипучая кровать у задымившейся издавна печки. В сенках с земляным полом лишь ведерко с водой стоит. Недавно ту воду и таскал внучонок, изогнувшись от груза. Как со школы прибежит, так сразу в тарелку ее отливает, сахар там разводит и хлебает да хлебом закусывает. Нечего и пожевать больше подчас ему было. Истощал. Высох, как поганка под солнцем. Не снесла. Привела его в этот год раньше летних каникул. Нынче так при себе оставить и намеревалась… И надо, надо оставить!..
Тут она почувствовала сквозь юбку просачивающееся тепло бесшумных Колюшкиных слез. И даже забылась в успокоении. Но как раз замычала в загоне недоеная корова. Звала, звала кормилица оторваться от любых внучат, звала молоком на своих наделиться.
Сергей Коночкин
ДЕРЕВО
Рассказ
– Ох-ох…
Протяжно, с хрипом, с вибрацией каждой маленькой дольки звука в обожженном горле.
– О-о-ох…
Как болит голова… Как гудит… Да и не голова это – пустой барабан.
– О-о-ох…
– Папа, перестань.
И каждый звук со стороны, каждое словцо, не доносящее в таком взвешенном состоянии ни капли смысла, инфранотой гудит и в самой голове, и вокруг нее. Нимб, нимб из этого гула вокруг. Инфранимб…
И к жизни возвращаться не хочется.
– Папа, вставай…
Какая подлость – заставлять.
– Не могу. Сил нет, – и это-то сказано куском мокрой тряпки вместо языка.
– Не надо было так напиваться вчера.
Подростковый максимализм. На грани с жестокостью. Грех ненавидеть детей своих, но в такие минуты начинаешь.
– Мама сказала, чтобы ты встал и принял ванну. И обязательно побрился. Потом сходи в парикмахерскую. Через два часа нам надо выезжать.
Встать сразу не может. Сначала садится. Сильно было бы сказать, что думает. Нет. Просто пытается думать, но дальше одной фразы мысли не движутся, словно заклинило в мозгах тормозные колодки. «Через два часа выезжать. Ка-ак? Через два часа выезжать. Ка-ак?»
– А мать где?
– В магазин пошла.
«Через два часа выезжать. Ка-ак?»
Он встал. Заштормило. Баллов под шесть-семь. Закачались стены в комнате.
– О-о-ох…
– Папа, перестань. Сам виноват, что болеешь.
Нет, она не поймет. Да и как объяснить ребенку, что вчера были выборы. Что к этим выборам он долго и кропотливо готовился. И с сегодняшнего он уже начальник управления. И люди, которые ему помогали стать начальником, ждали от него благодарности. И он вчера устроил им благодарность. Хорошо отблагодарил. Им сейчас, пожалуй, не легче, чем ему.
Дошел до телефона. Стал набирать номер. Спутал цифры. С трудом сосредоточился. Набрал.
– Юра, привет. И не говори… Как, ничего там не осталось? И у меня ничего. Ладно, попробуем выжить. Слушай, – он провел рукой по подбородку и поморщился, как от трижды перекисшей капусты, – ты, случаем, средства для облысения не знаешь? Нет? Да нет. Не от облысения. От – лучше всего гильотина помогает. Мне именно для облысения надо… Да. Жаль… Да так, один нужный товарищ просил… Ну, пока…
Штормить стало, вроде, потише. Он прошел в ванную комнату. Между веками хотелось вставить спички, чтобы лучше видеть. Но при взгляде в зеркало глаза открылись сами.
И сразу захотелось их закрыть. До того захотелось, что про головную боль забыл. С трудом сдержался.
Он еще раз провел по подбородку рукой. Брился вчера в обед. Специально для этого ездил домой, хотелось на собрании выглядеть поаккуратнее. Сейчас щетина напоминает недавно задуманную бороду. Двухнедельной примерно зрелости.
Вставил в бритву свежее лезвие. Трудно. Но осилил. Пальцы словно в клавишах пианино путаются, какую-то мелодию ищут. А мелодия не дается, никак, сумбурная, не дается.
Опять смотрит в зеркало и чувствует: холодным душем льется, льется на голову беспокойство, и струя все сильнее, сильнее. Думает: руки дрожат с похмелья или от этого беспокойства?
Достал помазок, крем. Намылил щеки и подбородок. Мыльная борода бесплатно подкинула мысль.
Может быть, есть смысл бороду отпустить?
Еще студентом он это дело пробовал. Неважное, прямо сказать, зрелище. Есть люди, от природы – как правило, жгуче-черные или в той же степени жгуче-рыжие – волосатые. У таких и борода растет по-человечески, солидно, и даже грудь, что джунгли, вся заросшая. У него же кожа всегда была ровной, с редкой растительностью. И борода получилась дьячковская, редкая и клочкастая, как поле, заросшее сорняками. Может, сейчас получится?
Ведь носил же отец серьезную бороду. Почему же…
Обеспокоенный новой мыслью, он задрал до самого горла футболку, рассмотрел в зеркало грудь. И здесь заметно. Даже очень заметно. И не как раньше, не редкими волосинками, а вьющаяся поросль по всей груди и животу.
Снял футболку совсем, смазав с лица мыльную пену. На плечах тоже появилась растительность. Жесткие короткие завитушки, как тысячи скрюченных пальцев.
Холодный душ беспокойства превратился в душ горячий, будто кто-то переключил вентиль. Или это его бросило из холодного пота в горячий…
Посмотрел на ноги. Та же картина.
Он совсем вытер с лица мыло, бросил футболку в угол и сел на край ванны. Думать не мог. Мысли спутались, как эти волосы на груди.
Звонок во входную дверь ударил короткой дрожью во все тело. Дочь открыла. Пришла жена. Со стуком поставила у двери тяжелую, слышно, сумку.
– Встал?
– Еле подняла.
Единомышленники.
Только жена, в отличие от дочери, еще может что-то понять. Соображает. И не слишком злится.
Заглянула в ванную. Круглым взглядом осмотрела его с ног до головы, долго и пристально – в глаза.
Дочери, обернувшись:
– Иди во двор. Погуляй. Там девочки тебя спрашивали.
– Ура!
Уже через секунду хлопает дверь за дочерью. Выгоняют гулять. Пусть ненадолго, но тем не менее – это как праздник. Это всегда лучше, чем сидеть за учебниками или за книгами, или за виолончелью, которую не любишь, но на которой заставляют играть.
– Ну, что?
– Сама видишь…
Она зашла. Потрогала пальцами – брезгливо и со страхом – эти волосы на груди и на плечах. Пальцем же провела по подбородку, отдернула резко руку – укололась.
– Но ведь такого же не бывает…
– Не бывает, – утвердительно и уверенно, совсем трезво ответил он.
– Побрейся.
– Бесполезно.
– Не ходить же так…
– Подровняю. Буду бороду отпускать.
Она покачала головой, то ли осуждая, то ли соглашаясь, что другого выхода нет.
– Может, все-таки к врачу сходишь?
– Сначала скажи, к какому. К терапевту, к хирургу? К психиатру? – на последнем слове он повысил голос.
– Не бросайся в истерику. Это не омут. К косметологу сходи.
Он болезненно ухмыльнулся.
– Косметолог, как и любой другой врач, занимается тем, что известно. А неизвестными и непонятными вещами занимается только психиатр, который лечит не болезнь, а больного. А я здоров.
– Сходи к матери. Она же все-таки врач.
– Педиатр… Я вышел уже из детского возраста.
– Ну, может, посоветует, к кому обратиться.
– Ладно, заедем сегодня.
Она еще раз покачала головой, а он снова намылил щеки и под взглядом жены, мучаясь от дрожи в руках, подровнял щетину, оформил ее под вид бороды. Внешность сразу стала чуть более аккуратной.
Потом в комнате одевался и смотрел в окно. За стеклом коряво раскинул ветви остролистый клен. Почему-то вдруг он представил себя на этом дереве, представил, как держится одной рукой за толстую ветку и всем телом раскачивается, раскачивается…
Позвали дочь. Завтракали молча. Напряжение и пришедшее вслед за ним раздражение витали в воздухе. Даже дочь была серьезной, словно чувствовала что-то недоброе. Только после завтрака она спросила:
– Папа, почему не побрился?
Спросила строго, как разговаривала с ним утром, когда он не мог подняться с постели.
– Бороду буду отращивать.
– Как у деда?
– Как у деда.
Она видела деда только на фотографии. Да и он сам помнил отца по этим же лишь фотографиям. Мать мало о нем рассказывала. Отец глупо погиб, когда сыну не было еще и года. Полез на дерево прибивать скворечник и сорвался.
Жена собрала в дорогу сумку, поставила перед дверью. Он с неприязнью подумал об этой сумке и поморщился. Даже мысль о том, что придется вынести из подъезда такую тяжесть, бо́льшую, чем могли осилить сейчас его уставшие мышцы, была для него неприятна.
Жена засунула в карман куртки права. Вести машину он был не в состоянии, а когда за руль садилась она, не любил, поэтому поморщился еще раз.
– Надо что-то с воротами в гараже делать. Еле замок открыла. Давила-давила на створку, никак не поддается.
Он молча кивнул.
В выходной день машин на улицах было мало. Жена за рулем успокоилась будто бы или делала вид, что успокоилась, но правила, по крайней мере, ровно.
Его стало клонить в сон. И так он дремал, то пробуждаясь, то засыпая снова, беспокойно, тревожно до тех пор, пока не пришлось уже за городом свернуть на тряский проселок.
Они ехали в недалекую деревню, наполовину покинутую жителями, где неделю назад купили под дачу дом. Купили по совершенной дешевке, уговорив бабку, которая дом продавала, что почти облагодетельствовали ее, заплатив пятьсот рублей. Потом он прикинул, что дом должен стоить не меньше тысячи. Надо лишь немножко его подремонтировать, привести в товарный вид.
Только стоит ли заниматься ремонтом? Вот подправить баньку, да, она натуральная, с запахом, присущим всем деревенским натуральным банькам, – не чета городскому суррогату, называй его хоть сауной, хоть люксом. А дом…
Теперь, став начальником управления, строительного управления, он более-менее приобрел самостоятельность и власть и уж найдет возможность построить здесь себе удобный современный коттедж в пару этажей, с большим камином в зале, с паровым отоплением в других комнатах. Будет дачка всем на заглядение.
Приехали. Жена не смогла отомкнуть тяжелый дверной замок. Пришлось ему. В доме колом стоял устойчивый тяжелый запах нежилья и мышиного помета. И сразу вернулось скверное настроение, развеявшееся было при приятных мыслях о том, как будет выглядеть будущий коттедж.
Он сразу открыл все окна.
У окна, выходящего в огород, – панцирная кровать, оставленная старухой за ненадобностью и еще не выброшенная. Без матраца. Он достал из сумки одеяло, бросил на сетку и улегся. В теле живым посторонним организмом паразитировала одна лишь усталость, вытеснив из него все остальное. Усталость и моральная, и физическая.
Жена занялась уборкой, а он думал заснуть, лежал, перебирая пальцами непривычные волосы на груди.
– Пап, посмотри, что я нашла.
Дочь притащила ему деревяшку. Он – точно – не видел такой, никогда не видел, но откуда-то знал, что это веретено.
– А-а… Веретено… – сказал он и выбросил деревяшку через окно в огород.
– А зачем оно?
– Не знаю.
Он приблизительно представлял себе, зачем нужно веретено, зачем кто-то трудился, вытачивал его, но объяснить дочери это «приблизительно» было лень. Не хотелось даже языком шевелить.
Дочь обиделась. Он понял это, но дрема, пришедшая еще в машине, навалилась на него, навалилась, словно придушила слегка, и он уснул, как в яму провалился.
Проспал несколько часов. Встал такой же тяжелый, каким лег, только вспотевший. Комнату налила духота. Запахи, встретившие их, так и не выветрились.
Дочь рассматривала что-то в огороде. Жена сидела на крыльце, обхватив колени руками и положив на них подбородок. Задумалась.
Он вышел.
– Пап, иди сюда, иди скорее, – позвала дочь, а он вспомнил, что недавно обидел ее, и потому пошел на зов. Лениво, не очень спеша, но пошел.
Дочь склонилась над веретеном. За те несколько часов, что эта деревяшка, отшлифованная до зеркального блеска, до гладкости чьими-то пальцами, пролежала на сырой земле, она проросла. Успела дать корни.
Он зажмурился, помотал головой, не веря себе и дочери. Потом посмотрел на окно, из которого веретено выбросил, посмотрел кругом, нет ли где другого, такого же веретена. Нет. Это было точно то самое. И оно проросло. Это опять было то, чего не может быть.
Из нижней, репообразной части веретена тянулись в землю белые водянистые корни, а острая верхняя часть дала отросток, на котором проклюнулся несмелый листочек.
Он резко повернулся и пошел прочь, точно зная, что хочет сейчас же уехать отсюда. Он чувствовал, что сходит с ума, что сойдет с ума, если не уедет.
– Поехали, – сказал он жене.
– Что?
– Поехали.
– Уже?
– …
– Дай хоть ребенку воздухом подышать.
– Здесь происходит то, чего не может быть, – и посмотрел на нее в упор.
Взгляд ли, слова ли подействовали на нее. Она за минуту собрала сумку. Повесила и закрыла замок, который не могла открыть. Загнала в машину заупрямившуюся дочь.
Он сел за руль.
– Может, еще не надо?
– Все уже.
Он чувствовал усталость во всем теле, но почему-то показалось, что усталость за рулем пройдет, что она пройдет, как только он начнет что-то делать, и вместе с усталостью исчезнет страх. Этот страх, подошедший или, скорее, упавший откуда-то, требовал от него действия. Бегства.
– Домой? – спросила жена.
Он тронулся с места со второй скорости, заставив коробку передач сердито скрипнуть.
– К матери.
Гнал он быстро, поднимая пыль на проселочной дороге, заставляя шипеть под шинами асфальт на шоссе. Через час был уже в городе, у дома матери.
– Останьтесь здесь, – сказал жене и притихшей вдруг, почувствовавшей общее напряжение, дочери.
Мать, к счастью, оказалась дома. Она не пыталась, как обычно, усадить его за чай. Догадалась: что-то произошло.
Он торопливо и сбивчиво начал рассказывать, как было то, чего быть не может. Снял рубашку, показал заросшую грудь и плечи.
Мать провела по плечу ладонью.
– И давно началось?
– С месяц назад. Сначала не так заметно было. Но с каждым днем все сильнее и сильнее, все больше и больше, быстрее и быстрее. Мне уже не хватает двухразового бритья.
– Может, что-то нервное было?
– Ну, нервничал, конечно. Тут эти выборы объявили. У старика тоже своих людей немало было. Кто кого выживет. Бегал, суетился, разговаривал. Конечно, нервничал.
– У отца так же было…
Мать села и опустила руки на колени.
– Как? – не понял он.
– Сначала и у него ни волосинки не росло. Это в тридцать седьмом году началось. Он тогда отделом в райкоме заведовал. Секретарь у них был, очень отца не любил. Отец тогда сильно нервничал. Потом кто-то написал донос, и того секретаря арестовали. А отец стал секретарем. Вот я почему так хорошо запомнила, когда у него началось. Сильно тогда нервничал. Боялся, что подумают о нем как-то не так…
– И долго это длилось?
– До самой смерти. Все десять лет. Под конец он стал волосатым, как обезьяна.
«А хвост у него не рос?» – почему-то вдруг со злой истеричностью захотелось ему спросить и тут же захотелось пощупать себя – не растет ли хвост.
Мать странно посмотрела на него, словно он произнес эти слова вслух. Но сказала другое:
– До самой смерти, до той о с е н и…
– Он осенью разбился… Так какие же осенью скворечники?..
Он вышел от матери с еще большим беспокойством, чем пришел. Перед машиной остановился, чтоб не спеша сесть за руль. Посмотрел на дом, на деревья у подъезда. Выбрал самое большое. Мысленно подобрал на самом верху ветку, которая его выдержит. Такая нашлась. Длинная, пружинистая. Он представил себе, как забирается на дерево, хватается одной рукой за эту ветку и раскачивается, раскачивается, раскачивается…
И еще ему захотелось, чтобы это было на самом деле. И он не спешил открыть дверцу машины, не слышал, как зовет его жена, и не видел, как смотрит сквозь стекло с заднего сиденья дочь.








