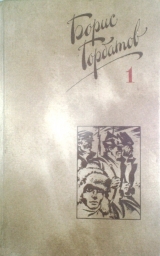
Текст книги "Собрание сочинений в четырех томах. 1 том"
Автор книги: Борис Горбатов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 35 страниц)
И вдруг во внезапно наступившей тишине явственно и злобно раздается:
– Парш-шивый жид...
Все головы мгновенно поворачиваются направо: шипение раздалось оттуда.
– Кто сказал «жид»? – тихо спрашивает Рябинин и плотно наваливается на костыли.
Зал молчит, и в тяжелом молчании раздается одинокий всхлип. Это, стиснув зубы, опускается на место Хайт.
– Кто сказал «жид»? – снова тихо спрашивает Рябинин и багровеет.
– Ковалев сказал, – шепотом проносится по залу. – Ковалев сказал.
Зинаида Николаевна приподнимается с места. Она взволнованна и растерянна.
– Это же... Это же... – бормочет она. – Это же погромщика...
– Есаулов сын, – слышит она сзади чей-то шепот. – Чего же! Офицеров сын!
– Гражданин Ковалев, – отчетливо произносит Рябинин, – будьте добры, покиньте зал!
Рябинин ждет.
Ковалев, побледневший и опустивший голову, не трогается с места. Собрание затихло, – кажется, что оно сбилось в маленькую кучку и потерялось в большом гулком актовом зале.
– Товарищ Ковбыш и товарищ Лукьянов! Будьте добры, – сухо произносит Рябинин, – выведите хулигана и антисемита Ковалева из зала.
Медленно поднимается с места Ковбыш. Идет, расталкивая школьников. Он вытянул голову и наклонил ее вперед, как борец, согнутые в локтях руки держит перед собой. За ним идет улыбающийся Лукьянов.
Ковалев синеет. Он хочет поднять голову и закричать властно, презрительно, по-отцовски: «Хамы! Наз-зад!»
Но Ковбыш приближается. Ковбыш не намерен драться. Он просто возьмет Ковалева за шиворот, как щенка, дрыгающего лапками, и вышвырнет из зала.
И тогда собирает Ковалев последние остатки сил, высоко вскидывает голову. «Все равно один конец». Сам идет навстречу Ковбышу.
– Прочь руки! – кричит он презрительно.
Ковбыш нерешительно опускает руки, пропускает мимо себя Ковалева и идет за ним, конвоируя. Расступаются школьники. Ковалев уже за дверью.
– Голосуется товарищ Сиверцева Юлия! – громко произносит Рябинин и добавляет: – Ученица шестой группы. Секретарь школьной ячейки.
Много дней спустя Воробейчик рассказывал товарищу, как шел с этого собрания:
– Ничего не помню, как шел. Только помню – все тряслось: крыши домов, сучья деревьев, травка в канавках. Тряслись, как будто их хотели немедленно расстрелять.
Воробейчик прибежал тогда домой и первым делом захлопнул ставни. Потом запер дверь. Посмотрел, крепко ли запер. Потом стал метаться по комнате, открывал и закрывал ящики, рылся в книгах и бумагах. Потом сел на пол и заплакал.
Утром он, не позавтракав, уходит из дому. Озираясь, идет по улицам. Он знает, чего он боится: боится встретить Ковалева. Боится услышать шаги сзади. Сосновых досок со ржавыми шляпками боится. Столкнуться с Хрумом боится. Все знакомые ему опасны. И незнакомые тоже. Всех – боится Рувчик.
Он бродит по пустому скверу, где почки набухают на коричневых ветках, где первая зелень высыпает на растоптанных газонах, где братская могила зарубленных бандитами большевиков.
Он идет потом в школу. Занятия еще не начинались. Уборщица моет пол, грязная вода течет по ступенькам. Воробейчик идет через лужу. Он идет неуверенно, еще ни на что не решившись. Вот он уже у двери кабинета заведующего. Вот он уже стучит.
«А вдруг там Ковалев? – мелькает несуразная мысль, и потом – другая, более толковая: – Или вдруг там Хрум?»
Он уже хочет уйти, отскакивает от двери, но она открывается, и выходит Алеша.
– Тебе чего? – сердито спрашивает Алеша. – Чего надо?
– Я имею... имею заявление, – лопочет Воробейчик и машинально идет за Алешей.
Тот входит в соседнюю комнату, где сидят уже члены старостата, и молча указывает Воробейчику на стул.
Воробейчик садится.
На другой день стало известно: Ковалев исключен из школы.
– Опричники! – этим криком встретила Алферова появившегося в классе Алешу.
Алеша застыл на пороге. Увидел: наклонившись над своей партой, Ковалев собирает книжки. Молча пошел на свое место.
Ковалев не говорил ни слова. Он медленно собирал тетрадки и аккуратно складывал их в свой портфель. Он делал это нарочно медленно и спокойно, зная, что за ним наблюдают десятки глаз. Знал: деваться некуда. Хорошо, если еще не посадят. А впереди что?
Он взял брезентовый портфелик и медленно пошел к выходу.
Вот он на улице. Что впереди?
– Бомбами их, бомбами! – закричал он в бессильной ярости.
И, спотыкаясь, побежал по улице.
После уроков Алеша нерешительно топтался в вестибюле. Вчера впервые ходил он провожать Тасю домой. Как-то так вышло: идти им вместе, по дороге. Правда, только два квартала вместе идти, а потом их пути катастрофически расползались. Но тут уж не будешь считаться. И Алеша смело свернул на Тасин путь.
Сегодня он топтался в вестибюле, поджидая Тасю, чтобы идти вместе. Это очень хорошо – идти вместе с бойко постукивающей каблучками белокурой Тасей, по-мужски снисходительно слушать ее неугомонную болтовню, заботливо предупреждать: «Яма!», «Лужа!» – и, прощаясь, крепко жать ей руку. Потом слушать, как хлопает калитка, как сыто ворчит собака, как с ласковой сердитостью кричит ей Тася: «Ну, ты, Маска!» – и, должно быть, треплет собачью мягкую шерстку. Должно быть, треплет: потому что Маска изнеженно повизгивает, почти мурлычет.
Он долго топчется в вестибюле. Тася задержалась зачем-то в классе. Наконец, она выходит. Алеша вспыхивает. Теперь он не знает, как ему подойти к ней. На беду Тася не глядит в его сторону. Вот она торопливо сбегает с лестницы. Еще одна минута – и она будет на улице, затеряется в толпе школьников, и Алеша не услышит, как она ласково разговаривает с Маской.
Он бросается стремглав вперед, сталкивает кого-то по дороге и подбегает к Тасе.
– Давайте я! – запыхавшись, выпаливает он. – Давайте я! Ваши книжки...
Он хочет забрать ее книжки и уже протягивает руку, но Тася испуганно отдергивает их.
– Нет, нет, пожалуйста, – лепечет она, – пожалуйста, пожалуйста! – и прижимает к себе книжки, словно боится, что он их отберет силой.
– Но почему? – удивляется Алеша. – Почему?
Тася останавливается и торопливым шепотом произносит:
– Вы жестокий человек, Алеша. Нет, нет! Пожалуйста, не обижайтесь! Пожалуйста! Я не могу дружить с вами.
Она уходит, испуганно постукивая каблучками, и Алеша, потупившись, смотрит ей вслед.
Потом он невесело усмехается, медленно спускается по ступенькам.
Шумная толпа школьников бушует вокруг него.
Теперь Алеше кажется: враги кругом, одни враги.
«Ладно, – думает он, – ладно! – Высоко подымает голову и идет через толпу. – Ладно! А школу очистим от ковалевщины. Очистим! Очистим! Очистим!»
Он уже на улице.
– Очистим, очистим! – бормочет он и идет, громко стуча по тротуару сапогами.
Но ему тоскливо, очень тоскливо. И досадно. И потом: злость кипит в нем. И еще: обида. А он все-таки высоко задирает голову. Он все-таки идет, остро выпячивая вперед плечи.
«Сунься, враг! – выдвигает он плечо. – Сунься-ка!»
Он прошел уже центр. Окраина. Заводская улица – тихая по вечерам, со скрипучим журавлем посредине, застенчивая улица с черными силуэтами смущенно-голых акаций, с косыми ставнями на слепых окнах.
Легкий ароматный дымок плывет над улицей: поспевают самовары.
Непонятно отчего, неизвестно откуда, вливается в Алешу спокойствие. Становится ленивее и легче шаг. Вольнее дышится. Хочется почему-то смеяться. А потом хочется плакать, но не горькими слезами, а неожиданными и теплыми, как летний слепой дождь в солнечное белое утро.
– Пахнет, пахнет как! – растерянно шепчет Алеша и вдруг с удивлением замечает, что тополя действительно серебряные, а хатки голубые.
«Чепуха!» – удивленно думает он, и ясная, счастливая улыбка, – должно быть, такая, как тогда у Рябинина, – появляется на его губах. А над губами ранний пушок, неуверенный и уже неистребимый! Но Алеша не вспоминает сейчас Рябинина. О Рябинине не думается совсем. И даже о серебряных тополях недолго думает Алеша. Большие невысказанные мысли волнуют теперь его, огромные и невысказанные чувства. Вот охватить все, обнять, потрясти, подбросить на горячих ладонях, переставить с места на место. Делать! Делать! Делать что-то немедленно, сейчас, сию минуту. Скорее, скорее, скорее! Торопиться!
Гнать! Тянуться вверх, так, чтобы кости хрустели. Хрустели, хрустели, ломались кости чтоб! Пусть сломаются, если никчемные, – к черту! Пусть выпрямятся, если годные для дела! Жизнь! Она вся вот: мять руками, как глину, лепить, какую хочешь, на свой лад. Ах, как некогда! Как уходит время! Вот упала звезда. Блеснула – и нет ее. Вот эта минута ушла. Стой – ее не вернешь. Ни за что! Ну как об этом он раньше не думал! Почему раньше не было этих больших мыслей?
Голубые хатки никнут перед Алешей, серебряные тополя братски протягивают ему голые ветви, как руки.
«Давай, брат, пожмем друг другу пять, – говорят они. – Ты теперь, как и мы: большой. Давай, брат!»
СЕДЬМАЯ ГЛАВА
1Большие и малые события происходят на земле. В Поволжье засуха. Под Ямполем разоружена банда в пятьдесят сабель. Италия признала РСФСР. Алешу набрали председателем школьного старостата. В Белокриничной поставили домну на сушку.
Да, наконец, поставили домну на сушку. Всю зиму шла здесь горячая работа. Мастер Абрам Павлович носился легче стрелы и кричал:
– Еще немного, атаманы-молодцы, еще немного, ну-ка! Ну, взя-ли! Ну, ра-зом... Ай да мы!
Он легко взбегал на колошник, ползал по рыжему кожуху печи, щупал заклепки, обводил плохие мелом, писал рядом: «исправить», «зачеканить», «заклепать».
Ветер раздувал его пушистые лихие усы, мастер подкручивал их на ходу или пускал по губе свободной, падающей вниз струей. Внизу качалась земля. Люди копошились на ней. Сверху они казались приплюснутыми, словно распластанными на земле.
– Ай да мы! – кричал мастер. – Что делаем! Ай да мы!
По вечерам, когда на домне чуть стихала работа, он говорил Павлику:
– Ну, а ты иди! Иди бегай! Ты бегать должен. Тебе рабочий день кончился...
Сам он оставался на печи.
Павлик надевал чистую рубаху и отправлялся на окраину, к ветхому домику Баглия.
Смущенно стучал в окошко.
– Кто там? – спрашивал девичий голос.
– Я, – признавался он.
Ему открывали. Он входил. На пороге долго возился, счищая грязь с сапог, потом проходил в комнату. Дядя Баглий был еще на домне. Галя шила; девочки – Оксана и Настенька – возились на полу.
– Уже колошник кончают, – произносил Павлик и садился на табурет возле стола. – Дня через три кончат.
Он выкладывал Гале все заводские новости. По дороге он видел объявление, что в кооператив на днях привезут сельди.
Она слушала его, продолжая работать.
– Правда ли, что вот у нас сейчас день, а в Америке ночь? – спрашивала она вдруг.
– Говорят, правда...
– А что, можно такую машину придумать, чтоб она все сама делала: и стирала, и полы мыла, и белье чинила? Я думаю – нельзя.
– Машину всякую придумать можно, – оживлялся Павлик. – Можно такую машину придумать, чтоб была как человек. Если б я был ученым, я бы придумал. Надо ваять Цилиндр, в нем поставить мотор, чтоб все двигал. Два поршня – руки, два поршня – ноги. В общем, это можно придумать.
Потом он переходил на свою излюбленную тему: дяденька обещал вчера, что как только печь кончат, он поставит Павлика к станку.
– Слово дал...
– Абрам Павлович слову хозяин, я знаю.
– На токаря надо два года учиться. Через два года я стану подручным. Потом токарем. Потом мать сюда выпишу...
Галя молча кивала головой.
Просидев так час, он вставал, брал шапку и говорил:
– Ну, я пойду.
Галя провожала его до калитки.
– У Оксанки жар, – озабоченно говорила она. – Не захворала ли?
Когда Павлик удалялся, она кричала ему вслед:
– Ты заходи, Павлик!
Павлик брел в темноте, шлепая сапогами по грязи.
«Такую машину придумать можно, – рассуждал он. – Вот время будет, возьмусь, сделаю...»
В конце марта печь поставили на сушку. Рабочие ходили вокруг нее и сами удивлялись: как это они могли, голые и голодные, в лютые морозы, без нужных инструментов и материалов, смастерить такую красавицу?
– Что люди могут! – удивленно качал головой дядя Баглий. – Ах, люди!..
Он нежно смотрел на домну, ласково называл ее «наша печурка».
Строителей домны чествовали. В нетопленом клубе состоялось торжественное собрание. Председательствовавший на собрании секретарь партийной ячейки завода Никита Стародубцев дул на зябнущие руки и говорил о героизме слесарей и котельщиков. Павлик внимательно слушал, и ему казалось, что Стародубцев говорит не о дядьке, не о Баглии, не о нем, а о каких-то других, действительно замечательных людях. И он невольно оглядывался: где же они?
Потом прочитали список лучших работников, восстанавливавших печь. С удивлением слушал Павлик, как Стародубцев скороговоркой произнес:
– Гамаюн Павел.
– Абрам Павлович, – поправил кто-то из зала, – его уже читали...
– Нет, – засмеялся Стародубцев, – еще один Гамаюн есть. Павел Гамаюн – нагревальщик заклепок.
Все зааплодировали, а Павлик смутился и покраснел.
И тогда ему вдруг захотелось, чтоб время – назад, и чтоб лютые морозы снова, еще лютей, и чтоб ни крошки хлеба, ничего: ни горячего кипятка в кондукторском чайнике, ни инструментов, ни железа. Голыми коченеющими руками двадцать четыре часа в сутки, – сон к черту, отдых к черту, – голыми коченеющими руками, ногтями царапать раскаленное от холода железо!
«Мы все сможем! Все сможем! – хотел закричать Павлик Никите Стародубцеву, зябко кутающемуся в рыжий полушубок. – Дайте нам еще печь. Пусть разваленная она будет, как хижина на меловой горе. Дайте ее нам! Голыми руками сделаем. В лучшем виде».
Потом Стародубцев объявил, чтобы названные в списке товарищи вышли на сцену, и дядька, взяв Павлика за руку, пошел с ним через зал.
И когда Павлик шел через большой зал бывшего директорского дома, он думал только об одном: как бы спрятать от всех свои рваные сапоги. Попав на сцену, он спрятался за широкую спину мастера.
Через несколько дней после собрания Павлику дали отпуск.
– Поезжай, поезжай, – сказал ему мастер, – а приедешь, мы тебе дело найдем. Ты теперь герой.
Павлик поехал проведать мать и ребят. Полгода не видел он товарищей: какие они стали? Столько воды утекло! Столько соли съедено! Так вместительна была Павликова жизнь в Белокриничной, что ему казалось: другая жизнь была когда-то далеко-далеко...
А потом вдруг начинало кататься, что все это было только вчера. Только вчера он ехал в Белокриничную искать удачи и так же вот висел на подножке переполненного вагона-теплушки, те же тусклые степи бежали мимо, те же дивчата гуляли по перрону, с любопытством поглядывая на пассажиров.
Конечно, и Алеша и Валька сразу узнали Павлика. Конечно, и он их сразу узнал. Алеша был такой, как всегда: худой, черный, резкий. Валька такой же кудрявый и курносый.
И все-таки изменились они. В чем была перемена – Павлик не знал, но видел: стали ребята чуть-чуть другими. А он?
– Работаешь? – ласково спросил Алеша, пожимая ставшую уже шершавой рук у Павлика.
– Работаю, – тихо ответил тот и, заметив любопытство друзей, смущенно добавил: – Вот домну кончили...
Они глядели на него с уважением. Он почувствовал это. Ему захотелось тогда рассказать, как строили печь, как трещали над домной морозы, как потом чествовали всех. Хотел рассказать о дяде Баглии, о мастере, о Никите Стародубцеве и о себе тоже, но не знал, с чего начать, и пробормотал только:
– А я заклепки грел...
Вальке понравилось слово «заклепки». Он решил написать стихи о своем друге Павлике, клепающем домну, и кончить, может быть, так: «Клепай же печь неутомимо, а я слова буду клепать», или иначе как-нибудь в этом духе.
– Ну вот, – протянул Алеша, – а я безработный...
Павлик сочувственно вздохнул.
– Да, – сказал он и откашлялся в руку.
Больше всех говорил Валька. Он вспоминал мелкое, детское, то, чего даже не помнили друзья. Как-то красивее и аккуратнее получалось все в его передаче.
– Да не так это было, – качал головой Алеша.
Он вспоминал: все было проще и грубее. Впрочем, он и сам сомневался: а может быть, и так. Во всяком случае, факт похожий был, а Валька расцветил только немного.
Вечером они пошли на школьный спектакль. Перед спектаклем было собрание. Валька сидел рядом с Павликом и все время смущенно прятал от него лиловый бант на своей толстовке.
Алеша председательствовал серьезно и строго. Он яростно звонил. Он предоставил слово заведующему школой. Он вспоминал о регламенте. Собрание хотя и шумело, но слушалось его. Павлик смотрел на товарища широко раскрытыми глазами.
«Ишь какой он стал», – подумал он с уважением.
– Видишь девочку в голубой блузке? – вдруг шепнул Павлику Валька. – Вон, вон... сейчас около двери идет... Это Алешкина любовь: Тася.
Павлик посмотрел на девочку в голубой блузке. Она приближалась к выходу.
– А это она с моей девушкой сейчас разговаривает, с Мариной, – шепнул Валька. – А у тебя любовь есть, а? – и он толкнул приятеля в бок.
Тот смутился.
– Тоже еще выдумаешь! – пробормотал он, но все-таки невольно вспомнил Галю.
Еще более смутившись, он посмотрел на Тасю и Марину, – девочки были в нарядных блузках, заправленных в коротенькие черные юбочки. У Таси был даже галстук. Марина – в лихой клетчатой кепке.
И опять Павлику вспомнилась босоногая Галя в большой материной кофте. Он искоса посмотрел на Валькин лиловый бант. Бант ему определенно нравился.
Днем Павлик работал по дому: починил дверь, приделал дверные ручки, сколотил табуретку, взялся запаять трещину в кастрюле. Вечером он зашел к ребятам. Обнявшись, они втроем бродили по улицам, тихо пели, разговаривали. Алеша рассказывал Павлику о школе, ему обязательно хотелось поделиться с Павликом своими знаниями. Он стал растолковывать ему закон рычагов.
– У вас на заводе ведь это есть.
Павлик внимательно слушал, удивлялся Алешиной учености и, когда тот кончил, сказал, желая поддержать разговор:
– А у нас не рычагом, у нас напильником... – Увидел удивленный взгляд Алеши, густо покраснел и пробормотал: – Я не знаю... я недавно...
Алеша потащил его в комсомольский клуб. О комсомоле Алеша говорил много.
– Сам я еще не комсомолец, – сознался он, – но скоро буду. Я пока в детской ячейке.
Павлик был и на собрании ячейки. Он всюду ходил за своими друзьями. Он сознавал: они знают больше него. Что он умеет, кроме как нагревать заклепки?
Ребята шумно говорили о будущем: города и страны мелькали в их небрежной беседе. Словно вот в руках у мальчиков земля, и они выбирают себе место на ней. Домик с зелеными ставнями, – где он на этой земле? Павлик сразу вдруг соскучился по работе, по заводу, по дядьке. Отпуск казался ему тяжелой ношей, которую нужно скорее сбросить. Дома он переделал всю работу. Нужно ехать. Как и осенью, ребята провожали его, махали кепками и кричали вдогонку.
Дядька встретил его удивленно и радостно.
– Что рано так? – спросил он племянника и хитро прищурился. – A-а! Наша у тебя порода! Меня не обманешь! – и погрозил ему пальцем.
Утром он торжественно сказал племяннику:
– Ну, пошли! – и важно двинулся вперед.
Павлик шел за ним и гадал: куда теперь поставит его мастер? Может, вторую домну начали ремонтировать? Опять заклепки греть? Но мастер шел молча, его крутой затылок плотно осел на воротник тужурки, голова сидела властно и гордо. Встречные предупредительно раскланивались с ним:
– Наше вам, Абрам Павлович!
А мастер и племянник шли дальше. Вот пришли они к контрольным воротам, вот сторож в брезентовом плаще, вот заводской двор, заваленный хламом. Мастер направляет свои шаги в механический цех. У Павлика екнуло:
«Неужели?»
Они входят в механический цех, идут мимо длинного ряда станков: мастер все такой же молчаливый и важный, Павлик – взволнованный. Они проходят токарный отдел, идут мимо сборки, вот и конец цеха.
– Тут, – говорит мастер, и Павлик растерянно оглядывается.
Ничего нет кругом: поломанный верстак и кучи железного хлама.
У него вырывается невольно:
– Тут нет ничего...
– Будет! – отвечает ему спокойно мастер. – Будет! – Он стягивает рукавицы и кладет их на пустой поломанный верстак.
Черев неделю здесь открылась первая на заводе ученическая мастерская.
2Алеша теперь целыми днями пропадал в школе. Жажда кипучей деятельности охватила его: ему хотелось взять щетку, вот такую, какой бабы стены мажут, взять и выбелить всю школу от первой до последней комнаты. И коридор тоже. Чтоб блестела школа, как новенькая.
Он все хотел сделать сам. Вмешивался в работу культкомиссии, лез прибивать портреты и лозунги в клубе, вместе с группой школьных художников взялся красить сцену. Обрызганный краской, он стоял посреди зала и отряхивался. Не было человека счастливее его.
Потом он затеял организацию школьного кооператива. Носился с планами, прикидывал, как добыть средства, бегал по учреждениям, уговаривал заведующего. Когда кооператив открылся, Алеша разочаровался: ему нельзя было стать там продавцом, не хватало времени. Иногда он все-таки приходил туда и кричал, воображая себя купцом:
– Ну, налетай, навались, у кого деньги завелись!
Для ячейки деткомгруппы он тоже добыл комнату.
Ячейка теперь стала большой организацией, в нее валом валили школьники. Алеша появлялся здесь на минуту, он всегда что-нибудь тащил в ячейку: плакат, бумагу для стенгазеты, материал для знамени.
Самым странным было то, что он все-таки успевал учиться. У него снова появился вкус к учебе. Ему нравилось говорить себе вечером:
– А я вот еще это узнал сегодня.
Он признавался себе иногда, что полученные за день знания ему ни к чему.
– Ну зачем мне знать, что ромашка принадлежит к семейству сложноцветных? – пожимал он плечами.
Но все-таки он узнавал это, узнавал еще многое другое, нужное ему или ненужное, но он тщательно прятал добытое в копилку памяти.
Как-то незаметно для себя Алеша сделался первым человеком в школе. У всех было к нему дело. Все шли к нему, в шестую «А». Толпились около его парты. Совали какие-то бумажки, заявления, списки. Культкомиссия приносила смету, кооператоры – отчет, драмкружковцы – пьесу на просмотр, секретарь старостата – протоколы на подпись...
По предложению Алеши, старостат скоро был переименован в исполнительный комитет учащихся. Алеша назывался теперь председателем исполкома. Это звучало гордо.
Тася сама выкинула белый флаг перемирия: подошла и, потупив глаза, сказала, что если им вместе идти домой, то она готова. Алеша удивленно посмотрел на нее, потом нерешительно протянул руку за книжками, она доверчиво отдала ему, и они пошли.
Так велико было раскаянье Таси, что она даже согласилась погулять немного около калитки.
– Только немного, – торопливо предупредила она.
Они гуляли до часу ночи, и Алеша впервые за свою жизнь поцеловал девочку.
Поцеловал – и испугался: обидится Тася. Но Тася не обиделась. Она вздохнула глубоко-глубоко и сказала:
– Вы не умеете целоваться, Алеша. Ну, я выучу... хорошо?
И Алеша терпеливо обучался искусству целоваться. Он не обнимал Тасю за шею и старался не тыкаться носом.
– Я на тебе женюсь, – сказал он ей однажды. – Только вот вырастем оба...
Он был твердо уверен в том, что полюбил Тасю на всю жизнь. Он раскрывал перед нею свои планы.
– Вот кончим школу, – рассуждал он, – и поженимся. Уедем отсюда.
Они бродили, прижавшись тесно друг к другу, беседа их часто переходила в горячий шепот. Был май.
– Кем же ты будешь?
Алеша не знал. Разве это важно? Он знал, что будет большим человеком. Сейчас, после избрания его председателем учкома, он совсем твердо верил в это. Возможно, он будет большим администратором, руководителем чего-нибудь такого гигантского, комиссаром, что ли, или председателем...
Но Тася однажды сказала, качая головой:
– Прежде чем ты не станешь хорошо зарабатывать, папа не отдаст меня.
– Папа? – удивился Алеша. – При чем тут папа? Я же не на папе женюсь...
Тася обиделась.
Но обычно они разговаривали дружно. Бродили и говорили. Говорили и бродили. Это очень хорошо: бродить вдвоем и говорить, говорить, говорить...
Когда у Таси уставали ноги, парочка находила где-нибудь около чужих ворот скамеечку. Их часто гнали отсюда. Тася тогда прятала смущенное лицо в воротник, а Алеша надвигал на нос кепку и бурчал под нос:
– Скамейки им жалко!
Они бродили так до «дворников», до тех пор то есть, пока не появлялись дворники и не начинали мести улицу. Это значило, что скоро начнет светать.
Тогда испуганно убегала домой Тася, а Алеша пускался в длинный путь: домой, на Заводскую. Его шаги гулко цокали на камнях пустынной мостовой, и Алеша вспоминал, улыбаясь, как в детстве привязывал к босой ноге железки, воображая, будто они звенят, как шпоры, малиновым, лихим звоном. Ему нравилось сейчас ухарски поцокивать подковами сапог; молчаливые здания, запертые магазины, мастерские, парикмахерские, необычайно чистенькие в этот предрассветный час, почтительно слушали это цоканье.
«Хорошее имя: Тася! думал Алеша. – Та-ся...
Та-сёк... Как это полностью будет? Таисия? Нет, вряд ли. Надо будет со временем перебраться сюда, в центр. А то ходить к Тасе далеко. – Потом засмеялся: – Вот чудак! Я ж тогда вместе с Тасей жить буду, и никуда ходить не надо. И мы уедем. Куда? Го! Столько городов есть, я нигде не был! Вот, говорят, Мариуполь – хорош городок. И море там и порт. И отсюда недалеко. Вот в Мариуполь. Или в Москву. Нет, это здорово будет – в Москву! Да... в Москву... Ленина увидать. Ильич, какой он в жизни? Наверное, старее, чем на портретах. Старый-старый, наверно. Вот его увидать. Подойти и сказать: «Владимир Ильич...»
Как Алеша попадет в Москву? Очень просто. На съезд. Очень важный этот съезд. Съезд, скажем – съезд комсомола... Или нет: партийный съезд. Алеша, понятно, партиец. Итак, съезд. Люди, сколько людей! Автомобили, мотоциклеты, трамваи, конечно... Милиция... Съезд, ясно, в Кремле. Вот Алеша приехал. Выходит на перрон, озирается. «Как, спрашивает, на съезд проехать? Я не здешний». – «На съезд? Пожалуйста, товарищ». Машина. Сели. Мчатся. Улицы, театры, музеи, магазины. Все это уже где-то видел Алеша. Где же он видел? Снилось? Ах, да! В кино видел!
Потом съезд. Вот Алеша берет слово.
«Товарищи! – говорит он, и все затихают, слушая его. – Товарищи!» Ну, дальше он говорит что-нибудь интересное. Сейчас он, конечно, не знает что, но там видно будет. Во всяком случае, ему аплодируют. Он хочет идти на место, но к нему вдруг подходит Ленин. Да... сам Ильич... он не такой, как на портретах. Он старый-старый. Седой весь. И борода седая. А глаза молодые, прищуренные. «Вы, товарищ Гайдаш, – говорит он Алеше, – идите-ка сюда. Вы мне о себе расскажите». И Алеша начинает рассказывать. Об отце, кашляющем в руку. О граммофоне. О том, как спиртные склады горели. О совнархозовском пайке. О школе. И вот уже ему больше нечего рассказывать, короткая у него жизнь. И Алеше становится стыдно: на фронте не был, в боях не был, не ранен, ордена не имеет... Да... А ведь у всех делегатов, у всех ордена. У одного Алеши нет ордена. Нет и нет. Откуда он у него будет?!
Алеша растерянно смотрит на небо, – оно бледнеет, край его дрожит мелкой рябью, там происходят сейчас большие события: готовится к выходу солнце. И по всей улице дрожат бледные тени, они бьются, трепещут на камнях мостовой: не то ожидают рассвета, не то боятся его. Алеша рассеянно смотрит на небо.
А Мотя с орденом... Вот он идет. «Здоров, Алеша!» У него орден. И красная ленточка подложена. Да. И Ленин смотрит и говорит Моте: «Такой молодой, а у вас уже орден». – «Да, – отвечает Мотя, – я четырнадцати лет ушел в армию». Алеша тогда говорит краснея: «Он, товарищ Ленин, старше меня на два года. Я не успел». – «М-мда... вот именно... Ну, так...»
Алеша пытается отмахнуться от неприятных мыслей. Он начинает по-новому.
«А вы хорошую речь произнесли, – говорит Алеше Ильич. – Где вы учились?» Тут Алеша ему рассказывает о школе, как учился, как боролся с ковалевщиной. Рассказывая, он бросает на Мотю торжествующий взгляд и небрежно заканчивает: «И эту контрреволюцию мы в школе сломили с корнем».
Ну, Ленин жмет ему руку. Все делегаты жмут ему руку. Потом начинаются выборы. Кто-то кричит: «Гайдаша! Гайдаша!» – «Ну, я голосую за Гайдаша», – говорит председатель. А Алеша опускает голову, чтобы не видеть, как голосуют. Он краснеет, как и тогда, на школьных выборах. Потом он слышит: «Прошел Гайдаш!» – и подымает голову.
Ну вот! Потом Алеша переезжает в Москву! И Тася с ним. Мать Алеши тоже. И братья маленькие. А отец? Ну и отец. Только Алеша говорит ему: «Ты, отец, свои молитвы и псалмы брось! Мы будем в Москве жить, там этого не любят!» Вот. Квартиру дали Алеше хорошую. Каждому по комнате. Отцу с матерью – комнату. Алеше – комнату. Тасе – комнату. Потом автомобиль. Потом телефон дома. Потом портфель, большой, желтый, с пряжками. Да. А потом Алеша в командировку едет. Вот ездил-ездил, приезжает. Выходит из вагона. Тася встречает, целует, а Алеша небритый, усталый, пыльный. «Как ты похудел!» – говорит
Тася и опять целует. Вот они едут в своей машине домой. Вот приезжают. Завтрак.
И тут Алеше вдруг становится скучно. Что в самом деле: автомобили, портфели! Почему-то опять вспоминается Мотя. Он в рваной рубахе, в фуфайке нараспашку; в шлеме с ободранной матерчатой звездой. Мотя такой, как на карточке, которая пришла Алеше в заблудившемся письме.
Нет, не так. Алешу избирают на съезде, но он говорит: «Нет, товарищи, я на фронт пойду!» Да!.. На фронт?.. Но фронтов нет. Нет фронтов. Нет... Опоздал Алеша. Опоздал.
Он опять посматривает на небо. Там тают звезды, как снежинки в теплый зимний день.
Нет! Вот как: он едет на Запад. Едет делать революцию. Да, да! И Тася с ним. Вместе едут. Вот они в подполье. Жандармы ищут Алешу. Но он искусно прячется от них. Ездит по заводам, подымает стачки. Вот восстание, революция, баррикады. Алеша на баррикадах.
«Умрем или победим!» – кричит он и размахивает знаменем. Полицейские открывают огонь. О, Алеша дорого продаст свою жизнь! Он бросается на жандармов. Раз-раз, раз-раз... Но предательский удар в спину – и Алеша падает. Он смертельно ранен. «Товарищи, – говорит он слабеющим голосом, – боритесь и не сдавайтесь!» Тася наклоняется над ним, плачет и целует. Потом похороны, почетный караул. Знамена, салют...
И Алеше становится жаль себя до слез. Такой молодой, здоровый, хороший в сущности парень – и погиб от дурацкой пули.
Нет, его ранят, но он не умирает. Он лежит, истекая кровью. Тася, конечно, целует его, а рабочие переходят в наступление, бегут, бегут, кричат: «Ура, ура!..» Дрогнули жандармы. Войска на стороне рабочих! Мировая революция! Победа! Знамена, целое море знамен. Несут Алешу, он ранен, но жив. «Да здравствует мировая революция! Да здравств...»
Сам не замечая того, Алеша уже не идет, а бежит. Сапоги его выстукивают бурю. Дрожащее предзорье стоит над городом.








