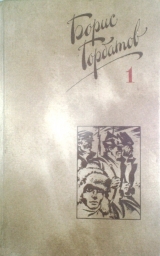
Текст книги "Собрание сочинений в четырех томах. 1 том"
Автор книги: Борис Горбатов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 35 страниц)
– Нужно.
– Да-да! Вот у нас в эскадроне был чудак. Как увидит книжку или газету, так и трясется: дай почитать. Всю прочтет. О пчелах – даешь. О луне – даешь. Читал. Внимательно эдак! Понимаешь? Спросим, бывало: «Ну зачем тебе это?» А он: «Да так, интересно все». По-моему, он и сам не знал, на что ему эти знания нужны, а просто жаден был. А убили его зря. Ездил он верхом плохо, с коня слетел, его и убили. Д-да! – И быстро: – Ты тоже вот так?
– Нет! – упрямо ответил Алеша. – Я знаю. Мне нужно.
– Ага! Понимаю. Ну что ж!.. Ты за что Ковалева-то не любишь?
– Он враг!
– Так ты его за это?
– А как бы ты думал?
– Я бы иначе думал. Ячейка есть, наробраз, комсомол.
– Мне некогда ходить.
– Ты в детскую группу запишешься?
– Не знаю. У меня характер неподходящий.
– Да! Такой молодой – и уже характер!
Опять искоса посмотрел Алеша на Рябинина, но ничего не возразил, а спросил только:
– Ковалев тоже состоит у вас?
– Ковалев? – засмеялся Рябинин. – Да мы его и на порог не пустим.
– А в старостат?
– Ты же сам виноват в этом. Говорят, ты его предлагал.
Алеша опустил голову.
– Верно! Моя ошибка. Но я его убью.
– А я думал, ты взрослый парень.
– А что же делать?
Рябинин задумался. И в самом деле: что делать? Потом засмеялся. Вот еще проблема: да переизбрать Ковалева! Алешу или еще кого-нибудь там избрать – чего проще!
Но он напустил на себя таинственный вид и сказал Алеше внушительно:
– А это я тебе сейчас не скажу. В ближайшие дни.
– Вы у нас в школе будете работать?
– Буду. От комсомола. А нога заживет, может, на завод пойду.
– Болит нога?
– Болит.
– Пулей или шашкой?
– Пулями, браток. Двумя пулями.
– А я не успел воевать. Мал был. Ну, да я бы все одно пошел, да мать жалко было.
– Да, да! А у меня матери нет. Бобыль. Ну, прощай, Алеша Гайдаш.
– Прощайте, товарищ Рябинин. Может, еще проводить?
– Нет, ничего. Тут близко. – И Рябинин протянул руку Алеше. – Так будем вместе бороться, Алеша Гайдаш? Так что ли?
– Так. Только вы не отступайте.
– Хорошо, я не отступлю! – засмеялся Рябинин. – Борьба до последней капли крови.
– Да, до последней.
Рябинин быстро взглянул на Алешу: у мальчика были крепко сжаты губы, а на острый подбородок легла короткая и глубокая черта.
– Нет, только без крови, – пробормотал тогда Рябинин и, опираясь на костыли, пошел к калитке. Вдруг он остановился и закричал: – Алеша!
Тот подбежал.
– Смотри! – Рябинин поднял костыль вверх и показал: – Смотри! А!
Алеша недоуменно посмотрел вверх: небо, дрожащие звезды, луна.
– Ну?
– Луна... А? – Лицо Рябинина осветилось тихой, счастливой улыбкой. – Вечер-то какой, а? Весной пахнет, – он потянул носом воздух. – Пахнет.
– Буза-а! – удивленно пробормотал Алеша, пожал плечами и пошел по улице.
Несколько раз он все-таки невольно подымал глава вверх: в небе висела и чуть покачивалась медная луна. Казалось, что она позванивает, ударяясь о плотную твердь ночного неба. Алеше вспомнилось, как мать по праздникам до блеска начищала медный поднос и вешала его на стену около самовара в парадном углу.
«А скоро пасха, – подумал он. – Ну и пусть!»
Он пошел в школу, чтобы получить знания, – знания, нужные ему. Зачем – нужные? А это, товарищ Рябинин, Алеша сам знает – зачем. Но вместо учения ему придется, кажется, заняться войной. Иль это и есть вся наука? А физика? Алгебра? Но Ковалева нужно сокрушить.
Под ясным лунным светом белые хатки казались голубыми, а голые тополя серебряными. В воздухе действительно пахло весной, но Алеша смотрел на все это равнодушным взором.
3Любопытный мирок открывался перед Рябининым в пропитанных дезинфекцией сырых стенах школы: любопытный и малознакомый.
В записной книжечке появилась еще одна запись:
«Мой новый друг, т. Алексей Гайдаш, пятнадцатилетний человек, называющий луну – бузою».
Эта заметка стояла непосредственно и нарочно под старой, 1919 года:
«Первые строчки Васина нового стишка:
В эту лунную ночь и жить веселей.
Умирать веселей и рубать веселей».
Рябинин перечел эти записи – старую и новую – и вдруг подумал:
«А что я знаю о Луне? Спутник Земли. Так. Еще что? Бывают затмения. Еще что? Луна справа – к счастью. Все? Да, все. Алеша, вероятно, больше знает».
Рябинин теперь еще чаще бывал в школе. Он ходил иногда на уроки, на заседания школьного совета, прислушивался к ребятам, педагогам и чувствовал себя спокойно, хотя и временно, бивуачно.
Сейчас он затеял перевыборы старостата. Он хотел провести это по всем правилам: с объявлениями, со столом, покрытым красной скатертью, с торжественно нахмурившимся президиумом, с ораторами, которых хотя и не видно из-за трибуны, но которые тем не менее нарушают регламент. Несколько дней он возился, организовывал это собрание, и вот оно наконец бурлит в зале, шумно рассаживаясь на скамьях.
«Детвора!» – улыбнулся Рябинин, и эта улыбка относилась к нему самому, к большому, взрослому парню в кавалерийской шинели, путающемуся с детворой.
Он позвонил в большой звонок, которым предварительно обзавелся.
– Товарищи! – начал он с невыразимой серьезностью. – Вы собрались здесь, молодые хозяева молодой школы, затем, чтобы избрать свое самоуправление. Я учился в церковноприходской школе. К сожалению, у нас не избирали самоуправление. А то бы я заявил отвод нашему попу. Он меня пребольно драл за ухо.
Собрание ответило звонким детским смехом.
– К сожалению, ваш старостат, – продолжал Рябинин, – работал плохо.
– Да вовсе он не работал! – закричали из зала.
– Ну, я с этим спорить не буду, – ответил Рябинин и опять весело засмеялся.
«А мне бы педагогом быть!» – мелькнуло у Рябинина. Он вспомнил приходскую школу, пьяненького рыжеватого попика, обучавшего их премудростям науки.
– Век живи, – говорил попик, ласково, но больно дергая Степку Рябинина за ухо, – век учись, а все помрешь ты дураком, скот.
«Неужели дураком и помру?» – подумал Рябинин и вслух сказал собранию:
– Итак, приступим! Давайте изберем президиум для ведения собрания. Намечайте кандидатов, ребята!
Что случилось? Рябинин даже сообразить сразу не может. Взвился над залом такой шум, что у него в ушах зазвенело. Все сорвались со своих мест и начали выкрикивать кандидатов. Каждый боялся, что его не услышат, и, надувшись, раскрасневшись, приложив ладони рупором ко рту, повышая голос до визга, старался изо всех сил. Некоторые быстро объединились в группы и хором кричали имена своих кандидатов.
«Надо было со списком прийти», – упрекнул себя Рябинин. Но он не ожидал от детворы таких страстей.
Шум оборвался сразу: выкричались. Все с любопытством ждали, что же родилось из шума, что поймал на карандаш Рябинин. Гайдаш, Ковалев, Дроздович, – стал читать фамилии, которые успел услышать, Рябинин. – Лукьянов, Пышный, Бакинский, Сиверцева, Воробейчик.
Он неумышленно поставил фамилии Гайдаша и Ковалева на первые места, – так, просто все время думал о них. Ведь не будет же тут особой борьбы? Какая детям разница – Гайдаш или Ковалев?
– Нужно избрать пять человек, а здесь восемь. Будем голосовать каждого в отдельности, так?
– Да, да! – страстно закричал зал.
– Итак, голосуем, товарищи! – объявил Рябинин. – Его забавляла эта игра с детворой в парламент. – Итак, голосуем. – И тогда он услышал тишину, такую затаенную, такую звонкую, такую тонкую, что даже испугался.
«Вот они ка-ак!» – подумал он.
– Голосую Гайдаша. Все его знают? Кто «за», прошу поднять руки!
Шум побежал по залу. У Алеши замерло сердце, и он, боясь посмотреть на голосующих ребят, опустил голову.
– Гайдаш под судом! – закричал вдруг чей-то голос. Алеша не узнал чей. – Нельзя его избирать!
Рябинин увидел: нерешительно опустились кое-где руки.
– А кто его под суд отдал? – закричал яростно Лукьянов. – И за что?
– Верно, верно! – И теперь дружнее, еще гуще взметнулись руки.
– Прошел Гайдаш, – услышал Алеша и поднял голову.
– Голосую Ковалева, – торжественно произнес Рябинин.
– Не надо его! Не надо! – закричали из той части зала, где была ячейка.
– Голосовать! Голосовать! – дружно раздалось из другого конца, и Рябинин впервые с любопытством посмотрел туда: там мелькнули бекешка Ковалева и рыжий вихорок Воробейчика.
«A-а! Вот они где!»
Он чувствовал: это начинает увлекать его.
«Впрочем, вот проголосуем Ковалева – и игре конец».
– Кто за товарища Ковалева? – подчеркнуто бесстрастно, председательски произнес он. – Ну?
Движение. Там и сям поднялись руки.
– Мало! Мало! – закричали в вале.
– Надо считать! Считать!
– Да что считать! Мало!
– Считать! Считать!
Опытным взглядом увидел Рябинин – расползалась кучка, за которой он наблюдал, одна бекешка с сизыми смушками осталась.
«Чего же они хотят?» – недоуменно подумал он.
Со всех концов зала неслось:
– Считать! Считать!
– Неверные выборы!
– Что ты нам очки втираешь!
– Счита-ать! Счита-ать!
– Будем считать! – закричал Рябинин. – Ты и ты, – ткнул он пальцами в первый ряд, – считайте!
Счётчики встали, но шум не утих.
– Не верим этим счетчикам.
– Других дава-ай!
– Что в самом деле!
Шум опять рванулся над залом, и Рябинин уже утратил власть над ним.
И тогда ему стала ясна тактика бекешки с сизыми смушками: «На срыв дело ведет! На срыв! Ну, ладно же!»
– Ти-ише! – закричал он что есть силы и стукнул кулаком по столу. – Ти-ише!
Но голос его упал в море, шумящее в зале, и утонул. Рябинин был бессилен. Он побледнел, ноздри его раздулись, как у кавалерийской лошади, чующей бой: кулаки сжались.
Рябинин решил переждать: выкричатся.
Шум стал ослабевать. Рябинин успокоился: выкричались. И тогда что-то новое заметил он в зале: зал двинулся влево. Да, влево! Еще, еще влево! Только теперь Рябинин сообразил: двинулся зал к дверям. Широко распахнулись двери, и зал полз к выходу.
– Товарищи! – закричал тогда Рябинин изо всех сил, но его даже передние не услышали.
Около выходных дверей уже бурлил водоворот. Правая часть зала обмелела, собрание было сорвано. Враг, которому было шестнадцать лет, оказался сильнее боевого конника Рябинина.
Рябинин бросил на стол бесполезный звонок, и тот покатился по красной скатерти, жалобно позвякивая. Какая тишина наступила в зале! Тишина провала.
Рябинин натянул шинель и стал торопливо застегивать крючки. Он нервничал, крючки дрожали в его руках, не приходились к петелькам, костыли выскальзывали.
«Вот они как! – думал он. – A-а!.. Ишь ты!»
Ему почему-то казалось, что за всем этим прячется взрослый враг, настоящий враг. Может быть, прав Кружан: школьный фронт? А?
«Что же! – криво усмехнулся он, застегнув наконец шинель на все крючки. – Что же! Давай, давай! Кто кого?»
Сконфуженная, собралась на сцене ячейка. Рябинин окинул ее взглядом: горсточка – шесть человек.
– Что же это? – невольно спросил он. – Что же это так мало в ячейке народа?
– Да ведь не всякого возьмешь, – пробурчал Лукьянов. – Нужно вполне сознательных.
Детвора обступила Рябинина. Маленькая их кучка затерялась в большом и гулком актовом зале.
– Побили нас, а? – произнес Рябинин и посмотрел на молчаливых ребят. – Побили. Ну-ну! Эх, ребята!
Ему захотелось вдруг ласково обнять их за плечи. С детства он привык: тот, кто дерется рядом, – друг. Друзья познаются в драке. Враги тоже. Битые крепче бьют.
Принюхиваясь, он чуял за спиной Никиты Ковалева умного врага. Кто? Какие цели? Никита Ковалев сам не дурак. Чего он хочет? Какие цели?
– Почему Гайдаша нет здесь? – вдруг спросил он у Лукьянова.
– Да ведь он не в ячейке.
Рябинин охватил взглядом всю ячейку, покачал головой и сказал:
– Вот что, мальчики. Видали организованность? Как сорвал Ковалев собрание, видали? То-то! Пошел с козырей. Ну и мы пойдем с козырей. Завтра я представлю вам план атаки. Точка! Пошли по домам.
– Рябинин, – сказала Юлька, – один вопрос. Я была в горкоме. На пасху комсомольцы выходят на улицу. Горком говорит: «Надо вывести ячейку и школу». Как ты думаешь?
– Ага! Пасха?! – задумчиво переспросил Рябинин. – Пускай пасха! Начнем атаку с пасхи... Возьмемся за школу всерьез.
На другой день он пришел в горком комсомола и сказал Кружану:
– Ну, товарищ Кружан, заслушай-ка сводку со школьного фронта.
ПЯТАЯ ГЛАВА
1Я никогда не был беспартийным. Мне было двенадцать лет, когда я впервые пришел в комсомольский клуб записываться в детскую коммунистическую группу. Мне было четырнадцать лет, когда комсомольский военорг впервые послал меня в чоновский караул к вещевому складу. Мне было восемнадцать лет, когда собрание ячейки приняло меня в кандидаты партии. Я не успел быть беспартийным.
С детства я привык быть в организации. Я привык к суровой и требовательной дисциплине коллектива, к шумным собраниям и молчаливой дружбе, к локтям товарищей и к звонку председателя. С детства я ощущаю себя патроном, зажатым в обойме и ожидающим нажима курка. Я не умею иначе жить.
Я знаю: мне жить, мне работать, мне умирать в коллективе. Я не умею иначе.
Мне случилось как-то быть в столице в день Первого мая. Я стоял на тротуаре, прислонившись к фонарному столбу, и с завистью глядел, как плыли мимо меня шумные праздничные колонны. Гремел оркестр, выскакивали из рядов на мостовую девушки в голубых майках и пускались в пляс.
А я стоял на тротуаре как зритель. В первый раз за всю свою жизнь я стоял на тротуаре как зритель, удивленным взглядом наблюдающий расплескавшуюся на мостовой радость.
Не выдержав, я бросился к колонне.
– Куда, куда? – закричали мне с той ревнивой строгостью, которую с давних времен соблюдают все демонстранты. – Куда? Не ломай рядов! Эй!..
– Я с Украины! – ответил я, покраснев. – Я только что приехал. Дайте мне место в рядах.
Мне сразу нашлось место. Меня поставили между стариком в пальтишке с вельветовым воротником и девушкой в голубой майке.
Когда я справа и слева почувствовал упругие локти соседей, я откашлялся и присоединил и свой взволнованный голос к общей песне.
– Украинца, украинца! – закричали товарищи.
Раздались хлопки, началась обычная наша «подначка»:
– А ну, давай, давай, не задерживай!
И я запел украинскую один.
Я никогда не стал бы петь на эстраде, на сцене, просто перед толпой, – какой я певец! Но тут я был в рядах, мой голос шел из толпы, толпа покрывала и ободряла меня, и я пел. Кажется, даже не очень скверно пел.
А потом я нашел в колонне земляка.
Странное дело! Куда бы, в какую бы дыру я ни попал, везде найдется знакомый парень. Ахнешь:
– Да как ты здесь очутился?
– Жизнь, брат. Цека, брат. Работа.
Я не встречал еще человека, с которым, поговорив по душам, не нашел бы общих знакомых. И страна, в которой я живу и двигаюсь, представляется мне подчас дружным землячеством, артелью хороших ребят – стариков и молодых, седых и рыжих, хмурых и бедовых – всяких, но все они знакомы мне, всем им я кунак, всем им я земляк: тверякам, москвичам и уральцам.
Люблю встретить на перекрестке, на бегу, парня, которого давно не видел; схватив его за локоть, отойти с ним в сторону, чтобы нас не затолкали прохожие, прислониться к театральной тумбе или трамвайному столбу.
– Как живешь? Где? Что делаешь?
– Рою канал. Волгу в Москву пускаю.
– Ну?! Получается?
Он улыбнулся мне. Потом расскажет, в чем трудности их работы. Вытащит карандаш и на палевой афише Московской консерватории начертит схемку.
Прощаясь, я спрошу у него:
– А как у вас пригородное хозяйство? Картошка?
Когда он уйдет, я вспомню, что забыл еще у него спросить, не женился ли он.
Неожиданные вещи выясняются при таких встречах. Вдруг оказывается, что вечный заворг Лешка Козырев уже давно не заворг, а судостроитель.
– Почему судо? Леша, объясни популярно: почему ты судостроитель?
– Да так, нравится. Море, вода. Путевка была в судостроительный.
Я встречаю на перекрестках геологов, начальников политотделов МТС, командиров заводов, заготовителей скота, востоковедов, пропагандистов, механиков, шоферов, историков, инженеров – это все наши ребята, вчера еще они были комсомольцами.
Карта большой нашей страны висит сейчас передо мной. Алеша Гайдаш! Ты улыбаешься мне с далекой границы! Как курды, Алеша? Как басмачи? Я слышу, как храпит твой конь, Алеша.
Оттуда, где тесно сбились в кучу игрушечные силуэты заводов, мне застенчиво улыбается Павлик. Я прочел в газете, что сегодня выплавка чугуна по Союзу достигла. 26 тысяч тонн. Я радуюсь вместе с тобой, Павлик.
А каштановая коса? Или это река вьется? Юлька! Куда ты забралась, Юлька? К тебе хоть три года скачи – не доскачешь. А чье это лицо выглядывает из-за твоего плеча? А! Неизменный спутник! Друг по гроб! Но – тсс! Секрет. Молчу.
Ребята! Нам еще рано стариковать и ворошить пыль преданий. Но ведь правда же, хорошо встретиться на бегу, на перекрестке и начать дружескую беседу вопросом: «А помнишь?»
Весною тысяча девятьсот двадцать второго года наша уездная комсомольская организация пошла на штурм небес.
Мы завоевали землю. Ликующая, она лежит от Белого моря до синих Кавказских гор. Теперь нам нужно небо, бездонное и голубое. Нам нужно небо, чистое и просторное! Небо аэропланов, звезд и луны влюбленных.
И мы решили выйти безбожным карнавалом в день пасхи на улицу.
Мы протащим по слякотному городу чучела Саваофа и чинов его небесной канцелярии, мы поведем весь город за собой на штурм небес.
И мы задолго начали готовиться к штурму.
Веселая кутерьма поднялась в комсомольском клубе: наряженные чертями, хохотали на сцене ребята, разучивали песенки, репетировали инсценировку.
Долговязый, незаметный ранее парень, у которого нежданно-негаданно оказался дьяконский хриплый бас, стал теперь героем дня. За ним ходили шумными толпами и, смеясь, толкались, просили:
– А ну, дядя, рявкни «аллилуйю»!
Даже взрослые комсомольцы поддались этой веселой суетне. Было просто весело плясать под дребезжащее пианино в гулком и нетопленом здании клуба, забыв о пайках и пустом супе. Секретарь горкома Глеб Кружан сел за пианино. Он, закинув голову, взмахнул руками и вдруг сразу десятью пальцами ударил по клавишам, – и вдруг оказалось: этот небритый, лохматый парень владеет сложной музыкальной машиной. Откуда?
Но все закричали:
– Лезгинку! Лезгинку!
Плясали все: кто умел лезгинку – лезгинку; кто лезгинку не знал, плясал гопак, «барыню», польку; кто ничего не умел, притопывал сапогами, вертелся на месте; ребята сбивались в пары, в хороводы, опять разбивались, разлетались по залу, чтобы беззаветно плясать, забыв обо всем на свете, а Кружан все гремел и гремел, ударяя десятью пальцами по дребезжащим клавишам, и подпрыгивал на стуле.
Семчик изображал попа, и изображал всерьез. Он все всегда делал всерьез. Этому пятнадцатилетнему парню явно не хватало чувства юмора. Озабоченный вдруг пришедшей ему в голову мыслью, он продрался сквозь пляшущую, хохочущую, беснующуюся толпу и подошел к Кружану:
– Товарищ Кружан, а наган когда я получу?
– Зачем наган?
Семчик удивленно посмотрел на него:
– Как зачем? Я же попа изображаю.
– Попы наганов не носят.
– Да, но защищаться надо же ведь будет!
И сразу стихла бесшабашная гульба. На высокой ноте сорвал Кружан лезгинку. И все, услышав слова Семчика, вдруг подумали, что и в самом деле: ведь пойдут они тощей группой по чужому, озлобленному обывательскому городку, где одиннадцать церквей и три школы, где на окраинах до сих пор кулачные бои, где в крестный ход лоснятся жиром хоругви, рыжие мясники несут богородицу и тысячные толпы валятся иконе в ноги, а колокольный звон густо ползет над душными улицами.
Вспомнили, что только на днях привезли из-под Ямполя комсомольца Андрюшу Гайворона, ямпольского чекиста, зарубленного бандитами. Лицо его и тело были исполосованы шашками, кровь запеклась в ранах.
И когда я вечером встретил случайно на улице Алешу, я, не здороваясь, спросил его:
– На карнавал пойдешь? – таким тоном, как спрашивают: наш – не наш?
– Пойду, – ответил Алеша, и тогда я вспомнил, что не поздоровался с ним.
– Ну, здорово! Как жизнь?
Я знал, что Алеша безработный, слышал о его неудачах в школе, о неладах с ячейкой. Я ждал: он разведет руками, вздохнет, выругается. Вместо этого он начал мне оживленно рассказывать о борьбе, которую они начали в школе.
– Значит, ты теперь в ячейке? – обрадовался я.
– Нет.
– Нет? Но почему?
– Да так, – пробормотал он, а я улыбнулся.
Ах, чудак! Плохо бы я знал тебя, если бы не понял, в чем дело. Ты всегда был таким: ты всегда любил быть коноводом, главарем. Ты не хочешь сейчас идти в ячейку, потому что не ты организовал ее, потому что ячейка не звала тебя. Ты хочешь прийти в ячейку победителем. Ах, чудак!
Но я ничего не сказал Алеше, только крепко пожал ему руку.
– На карнавале, стало быть, увидимся?
– Ясно!
– Ну-ну!
И я ушел, радуясь, что есть на свете такая замечательная вещь – дружба.








