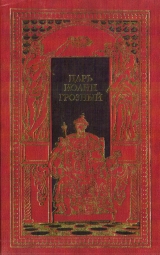
Текст книги "Царь Иоанн Грозный"
Автор книги: Борис Федоров
Соавторы: Олег Тихомиров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 48 страниц)
Феодорит
Иоанн, чувствуя всю необходимость и важность деятельности самодержца, возвратился к царским трудам. День его начинался с рассветом. Он выслушивал приближённых сановников, читал челобитные, разбирал посольские статьи и разряды, решал сомнения боярской думы и карал нарушителей закона. В то же время он спешил с приготовлениями к войне в месть за отказ Сигизмунда Августа. Воеводам объявлен был поход, и опальный князь Курбский должен был, по повелению царя, выступить из Москвы с полками под Псков.
– Да заслужит за вину свою послушник Адашевых! – сказал Иоанн.
Впрочем, уже не доверяя Курбскому главного начальства, он избрал старейшими воеводами бояр, ему неприязненных.
Княгиня страшилась и подумать о разлуке с супругом.
– На горе мне оставаться! – говорила она ему. – Позволь мне с сыном ехать за тобой в Псков!
– Гликерия, – сказал князь, – не в обычай жёнам сопровождать воевод в их ратных походах.
– Друг мой, князь Андрей Михайлович, не стало родных моих, а без тебя мне весь свет опустеет; умру я с тоски!
– Подумай, Гликерия, что скажут, когда увидят в военном стане сына и жену Курбского.
– Позволь мне видеть Псковопечерский монастырь, помолиться о Спасении твоём! Разве жёны воевод не ездят на богомолье? Вспомни, что ты сам обещал свезти меня к печерским угодникам.
– Добрая жена! Не одно благочестие внушило тебе эту просьбу. Знаю, что ты боишься за меня.
– Так не скрою, – отвечала княгиня. – Всё принуждает меня следовать за тобою, опасение и любовь. Боюсь твоего пылкого сердца. Кто без меня успокоит тебя? Юрий, проси со мною отца твоего!
Курбский согласился, чтобы Гликерия, чрез несколько дней после отъезда его, в сопровождении Шибанова отправилась с Юрием из Москвы в Псковопечерскую обитель, поручив юную свою питомицу княгине Евдокии Романовне, супруге князя Владимира Андреевича. Курбский снял со стены древнюю прародительскую броню, облёкся в доспехи и, простясь с родными и друзьями, выехал из дома, но на пути к своей ратной дружине посетил митрополита Макария.
С радостным лицом вышел к нему старец-первосвятитель.
– Знаешь ли, князь, – сказал он, – какой гость в доме моём? Ты не ждал его видеть, а он уже спрашивал о тебе.
– Святой владыко! Не возвратился ли Феодорит? – спросил с радостью Курбский.
– Пойдём и увидишь, – сказал митрополит, подавая ему руку, и, поддерживаемый князем, отворил дверь в тёплые сени и повёл его по деревянной лестнице в верхнюю светлицу.
Дверь была не заперта. Несколько человек стояли там; Курбский, не замечая их, бросился к сидящему иноку, убелённому сединами, но ещё бодрому видом. Инок обернулся, увидя вошедших митрополита и князя Курбского, хотел встать, но воевода не допустил.
– Возлюбленный старец, отец мой духовный! Как сладостно мне узреть тебя, как прискорбно было не видеть честных седин твоих!
– Здравствуй, любимый сын мой духовный! Привет тебе от святого гроба, от животворящего креста Господня. Но зачем ты, первосвятитель, привёл его? Не в труд бы мне сойти к вам; здесь у меня тесно.
– Князь не осудит, – сказал ласково митрополит, – здесь все люди Божии.
– Так, владыко, – отвечал Феодорит, – это мои ближние братья; скудны они, но Бог-Промыслитель мне посылает на их долю.
Митрополит окинул взором стоящих, и все с благоговением поклонились ему до земли. Возведя взоры на Макария и чтя в нём верховного пастыря церкви, они безмолвствовали. Митрополит не в первый раз видел, что гость его, не утомляясь трудами и долгим странническим скитанием, пользовался каждой минутой для благодеяний, называя себя слугою всех.
– Время отпустить их, – сказал Феодорит.
Затем он разделил между бедными несколько просвир и, взяв полную горсть серебряных денег из кожаного кошеля, встал и каждому подавал, во имя Господне, сколько внушали ему сострадание и прозорливая внимательность. Тогда дети и старцы, забыв присутствие митрополита, бросились целовать руки и одежду инока, но Феодорит, поспешно отстранясь, сказал:
– Братья и дети, благодарите Божий промысел, а не меня, грешного скитальца; не моё добро раздаю, а что Господь послал вам чрез раба своего.
И все набожно стали молиться пред иконою, и с восторгом благодарности вышли из светлицы. Тогда черноризец, сев с двумя своими духовными сыновьями – митрополитом и Курбским, радостно с ними беседовал.
Курбский расспрашивал его о недавнем путешествии в Царьград и удивлялся, что Феодорит, при самой глубокой старости, в ничто вменяет труды.
– Вспомни, – сказал Макарий, – сколько он странствовал; тринадцати лет оставил родительский дом и пошёл на Соловки жить среди студёного моря, но учитель его был учеником святого Зосимы Соловецкого.
– О, сколько Бог послал тебе благодати, отец мой! – говорил Курбский, обратясь к Феодориту. – Ты видел и Александра Свирского?
– С божественным Порфирием он провёл многие лета в пустыне, – сказал митрополит.
Феодорит возвёл взор к небу; глаза его наполнились слезами.
– Сыны мои! – проговорил он тихим голосом. – О блаженных днях вы напоминаете мне! В пустыне покой мой.
– Вся жизнь твоя – подвиг! – сказал Курбский. – А сколько принял ты нужды, сколько потерпел от клевет!
– Вы же, сыны мои, за меня заступились, – возразил Феодорит. – От наветов в мире не избегнешь, а скорбь христианину в радость. Не утешил ли меня Господь, когда я два лета провёл в Ярославле, в обители, где, князь Андрей, почивает блаженный твой предок, Феодор Ростиславич Смоленский.
– Оттуда царь послал тебя на новое странствие, – сказал Курбский.
– И с Божьею помощью свершилось! – продолжал старец. – Господь управлял мой путь в лапландских снегах, сохранил меня и в Царьграде, где два месяца страдал я огневым недугом.
– Вчера ты порадовал государя. Патриарх благословил его на царский престол, – сказал митрополит.
– Обещал прислать и книгу царского венчания, – прибавил старец.
– Святое дело совершил ты, отец! – продолжал Макарий. – Но не гневен ли государь, что ты отказался от царских даров его?
– Отказывался, – отвечал Феодорит, – а приневолен взять; возвратясь сюда, я увидел драгоценный кожух под аксамитом, которого не хотел принять в царских чертогах.
– Царь дарит тебя, – сказал Макарий, – ещё тремястами сребреников и хотел почтить духовною властию.
– Властию! – воскликнул, усмехаясь, Феодорит. – Но чего мне желать? Всё, что царь повелел, Бог привёл мне исполнить. Не довольно ли этого отшельнику? А в награду за труды не принял ли я благословение апостольского наместника, патриарха вселенского? Даров и власти от царского величества не требую; пусть дарует тому, кто просит; я отрёкся от серебра и одежд драгоценных; хочу украшать душу для Бога, а не тело для земли; одно моё желание: пожить мирно и безмолвно в келье моей, пока не отзовёт меня Бог. Так говорил я государю, но он убеждал меня, да не прекословлю я царской воле его, и я, повинуясь, принял двадцать пять сребреников.
– А где же присланный царский кожух? – спросил Курбский.
– Не для меня соболя и аксамит, – отвечал старец, – я уже продал его, и ты видел здесь тех, для кого я продал. Мне пора в обитель Прилуцкую, да собираюсь побывать в моей пустыне, над рекой Колой, навестить диких лопян, мною крещённых. Веришь ли, что и в Царьграде, стоя у Чёрного моря, я думал о Ледовитом и о тамошних моих духовных детях.
Митрополит и Курбский с умилением слушали старца, вменявшего ни во что трудности и отдалённость пути и изнурявшего тело своё беспрерывными подвигами.
Феодорит, казалось, забылся, погрузившись в размышление; устремив неподвижный взор в отдалённость, он безмолвствовал, чему-то внимал: то глубокое благоговение, то святая радость выражались в духовном созерцании старца. Митрополит и Курбский почтительно отошли в сторону, чтобы не смущать его, и тихо между собою разговаривали.
– Обители горния! – воскликнул наконец Феодорит, подняв руки к небу. – Каким светом блистаете вы, пролейте сей свет благодати на всех сынов земли; согрейте теплотою веры сердца их; проясните их ум омрачённый, да чтут они Бога, как сыны, да возлюбят друг друга, как братья! Россия, утверждайся благодатию, велика будет слава твоя! Крепись в благочестии: дивны судьбы твои! Придёт он, придёт исполин к Северному морю, падут пред ним дремучие леса, засыплет он зыбкие болота, поставит на них твердыни великого града, на раменах его опочиет русский орёл!.. Легки крылья бессмертной души, далеко земля подо мною; свободно плавание в воздушном пространстве. Отечество моё, всюду вижу тебя; от востока солнца до запада! Твои корабли на морях; твои знамёна на стенах несокрушимых бойниц; горы твои дадут злато; царства земные преклонятся пред славой твоей.
Он умолк; но долго ещё в прозорливом восторге взирал на небо; первосвятитель и князь Курбский с удивлением внимали ему, не прерывая его пророческих слов. Они знали, что Феодорит впадал иногда в самозабвение; но его добродетели, прозорливость, события, уже оправдавшие несколько его предвещаний, апостольские странствия и мудрые беседы – всё побуждало, всё уверяло их, что Бог посещает сего старца дивными видениями и даёт ему силу бестелесного существа.
Феодорит склонил чело на скамью в тихой дремоте; душа, утомлённая восторгом, погрузилась сама в себя; тихий сон сомкнул вежды старца. Митрополит и Курбский, поцеловав край одежды его, удалились.
Курбский простился с Макарием, но, отъехав от палат митрополита, внезапное смущение овладело им: почему не дождался он пробуждения Феодорита и не взял на путь его благословение? Но уже воинство ожидало вождя, трубы давали знак к походу, и московские граждане теснились у кремлёвской стены, чтоб видеть Курбского, едущего поразить врагов России, не зная, что он уже не возвратится в стены Москвы.
ГЛАВА XПровидец
Радушно угощал псковский наместник Булгаков русских воевод. Между тем как почётные гости подъезжали к его дому, невдалеке от ворот народ собрался около человека в рубище, опоясанного цепью и сидевшего на камне, в нём нетрудно было узнать псковского юродивого Салоса; он смотрел в землю и напевал унылую песню.
– Что так приуныл, Никола? – спрашивали его.
– Ох, горе! Великое горе! – готовьте телеги, вывозите уголья из города, вычерпайте великую реку, заливать пламя.
– Что говоришь ты? Какие уголья? В городе веселятся, у наместника пир.
– Пир! – воскликнул Салос. – Суета веселится в стенах, а стены распадутся, перегорят, как перегорели сердца ваши!
– Полно, юродивый, с чего гореть нашим стенам?
– Души почернели, как уголь, и дома ваши в уголь истлеют. Пойдём молиться! Боюсь, чтоб не упал свод Свято-Троицкого собора!
Сказав это, Салос взошёл на паперть собора, напротив дома наместника, и возопил громогласно:
– Держись, держись, свод Свято-Троицкого собора! Не пади на главы наши, как мы пали в соблазн греха. Некогда упал ты, но спаслись отцы наши, стоя в благочестии, а ныне подавили мы совесть; боюсь, чтоб не подавил ты нас!
Салос упирался руками в стены собора. Гремящий голос его поразил страхом сердца; вдруг он стремительно сбежал с паперти на площадь и, прискакивая, начал петь:
Псков мой, Псков!
Заповедный кров,
Черны тучи идут,
Твоё горе несут:
Псков мой, Псков,
Заповедный кровь,
Что-то видятся мне
Твои башни в огне;
Псков мой, Псков,
Заповедный кров,
Поклонись, помолись,
Во грехах повинись;
Господня рука,
На преступных тяжка,
Жить бы верой о Нём,
Не гореть бы огнём!
Юродивый умолк. Он качал головою, руки его дрожали, и, казалось, он видел пред собою будущее. Окружающие его, содрогаясь, внимали ему и молились.
– Доброе дело молиться, – сказал он, – а лучше молиться делами!
– Да как же молиться делами? – спросил дюжий хлебник Лука, стоявший у корзины с хлебами.
– Не лукавствуй, Лука, – отвечал юродивый, – продавай хлебы, а не душу свою, – и, сказав это, Салос начал раздавать его хлеб стоявшим в толпе нищим и старикам.
Раздражённый хлебник, развязав свой ремённый пояс, бросился на юродивого. Салос безмолвно стерпел удар; но народ освободил его из рук хлебника.
– Не смей трогать Николу! – кричали ему. – Лучше подай милостыню!
– Доброе дело творить милостыню, – сказал Салос, – но ещё лучше предать Богу волю свою. Тогда будете и к бедным щедры, и добрыми делами богаты.
– Дай-то, Господи! Богатство нажить не худо, – сказал, поглаживая бороду, седой купец.
– Да о таком ли богатстве он говорит? – возразил другой.
– Дай нам, Господи, спастись! Не оставь нас, Господи! – сказал третий.
Гневно посмотрел на них Салос и сказал:
– Что вы зовёте: Господи, Господи, а не творите, что Господь повелел? Отступите от нечистых, не прикасайтесь! Враны в перьях павлиных! Самохвальство возносит вас! Столбы, указующие пути другим, сами вы с места не двигаетесь! Омойте лица ваши, лицемеры; проклят завидующий ближнему! Проклято сердце, веселящееся злословием! Проклята рука, в забаву себе уязвляющая других! Постыдится ищущий стыда ближнему. Позорящий других себя опозорит. Горе!..
Псков мой, Псков!
Заповедный кров,
Черны тучи идут,
Твоё горе несут;
Что-то видятся мне
Твои башни в огне...
– Горит, горит! – закричал он. – Дом богача жестокосердного; горит жилище бедняка ленивого; пламя истребит нажитое неправдою и богатство почитающих себя праведными. Стой, хижина доброго человека! Господь хранит тебя; а ты, терем боярский, осветись палящим огнём, Господь повелевает тебе!
С трепетом слушали слова его. «Он пророчит беду», – говорили между собою.
В столовой палате псковского дома наместника пировали за весёлою трапезою князья и бояре. Обед был постный, но по русскому гостеприимству изобильный; уже обнесли взварец крепкого вина, настоенного кореньями, мёд ароматный полился в кубки из серебряной лощатой братины, и после жарких появились стерляди, окружённые паром, а рыбные тельные казались белыми кречетами, раскинувшими крылья на узорчатых деревянных блюдах; просыпанные караваи подымались горками; перепеча с венцом краснелась на серебряной сковороде и рассольный пирог плавал во вкусном отваре из рыб. Орлы и пушки, башни и терема сахарные, колеса леденцовые, разноцветный сахар зеренчатый, пестреющий, как дорогие камни в глубокой чаше, были яствами последней статьи; более сорока блюд сменялись одно другими; крепкие душистые наливки поддерживали возможность пресыщаться; наконец полились в кубки фряжские вина; гости пили за царя и за царевичей, за митрополита и за победоносное оружие. Давно уже степенные бояре расшутились; присказки и приговорки возбуждали то весёлую улыбку, то громкий смех. По любви русских ко всему домашнему много доставалось иноземным обычаям; завёлся разговор о немецких причудах, русские бояре не могли надивиться, что немцы, как козы, едят полевую траву.
– Диво ли, – сказал князь Серебряный, – что травою лакомятся, они едят и зайцев нечистых.
– Наказал их Бог, как Навуходоносора, – заметил князь Горенский, – мало, что едят траву; лютым зельем носы набивают.
– А как зовётся зелье, которое видели у цесарского посланника? – спросил один из бояр.
– Табак, – отвечал Горенский.
– Уж не этой ли проклятой травой портят людей? – спросил Серебряный.
– Во всяком народе свой обычай, – сказал Шереметев. – Наш чеснок для немца не лучше, чем табак для русского.
– А всего пуще железный чеснок, – прибавил с усмешкой Булгаков, – как бывало подсыплем около стен, то сколько попадает немецких да литовских наездников!
– У нас и без того немцы на конях не удерживались! – сказал Курбский.
Послышался шум, отворились двери палаты и вошёл нежданный, непрошенный гость, с босыми ногами, в рубище, с посохом, остановился у дверей и громко спросил:
– Есть ли на богатом пире место для нищего? Есть ли среди весёлых гостей доступ печальному?
Наместник встал из-за стола и подошёл к юродивому; все изумлены были появлением Салоса.
– Будь гостем моим! – сказал Булгаков. – Мы чтим старость, не чуждаемся бедности, сострадаем печальным.
– Примите дар мой! – сказал Салос и вдруг зарыдал. – Поминайте Сильвестра, поминайте на острове среди Белого моря... дожили мы до чёрных дней!
– Ты нарушаешь веселье наше, – сказал наместник. – Где же дар твой?
– Дар мой – слёзы, единый дар, приличный вашему жребию. Радость ваша сонное видение, оплачьте со мною веселие ваше!
– Да не сбудутся слова твои, прорекатель бедствия, – сказал князь Серебряный. – Ты видишь нашу мирную беседу собранных на весёлом пиру, празднующих щедроты царя.
– Князь Серебряный, князь Горенский, князь Курбский, верьте, верьте веселью, оно обманет вас; вместе пируете вы, но одной ли дорогой пойдёте вы с пира? Разойдётесь вы в путях жизни; скоро друзья не узнают друзей, братья отрекутся от братьев, вождь оставит воинов, отец убежит от детей... Укрепитесь, терпите, смиренному всё во благо.
– Чудный старец! – сказал Булгаков.
Между тем Курбский, сидевший дотоле с поникшей головой, не отрываясь смотрел на юродивого.
– Добро, прощайте! – сказал Салос. – Пойду к благоверному князю Тимофею; он христианин.
– А разве мы не христиане? – спросил Серебряный.
– Христиане ли? – сказал Салос. – Молимся до праха земли, а возносимся до края небес; за одну обиду платим дважды; шесть дней угождаем себе, да и седьмого Богу не отдаём! Помолимся довмонтовой молитвой: Господи, Боже сил призри на кроткие и смиренные, а гордым высокие мысли низложи! Прощайте! Даруй вам Бог смирение и терпение.
Салос запел и побежал к дверям. Последние слова бояре уже слышали из сеней, и скоро на улице, под окнами наместникова дома, раздался голос удаляющегося юродивого:
Псков мой, Псков,
Заповедный кров,
Что-то видятся мне
Твои башни в огне!
– Не к добру его песни! – говорили бояре. – Недавно же, видимо, было во Пскове знамение: лучи огненные расходились по небу; не знак ли гнева Божия?
Через несколько дней князь Курбский встревожен был вестями из Москвы; он узнал от прибывшей в Псков супруги своей, что новые жертвы безвинно гибли по подозрениям Иоанна и проискам любимцев царя. Часто приходил он в собор, освящённый славными воспоминаниями для псковитян, поклоняться останкам доблестных князей Гавриила и Довмонта, искал утешения веры, но едва мог укротить порывы оскорблённого сердца. Казалось, невидимые зложелатели человеческого спокойствия старались отравлять мир души его. До него беспрестанно доходили слухи об угрозах Иоанна и новых бедствиях. Терпя оскорбления, видя опасность, Курбский, по убеждению супруги, обращался к митрополиту Макарию и к новгородскому архиепископу Пимену, просил их напомнить Иоанну о заслугах его, но заступничество первосвятителей только отдаляло, а не отвращало жребий, ему грозящий. В Курбском погасла уже преданность к Иоанну, смутные мысли овладевали душой его. Он таил свои намерения, но, встречаясь с Салосом, всегда чувствовал замешательство; взор этого старца, казалось, проникал в сердце Курбского, угадывал борение мыслей его.
В один летний день князь, осматривая шатры воинов сторожевого полка, расположенные на лугу за Предтеченским монастырём, увидел Николу, спящего на хворосте возле монастырской стены.
– Никола спит на хворосте! – сказал он сопровождавшим его. – Немного нужно для доброго старца, он блажен в нищете своей, но здесь жарко, солнце печёт, ноги его обнажены!
Юродивый открыл глаза и поднялся с хвороста.
– Хорошо уснуть на солнышке! – сказал он Курбскому. – Хорошо жить под Божьим кровом!
– Здравствуй, старец! – сказал Курбский.
– Холодна рука твоя, Андрей, но горячо сердце; хлад в мыслях твоих, пламень в душе твоей. Прощай!
– Куда же идёшь ты?
– Если хочешь, пойдём со мной, – сказал Салос. – Авось не собьёмся с дороги, прибавил он с таинственным видом.
– Пойдём, – отвечал Курбский, желая знать, что скажет провидец.
Салос, взяв его за руку, медленно шёл с Курбским через поле.
– Был зной, а вот и облака! – сказал он. – Облака безводные, ветром гонимые. Смотри, вот деревья... немного осталось листьев.
– Листья их поблекли под зноем, облетели с ветром, – сказал Курбский.
– Мало в них крепости, – сказал Салос, и ты – сильный воевода, а нет в тебе твёрдости... Горько тебе, Андрей, но не спеши бежать, чтоб не набежать на зло!.. Солнце везде увидит тебя, где бы ни укрылся ты, а очи Господни тьмами тем светлее солнце!
– Не понимаю тебя, старец!
– Андрей! Ещё успеешь венчаться, когда жена твоя будет кончаться.
– Странны слова твои.
– Сетует на тебя, горько сетует предок твой, князь Феодор.
– О чём сетует он?
– Напрасно! Ты князь и боярин, сердце твоё не должно знать смирения; предки твои святые, и ты должен мстить за обиды. Но смотри, чтоб меч твой не грянул бедой на тебя.
Курбский содрогнулся, поражённый прозорливостью юродивого.
– Разве ты знаешь мысли мои? – спросил он.
– Смотри, вот косогор, – сказал Салос. – Разве я не вижу его? За косогором долина, всё молодой лес да кустарник, а есть и старые дубы... Эге, да вихрь подымается в поле. Андрей, смотри, как мягкая трава стелется, как ветер обрывает листья и кружит их по воздуху... Смотри, мчатся с пылью и прахом! Слабые листья.
– Будет буря! – сказал Курбский. – Чёрные тучи разостлались по небу.
Салос шёл безмолвно, опираясь на посох.
– Гроза близка, отец мой.
– Да, но крепкий дуб стоит под грозою, не трогаясь с места.
В это время сильный вихрь ударил из тучи, опрокинул пред собою деревья, заскрипел дуб... Вдруг небо засверкало стрелами разлетевшейся молнии, и гром разразился с ужасною силою, как будто небо обрушилось на землю.
Оглушённый ударом и ослеплённый блеском, Курбский остановился и несколько минут думал, не зная, куда идти. Наконец он оглянулся на Салоса.
– Смотри, – сказал юродивый спокойно, как бы продолжая прерванную речь, – дуб этот, сломленный вихрем и опалённый молнией, не переброшен, как лист, на чужое поле, но пал на том же месте, где вырос. Честно его падение пред Господом!
Сказав это, он благословил расколовшийся дуб, бросясь в кустарник, скрылся от глаз изумлённого Курбского.
Странные угрозы и песни юродивого немногих из жителей Пскова приводили в уныние; многие ещё не верили бедствию, не видя его и почитая слова юродивого расстройством ума. Салоса уважали за благочестие, но смеялись над его песнями. Нравы псковитян в это время отклонились от непорочности предков; богатство ввело роскошь, и новгородское удальство приманивало псковитян подражать буйству Новгорода, слывшего в народе старшим братом Пскову.
Не прошло и двух дней, как псковитяне испуганы были звоном колоколов, возвещавших пожар. Огонь появился у нового креста на полонице. Небрежность ли стражи или смятение испуганного народа были причиной, что пожар усилился, но силой ветра перебрасывало искры и горящие головни через реку; тут запылало Запсковье, и под тучами дыма пламя быстро стремилось из одной улицы в другую, охватывая вершины зданий; церкви казались огненными столбами в разных концах города; между ними со страшным треском разрушались дома, при воплях народа и не умолкающем звуке набата, призывавшего отовсюду на помощь. Ужас ещё увеличился взрывом пороховых погребов; казалось, огнедышащая гора вспыхнула над Псковом, извергая в воздух град камней и пепла; пламя, как лава, с новою силою разлилось по улицам, и пятьдесят две церкви погибли в пожаре. Тогда-то народ окружил Салоса и, упадая к ногам его, просил помолиться о прекращении бедствия. Никола проливал с ними слёзы и помогал таскать воду из реки, приговаривая: «Господь наказал за грехи по правде, помилует по благости!»
На другое утро ещё густой дым застилал всё небо над Псковом; большая половина города представляла пожарище, и самый Свято-Троицкий собор обрушился в пламени; едва успел усердный народ вынести святые останки князей Гавриила и Довмонта, и сам Никола Салос среди пожара и разрушения вынес в церковь Преображения Господня мечи князей, защитников Пскова.








