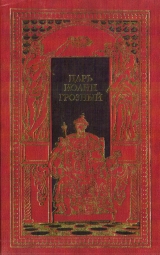
Текст книги "Царь Иоанн Грозный"
Автор книги: Борис Федоров
Соавторы: Олег Тихомиров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 48 страниц)
Царь Иоанн Грозный
Борис Михайлович Фёдоров
Князь Курбский
Часть первая
ГЛАВА IЮродивый
Служба закончилась, и при торжественном звоне колоколов псковитяне благоговейно выходили из Свято-Троицкого собора. Перед народом шёл степенный посадник об руку с государевым наместником; на паперти, обратясь к храму Божию, он трикратно осенил себя крестом и, кланяясь на все стороны, поздравлял народ с праздником и оделял деньгами слепцов и недужных, стоявших на ступенях паперти. За ним, сопровождаемый степенным тысяцким и боярами, шёл воевода большого полка князь Курбский, беседуя с воеводою Даниилом Адашевым о священном пении. Все почтительно расступались. «Доблестный Курбский, славный воитель!» – говорили в толпе, указывая на любимца Иоаннова, и не одна стыдливая красавица, отдёрнув фату, украдкой бросала взгляд на боярина. Посадник просил князей и бояр отведать его хлеба и соли по случаю именин; звал и почётных граждан, и именитых купцов. Вдруг, пока стремянные, ожидавшие у ограды, подводили статных боярских коней, раздался крик: «Юродивый! Юродивый!»
Курбский посмотрел в ту сторону, где теснился народ. Он увидел юродивого; ветхое рубище, накинутое с одного плеча, покрывало его; железная цепь опоясывала; волосы, распущенные по плечам, развевались от ветра, но на лице, изнурённом и бледном, сияло спокойствие. Все выходили из собора; лишь он один шёл в храм и, размахивая перед собой посохом, пробирался сквозь толпу.
– Юродивый! – кричали ему, – поздно идёшь на молитву.
– Молиться никогда не поздно! – отвечал он.
Он прошёл мимо посадника, не поклонясь ему, не поклонился он ни князю Курбскому, ни гордому воеводе Басманову, но в то же время преклонил смиренно голову пред служителем, подводившим Курбскому коня, и простёрся на землю пред мальчиком, которого стрелец оттолкнул пикой с дороги, крича народу: «Место князьям, воеводам!»
– Знаешь ли, кто он будет? – сказал юродивый. – Смирись, чти непорочное сердце.
Стрелец замахнулся было на него, но Курбский остановил его.
– Для чего ты поклонился слуге, не почтив нас приветствием? – спросил Басманов.
– Думаете ли, бояре, что все, идущие здесь позади, пойдут позади вас и в веке будущем?
Юродивый вошёл в церковь и, повергшись пред гробницею, в которой почиют святые останки князя Довмонта, стал безмолвно молиться.
– Кто этот чудный старец? – спросил Курбский посадника.
– Имя ему Никола, иноки прозвали его Салос[1]1
То есть по-гречески – юродивый.
[Закрыть]. Рода его не знаем – и когда спрашивали: откуда он, то всегда отвечал: странник земной. Уже два года, как он обитает во Пскове. Жилище его – летом под кровом неба; спит он у стены Довмонтовой или под деревом в поле; зимой люди добрые зовут его в свои домы; одну ночь проводит он на богатом ковре, в тёплой светлице, на другой день застают его спящим в стойле близ яслей или в тесном и холодном подклете. Обнажёнными стопами ходит он в зной по горячему песку, а в трескучий мороз – по снегу и льду; ест чёрствый хлеб, пьёт одну воду. Играет с детьми и, лаская последнего калеку из чёрной сотни, неприветлив с боярами. Но кто знает, может быть, он и прав...
– Да, – сказал Курбский, – мудрость века сего есть безумие пред Богом, по святому писанию. Но отчего так изъязвлены его ноги?
– Вскоре после нового года – это было в последних днях сентября[2]2
Новый год тогда считался с сентября.
[Закрыть], вошёл он в дом дьяка Ртищева, что у реки Псковы, возле каменных ворот. Подозвав к себе детей, игравших на дворе, и целуя в чело, говорил каждому: «Прости, мой добрый, иди, мой прекрасный!» Привыкнув к юродству его, не дивились тому; но не прошло недели, как в доме Ртищева открылась язва и несчастные отцы предали земле детей своих. За несколько недель перед тем Салос вздумал снова войти в дом сей, но его встретили кольями и проводили камнями, так что едва не дошло дело до губного старосты. Хорошо, что я распорядился, а то чернь вломилась бы во двор и дьяку было бы худо – его же в соседстве не любят. За десять лет пред сим, когда выгорел Псков, в доме Ртищева бросились не помогать, а грабить.
– Честь тебе, посадник! – сказал Курбский, оглядываясь вокруг. – Я не вижу и следов пожара, а слышал, что от большой стены до Великой реки только пять домов уцелело.
– Нет, боярин, много ещё мне потрудиться для Пскова и Святой Троицы. Правда, что соломенных кровель мало, дворы богачей выше прежнего, над палатами возводят хоромы, но прежде с одного этого места было видно полсорока светлоглавых церквей, а теперь и пяти не начтёшь; не блестят верхи их при солнце! Где было белое железо, там дерево.
Посадник вздохнул.
– Прежде, – продолжал он, – на тридцать рублей можно было поставить каменную церковь о трёх верхах, а теперь вдвое дай – не поставишь. Дед мой дал полсорока рублей – башню возвёл, а теперь люди те же, да время не то.
– Не печалься, посадник! – сказал Курбский. – Слово даю, когда поможет мне Бог сослужить царю новую службу, пришлю к тебе из Ливонии немецкого серебра и золота, и с этого места надеюсь увидеть с тобою более прежнего светлоглавых церквей!..
Солнце уже высоко поднялось на полдень, и жители Пскова, после праздничного обеда, сладко засыпали на дубовых лавках, на пуховых изголовьях, когда на широкий двор степенного посадника ещё только начали собираться званые гости, привязывая статных коней своих к железным кольцам.
В это время Никола Салос вышел из собора. Улицы были пусты, торговые ряды заперты, кое-где дети играли в городки у тесовых ворот, бегая перед бревенчатыми избами по мягкой траве.
Тихо пробирался старец на Завеличье, через высокий мост, придерживаясь за красивые рели[3]3
Перила.
[Закрыть]. Скоро миновал час отдыха... запестрели одежды, повысыпал на улицы народ, и опять окружили Салоса.
– Леонтий! – сказал юродивый, – завтра я приду к тебе в лавку. Приготовь мне кусок парчи да кусок тафты. Денег я не плачу.
– Возьми, что изволишь, – отвечал Леонтий с поклоном. – Помолись за меня и за семью мою.
– Когда так, – сказал Салос, – то отнеси и тафту, и парчу к старухе, вдове старосты Василия, в приходе жён Мироносиц, на Скудельницах. Смотри же, отдай от себя и скажи: на бедность твою Бог посылает.
– А я думал помочь твоей нищете.
– Помогай нищете души, – молвил Салос и, увидев крестьянина, ехавшего мимо в телеге, закричал: – Половник Василий![4]4
Половниками назывались свободные земледельцы, нанимавшие поля для посева с договором отдавать половину жатвы владельцам.
[Закрыть] Что ты печален?
– Ох, отец мой, наказал нас Господь зимою бесснежною; пророчат неурожай. Будет четверть ржи по шестнадцати денег. Худо нам. Чем запастись на зиму?
– Видишь ли ты лошадь твою? – спросил юродивый.
– Как не видеть, отец мой?
– Она более тебя трудится и терпит. Трудись и терпи.
– Хорошо, отец, твоею святостию...
Салос закричал: «Боюсь, боюсь!», застучал посохом и бросился на другую сторону улицы. Там шёл ремесленник и, качая головой, говорил сам с собою:
– Немного же получил я за работу! Отдать три псковки долгу соседу Семёну, останется всего два пула[5]5
Самая мелкая медная монета того времени.
[Закрыть], и опять зарабатывай! Ни себе шапки, ни сестре бус не купил к Великому дню!
– Подай для Бога! – закричал жалобно Салос.
Бедняк оглянулся, увидев юродивого, и остановился от удивления. Салос протянул руку, ожидая подаяния.
– Прими для Бога, – сказал ремесленник и подал ему пул.
– Велик твой дар, благословен твой путь! – сказал, перекрестясь, Салос; он взял монету и протянул её богатому новгородскому гостю, который проходил мимо, размахивая бархатным рукавом своей шубы, опушённой чёрною лисицей.
– Ты что, старик?! – закричал новгородец, отталкивая его руку, так что пул покатился на землю, – за кого ты меня принял?
Салос с горестию посмотрел вслед новгородцу.
– Увы! – сказал он, – он отказался от смирения!
ГЛАВА IIПир у посадника
По высокому деревянному крыльцу поднимались гости в светлые сени дома посадника. Пред боярами и воеводами почтительно шли знакомцы их[6]6
Бедные дворяне, жившие в домах бояр.
[Закрыть], поддерживая их под руки на ступенях, скрипевших под их тяжестью. Вершники суетились на дворе, около боярских коней. В широкой, разгороженной светлице, по стенам обитой холстиною, перед святыми иконами, сияющими в среброкованных окладах, с венцами из синих яхонтов и окатного жемчуга, горела большая именинная свеча. Гости, проходя в светлицу из-под низких дверей, наклонялись и, обратясь к образам, крестились с поклоном и молитвою, после чего кланялись хозяину. Именинник подносил гостям заздравный кубок сладкой мальвазии.
Вошёл князь Курбский. Взглянув на иконы и, по благочестивому обычаю предков, перекрестясь трижды, пожал руку именинника, пожелав здоровья, и поклонился псково-печерскому игумену Корнилию, троицкому протоиерею Илариону, наместнику князю Булгакову и всем боярам и воеводам, которые при входе его встали с лавок, покрытых богатыми коврами. Сев на почётном месте, у красных окон, и положив на скамью горлатную шапку, он сказал посаднику:
– Благодарю за твой именинный дар и, как воин, дарю тебя ратным доспехом. Сей доспех прислан мне от царя Ших Алея, но у меня броня прародительская, над которой ломались мечи татарские, и другой мне не нужно...
Два боярских знакомца внесли чешуйчатую кольчугу из меди, с серебряными поручьми.
– Вот тебе, – сказал Курбский, – одежда для приёма незваных гостей, меченосцев ливонских.
– Ты, воевода, их встретишь и угостишь, – отвечал посадник, – а нам, псковичам, принимать твоих пленников.
– В войне, посадник, до Пскова не допустим, но с ливонцами нужно ухо держать востро. Знает Ивангород!..
– И в прошлом году они набегали на область псковскую, в Красном выжгли посад, – сказал Булгаков.
– Теперь снова русские сабли засверкают над немцами и русские кони изроют Ливонию, – сказал окольничий, Даниил Адашев.
– Любо, князь Андрей Михайлович, смотреть на коня твоего, – вмешался в разговор князь Горенский. – В поле ты всегда далеко за собой нас оставишь. Конь твой как стрела летит.
– Так аргамак мой – царский подарок за ратное дело в Ливонии. Государь велел мне выбирать лучшего из его коней. А я умею выбирать... Конь мой, как вихрем, вынесет меня из закамских дубрав, из ливонских болот. Пожаловал меня царь; драгоценная от него шуба соболья – роскошь для воина, привыкшего к зною и холоду, но конь, товарищ в поле – мне приятнейший из царских даров.
– И золотого, с изображением лица государева? – сказал протяжно Басманов, указывая на медаль, висевшую на кольчатой цепи, поверх голубого кафтана юного воеводы.
– Здесь художник изобразил царя, – отвечал Курбский, – но сам царь запечатлел свой образ в моём сердце. Милостивое слово его выше всякого дара. Никогда, никогда не забуду последних слов его...
Курбский остановился и замолчал, не желая хвалиться пред всеми царскою милостию. Но всем было уже известно, что перед походом призвал Иоанн Курбского в почивальную и сказал: «Принуждён или сам идти на Ливонию, или послать тебя, моего любимого. Иди побеждать!»
Уже придвинули лавки к длинным столам, накрытым узкими скатертями браными, на коих поставлены были деревянные блюда с золочёными краями, кубки, осыпанные перлами, и в красивой резной посуде стояли любимые приправы русского стола – лук, перец и соль. По зову хозяина, гости встали и, помолясь, шли к столам. Запестрела светлица разноцветными парчами, бархатом и струистою объярью богатых боярских кафтанов, ферязей, охабней. Садились по роду и старшинству: за большим столом сел наместник, воеводы и гости именитые, за сторонними – люди житые, дворяне и дети боярские. Один только гость не садился. Боярин Басманов хотел занять место рядом с Курбским, но окольничий Даниил Адашев опередил его, и Басманов, по предкам своим считавший себя старшим, остановился с неудовольствием.
– На пиру быть воеводам без мест! – сказал Курбский.
Смех гостей раздался по светлице, и Басманов, вспыхнув, сел ниже Адашева.
Пир начался жареным павлином и лакомым сбойнем из рыбы, приготовленным в виде лебедя.
Двое служителей с трудом несли на подставках огромного осётра.
– Богатырь с Волги, – сказал Адашев, – и не менее сверстнаго змея, из которого громили Казань.
Ещё двое служителей несли щуку необычайной величины.
– Чудо морское! – молвил один из гостей, попятясь от зубастой, разинутой пасти.
– Щука шла из Новгорода, а хвост волокла из Белаозера, – сказал толстый новгородец, осушая братыню серебряную.
Янтарная уха, караваи обходили кругом стола, между тем зашипели кружки бархатным пивом, из рук в руки передавался турий золочёный рог с мёдом.
Заговорили о подвигах ратных, о войне ливонской.
– Ливонцы будут просить перемирия, – сказал наместник.
– Не устоять им ни в битве, ни в мире, – промолвил посадник. – Помнишь, как было под Ругодивом[7]7
Нарва называлась русскими Ругодивом.
[Закрыть], когда они в перемирие, встретив великую пятницу за кубками, вздумали ударить из пушек через реку на Ивангород.
– Три дня, – сказал Курбский, – немцы пили без отдыха и три дня стреляли без умолку. Но, когда воеводы, дождавшись царского слова, грянули в них, витязи затихли и отправили в Москву послов просить мира, а мы взяли их Нарву.
– Бог явил великое чудо! – молвил игумен Корнилий.
– Расскажи, князь, порадуй сердца!.. – просили гости, и Курбский продолжал:
– Немцы, по обычаю, праздновали. В одном доме, где останавливались псковские купцы...
– В том самом, князь Андрей Михайлович, где проживал я с братом, отъехавшим в поморские земли, – сказал один из псковитян. – Мы-то и оставили там на стене святую икону...
– Увидев икону, немцы вздумали над святынею рыцарствовать: сорвали со стены и бросили в огонь. Громко смеялись, но вдруг весь огонь ударил вверх и запылала кровля. К тому же нашла сильная буря; вихрем раскинуло пламя, и весь Нижний город огнём обхватило. Храбрецы с жёнами и детьми бросились бежать в замок Вышегородский, оставя на страже у стен одни пушки. Стрельцы увидели и устремились через реку в ладьях на город ливонский; кому не досталось ладьи, тот плыл на доске; иные, выломав ворота домов и сдвинув на волны, переплывали реку. Воеводы не могли удержать ратников и пошли с ними. Всё войско, как туча, поднялось на Вышгород. Опомнились немцы, но поздно. Русские сквозь дым и огонь вломились в ворота и громили ливонцев ливонскими же пушками. Ругодив сдался, воеводы ливонские вышли из города, как бы в укор себе неся мечи, коими не могли отбиться. Ратников их выпустили без оружия. Неисповедимы силы Христовы в обличение дерзающих на имя Его! А икона найдена невредимою среди пепла и разрушения...
– Да прославляется Имя Господне! – сказал Корнилий. – Святую икону я принёс в Москву, где царь встретил её со всем освящённым собором.
– Да прославляется Имя Господне! – сказал Курбский. – После сего двадцать градов ливонских пали пред русскими мечами.
– Да славится Иоанн, победитель Ливонии! – сказал посадник, встав с места и высоко подняв красную чару. – За здравие царского дома!
– За здравие царского дома! – раздался радостный крик, и все гости последовали примеру посадника.
– За здравие царской думы его, за здравие бояр родословных!
– За Алексея Адашева, царского друга, за Сильвестра, опору царства, – сказал с восторгом Курбский и первый осушил кубок.
– За Адашева, за Сильвестра! – повторилось в кругу пирующих.
Боярин Басманов, нахмурясь, сказал:
– Князь, кубок предложен за здоровье мужей стародавних в русских родах... Мы пьём за Шуйских, Пронских, Мстиславских...
– И Курбских! – перебил его Даниил Адашев. – Отчиною предков их было княжение ярославское. Одна любовь к отечеству осталась в наследие им!
– За наместника царского в Пскове! – предложил Курбский.
– Первым пить псковичам! – сказал посадник, обратясь к Булгакову. – После воеводы Турунтая, пожара и мора, которыми в прошлых годах Бог наказал их, они при тебе отдохнули!
– Теперь не страшимся и литовцев, – сказал тысяцкий. – Крепок Псков наш, ограждён стенами, башнями, высокими насыпями, глубокими рвами.
– Не в стенах и не в башнях крепость его, – сказал Курбский, – но в мужестве граждан. Обступят ли Псков полки литовские, – пусть укажет воевода на гроб Довмонта, пусть повторит он ратникам слова его: «Братья, мужи псковские! Кто из вас стар, тот мне отец, кто из вас молод, тот мне брат! Перед нами смерть и жизнь. Постоим за Святую Троицу!» Слова сии воспламенят души мужеством и любовью к отечеству отразить силу противников. Так псковитяне, доколе гроб Довмонта и меч с надписью: «чести моей никому не отдам останется в Пскове, дотоле останется Псков, и чести своей никому не отдаст!»
– За подвиги храбрых, за воителей доблестных, – сказал наместник. – Князь Андрей Курбский, ты носишь за отечество славные раны. Прежде всех пьём за здоровье твоё!
– Много сынов у отечества! Да цветёт славою Россия, – сказал Курбский, и слёзы заблистали в глазах его.
– Воевода Басманов! – заметил посадник. – Ты не выпил кубка.
– По всему видно, посадник, что в высоком доме твоём глубокие погреба, – отвечал Басманов, неохотно поднимая кубок.
Румянец блистал на лицах; весёлые гости шутили. Разрушили коровайную башню, за нею появился на столе сахарный медведь.
– Не взыщите, дорогие гости, – говорил посадник, – чем Бог послал.
Бояре обнимались с ним и обнимали друг друга.
– Сладок твой мёд, – сказал наместник посаднику, – но слаще из хозяйкиных рук. Доверши твой пир, почти гостей, покажи нам посадницу!
Посадник вышел и возвратился с хозяйкою. Низко поклонилась она гостям. Из-под накладных румян нельзя было видеть румянца стыдливости; но изумрудное ожерелье колебалось над атласной ферязью прекрасной посадницы; жемчужное зарукавье дрожало на полной руке, из-под чёрных ресниц голубые глаза не поднимались на любопытных гостей. Взяв серебряную стопу, налила она шипящего мёду в кубок, первому поднесла с поклоном своему мужу, потом стала к стене и, склоняясь застенчиво на белый рукав, потчевала подходящих бояр и воевод; потом, снова приветствуя поклоном всех гостей, вышла.
– Не правда ли, князь, что две родные сестры не сходнее, как твоя княгиня с посадницей?.. – сказал Даниил Адашев Курбскому. – Одна разница, что княгиня твоя, против обычая, не белит, не румянит лица, за что её жёны наши, по Москве, осуждают.
– Не наряд жену красит, а кротость, – отвечал Курбский.
– Когда-то, – сказал Адашев, – попируем мы в семье твоей?
– Я живу в ратном поле. Родительницу свою мало видел, от жены был далеко. Но завоюем Ливонию, отдохнём в Москве. Будем беседовать с Сильвестром, с братом Алексеем Адашевым. Повеселимся в полях с соколами и с белыми кречетами. Помнишь, в забавах мы были всегда неразлучны, как теперь сын твой Тарх и мой Юрий.
– Тесть мой, Туров, ждёт не дождётся, когда мы будем вместе.
– Туров? – переспросил посадник. – Каково поживает старый друг мой?
– Прихварывал, – отвечал Даниил Адашев, – но целебные травы, которые посылал я из Ругодива к родственнице нашей, Марии, помогли ему.
– Но видение его не к добру, – сказал Курбский.
– Какое видение? – спросил с любопытством посадник.
– При отъезде моём из Москвы, – сказал Курбский. – Туров сказал мне: «Прощай, князь, не увидимся»! – Я изумился. «Как не увидимся?» – спросил я его. – Скоро дети наденут по мне смирное платье[8]8
Так назывался траур.
[Закрыть]. – «С чего тебе в мысли пришло?» Тогда он рассказал мне странный сон. «Я видел, – говорил он, – видел так ясно, как теперь тебя вижу, что я иду по высокому и длинному мосту. Казалось мне, будто, вступая на него, я был ещё в летах детства. Около меня резвились товарищи моей юности. Многих из них я давно уже похоронил и оплакал. Идучи, я скоро потерял их из виду, и казалось мне, будто бы я чем далее шёл, тем более входил в лета, и скоро постарел... Увидел я семейство моё, Адашевых, тебя. Вдруг мост, который был твёрд, стал подламываться под ногами моими, доски распадались, и я с трудом пробирался по остающимся брёвнам, над кипящими в глубине волнами. Внезапно как бы хладный лёд коснулся руки моей, и я увидел, что возле меня кто-то стоял под белым покровом. В это время ударил вихрь с облаком пыли, сорвал белый покров и обнажил остов безглавый, у ног которого лежала в крови моя голова. Мост обрушился, я закричал – и проснулся. В волнении духа я устремил глаза на мою рукописную библию; она лежала, раскрытая, на столе у постели моей, и я, обернув лист, на котором за день пред тем остановился, читал: се глад и казнь! – Ужасное предвестие охладило кровь в моём сердце». Так говорил мне Туров и прибавил: «Прощай, Курбский!» – Сознаюсь, бояре, какое-то печальное чувство тогда овладело мною, и я не мог с Туровым без скорби расстаться.
– Оставим жёнам боязнь, – сказал Даниил Адашев, – удалим смутные мысли. Сегодня Туров пирует в царских палатах с моим братом.
– А мы здесь выпьем за здоровье его, – сказал наместник. – Здоровье друга моего Турова!
– Здравие Турова! – повторили гости.
В это время прибыл гонец из Москвы, с грамотою государевою, к князю Андрею Михайловичу Курбскому. Низко поклонясь всем боярам, он почтительно подал Курбскому царскую грамоту.
Курбский развернул свиток и стал читать письмо Иоанна.
Царь благодарил его за поспешность в распоряжениях воинских, хвалил доблести его и заканчивал письмо надеждами на новые победы, указывая ему первой целью – считавшийся неприступным – замок епископа ревельского, Фегефейер[9]9
Фегефейер на немецком языке означает Чистилище.
[Закрыть].
– Ступай, князь православный, в немецкое чистилище! – сказал, шутя, наместник Булгаков.
Между тем гонец подал Даниилу Адашеву свиток, запечатанный перстнем его брата Алексея Адашева.
С изумлением читал окольничий письмо брата и не мог скрыть своего смущения.
– Курбский! – сказал он затем. – Брат мой оставил царскую думу и принимает начальство над войсками в Ливонии. Сильвестр удалился в обитель Кирилла Белоозёрского. Тесть мой Туров... – Он не договорил, закрыл руками лицо и подал письмо Курбскому.
Тот прочёл: «Туров в темнице...»
Басманов улыбался.
Изумление выражалось на лицах всех. Каждый старался постигнуть причину внезапного удаления Адашева и Сильвестра и каждый спешил переговорить о том наедине со своими ближними.
Посадник проводил до крыльца последнего гостя, покачал головой, взглянув на служителей, выносивших в кладовую серебряные чары и кубки, вздохнул и в раздумье вышел из опустевшей светлицы.








