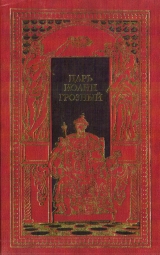
Текст книги "Царь Иоанн Грозный"
Автор книги: Борис Федоров
Соавторы: Олег Тихомиров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 48 страниц)
Грамота
Мы оставили князя Курбского на пути к Вольмару, где у городских ворот ждал его слуга с двумя конями. Быстро понёсся князь под мраком ночи по знакомой дороге, не отдыхая до самой горы Удерн. Здесь он остановился в роще до рассвета; слуга стерёг коней у источника. Дерпт остался далеко; гора Удерн находилась несколько в стороне от проезжей дороги, но Курбский, ожидая погони, отдыхал недолго. Прежде, нежели блеснуло солнце, он сел на коня, и восходящее светило дня уже застало его в лесу.
За лесом путь его преграждала река, стремившая тёмные воды между песчаных холмов; она носила название Черной. Суеверное предание разносило молву, что в ней потонул чёрный витязь и что тень его иногда являлась на берегах пугливым путникам. Узкий, сплочённый из брёвен плот привязан был к дереву у берега реки; моста для перехода не было, и перевозчик ещё не появлялся. Он спокойно спал на прибрежном холме, в ветхой избушке. Лучи солнца, блеснув в "отверстие хижины, разбудили его; он потянулся, открыл глаза и закричал от испуга: его плот быстро нёсся к противоположному берегу. Человек в чёрной одежде стоял возле двух чёрных коней на плоту, который, казалось, двигался сам собою; за конями не видно было слуги, управдявшего плотом. Воображению эстонца представлялось такое сходство незнакомца с чёрным витязем, что он нисколько не сомневался в истине предания и, зажмурив глаза, бросился на пол, дрожа от страха.
По песчаным возвышениям, на которых местами росли тёмные сосны и можжевельник, Курбский продолжал путь к Вольмару; по обеим сторонам видны были болота, поросшие мхом. Открывалась уже долина пред Вольмаром, по которой извивается извилинами светлая Аа. Вдалеке белели ряды палаток польского войска, составлявшего сторожевую цепь; последние лучи солнца освещали долину; вечерний ветерок веял прохладой от струй реки, которая, уклонясь влево, возвращалась быстрым изворотом в долину Вольмарскую, расстилалась полукругом и, снова изменяя своенравное течение, стремилась по лугам в противоположную сторону. Курбский, примечая утомление своего коня, сошёл с него, сел на прибрежный камень, погладил по спине изнурённого аргамака, велел слуге провести коней по траве и утолить их жажду; а сам, сев на камень, обозревал окрестности. Верхи вольмарских зданий виднелись из отдалённых садов, отражая блеск огнистой зари; восток туманился в отдалении влажными парами, и синий сумрак сливался с розовым сиянием запада. Курбский услышал лёгкий шум, стая птиц пролетала пред ним, высоко поднявшись над рекою. Курбский следил за их полётом; они стремились к Нарве и вскоре скрылись.
Он увидел двух литовских всадников, с двумя широкими посеребрёнными крыльями, прикреплёнными к панцирю. Князь сказал им, что желает видеться с верховным вождём литовского стана.
Литовцы, удивлённые видом и осанкою Курбского, отвечали, что готовы проводить его в шатёр воеводы Станислава Паца, начальствовавшего в литовском стане, под Вольмаром.
– Не воеводу Паца, – сказал Курбский, – я должен видеть королевского наместника в Ливонии, князя Радзивилла. Мне известно, что он в Вольмаре.
– Великого маршала литовского, князя Радзивилла? – сказал один из литовцев, посмотрев с удивлением на Курбского. – Много ступеней до наияснейшего князя: начальник наш, Станислав Пац, а есть ещё воевода Зебржидовский; а может идти и выше, к старосте самогитскому Яну Ходкевичу; сам светлейший князь Радзивилл не в стане, он в городском замке.
– Я сказал, что мне должно говорить с самим королевским наместником, ваше дело – указать мне дорогу к нему.
Литовцы отрядили несколько воинов для сопровождения незнакомца в Вольмар, но, желая показать принятые ими предосторожности, побрякивали своими саблями.
Князь Радзивилл, почётнейший из вельмож при польском дворе, гордый богатством и властью, уважаемый королём Сигизмундом Августом за личную храбрость, не раз встречался с князем Курбским на поле битвы и не мог забыть лицо этого военачальника. Когда известили его о русском, желающем видеть его, Радзивилл велел пустить его, но при взгляде на него поднялся с кресел, забыв свою важность и, казалось, не верил внезапному появлению Курбского.
– Если не обманываюсь, – сказал Радзивилл, – я вижу...
– ...изгнанника русской земли, – прервал его Курбский, – пришедшего просить убежища от великодушия короля Сигизмунда Августа...
Лицо Радзивилла прояснилось радостью, хотя в глазах его ещё заметна была недоверчивость, при виде столь знаменитого человека, прибегающего к покровительству противников. Но он скоро уверился в том, чему желал верить, и ожидал уже видеть ослабление сил московского царя, надеясь, что за Курбским многие перейдут в пределы Польши.
Оставшись наедине с Курбским, Радзивилл обнадёжил его именем короля, что он будет принят согласно его сану и доблестям.
– Сигизмунд Август, – сказал он, – умеет чтить мужество в противниках и будет хвалиться, преобретя преданность героя, останавливавшего успехи его оружия.
Предложив Курбскому остаться в Вольмарском замке, торжествующий Радзивилл спешил отправить гонца к королю с неожиданной вестью и угадал удовольствие Сигизмунда Августа. Король, находившийся в Вильне, приглашал к себе Курбского занять первостепенное место между его вельможами.
Свершились ожидания Курбского. Самолюбие его было удовлетворено, и все мысли его обратились к возможности ужаснуть Иоанна. Этот порыв возмущённых чувств заглушил голос упрёка в душе его, и сама скорбь об оставленном семействе уступила место голосу мести, болезни гордой души его. Готовясь к свиданию с королём, Курбский обдумывал предприятия мести, к собственному своему позору бесславя имя своё изменой.
В то же время он с нетерпением ожидал вести о прибытии своего семейства в Нарву, но, к удивлению его, Шибанов, успевший пробраться из Нарвы окольными дорогами в Вольмар, известил его, что, остановленный в пути, потерял из виду княгиню – и напрасно несколько дней ожидал её в Нарве. Князь успокаивал себя мыслью, что Тонненберг, известный ему хитростью и осторожностью, где-нибудь укрывает её в надёжном месте до первой возможности прибыть безопаснее в Нарву, тогда как, по слухам из Дерпта, русские воеводы, не находя городских ключей, вынуждены были разломать городские ворота и послали погоню.
Желал ли князь оправдать пред Иоанном или пред самим собою своё преступление, но, не показывая робости беглеца, решил вызвать самого Иоанна к ответу пред Россиею и пред Польшею, пред современниками и потомством. Он начал писать к нему грамоту, объясняя причину своего бегства. Перо быстро бежало в дрожащей руке его по длинному свитку, но в смятении души Курбский не находил ни мыслей, ни слов к выражению всего, что желал сказать; подробности снижали силу письма, а негодование стремилось выразиться в каждом слове. Курбский разорвал свиток, отбросил его и начертал на другом, строки, которыми был довольнее; чувствовал слёзы, вырывающиеся из глаз на эту грамоту, не хотел стереть их и оставил свидетелями скорби своей.
«Царю от Бога прославленному, – писал он, – ещё более воссиявшему благочестием, ныне же омрачённому за грехи наши. Да вразумится прокажённый совестью, какой нет примера и среди безбожных народов! Не буду исчислять всех дел твоих, но от скорби сердца, гонимый тобой, скажу в кратких словах. О, царь! За что погубил ты сильных в Израиле? Воевод, тебе Богом данных, предал смертям? Проливал святую, победоносную кровь их в самих храмах Господних, обагрял кровью мучеников порог церковный, воздвиг гонение на преданных тебе, полагающих за тебя душу свою? Не праведно обвинял ты в изменах и чародействе, усиливаясь свет прелагать во тьму и называть сладкое горьким. Чем прогневали тебя христианские представители? Храбростью их покорены тебе царства, где праотцы наши были рабами. Счастием и разумом вождей твоих даны тебе сильные города германские; за это ли нас губишь? Ужели ты думаешь быть бессмертным или, прельщённый в небывалую ересь, не думаешь предстать нелицемерному Судье на страшном суде Его? Он Спаситель мой, сидящий на престоле херувимском, судья между мною и тобою. Какого зла не претерпел я? Не могу исчислить всех бед и напастей! Ещё душа моя объята горем и рука трепещет от скорби. Всего лишён я и из земли Божией изгнан тобою. Не упросил тебя покорностью, не умолил слезами, не преклонил к милости прошением святителей церкви; ты воздал мне злом за добро, за любовь непримиримою ненавистью. Кровь моя, как вода пролитая на брани, вопиет на тебя к Богу. Да будет Бог-сердцеведец обличитель мой; я рассмотрел себя в делах, мыслях и совести и не вижу себя ни в чём пред тобою виновным».
Исчислив заслуги свои, Курбский писал:
«Хотел говорить я пространнее о делах моих, совершенных на славу твою, силою Христа моего, но уже не хочу; пусть лучше знает Бог, нежели человек; Господь всем воздатель. Знай же, о царь, что уже не узришь в мире лица моего до дня преславного пришествия Христа моего, но до конца моего буду вопиять на тебя со слезами Богу и Матери Владыки херувимского, надежде моей и защитнице и всем святым, избранникам Божиим и государю праотцу моему, князю Феодору Ростиславичу. Тело его нетленное благоухает, источая от гроба струи исцеления; ты знаешь об этом! Не думай о нас как о погибших, избиенных тобою, невинно заточенных и изнанных. Не радуйся, хвалясь бедствием их, как победою. Избиенные тобою, предстоя у престола Господня, просят отмщения; заточенные и изгнанные тобою непрестанно вопиют к Богу день и ночь. А ты хвалишься в гордости, при этой временной и скоротекущей жизни, вымышляя мучения на христиан, твоих подданных, предавая поруганию образ ангельский с ласкателями, товарищами пиров твоих, губителями души твоей и тела. Это письмо моё, до сих строк слезами моими смоченное, велю и в гроб с собой положить, ожидая идти с тобою на суд моего Бога Спасителя. Аминь.
Писано в Вольмаре, граде государя моего Августа Сигизмунда короля, с надеждой утешения в моей скорби его государевой, а более Божией милостью».
Оставив у себя список с этой грамоты, Курбский запечатал свиток перстнем. Но кому вверить грамоту для доставления Иоанну? Курбский позвал Шибанова.
– Здесь моё оправдание, – сказал он ему. – Не успокоюсь, если не прочтёт царь этой грамоты, но кто осмелится передать её Грозному? Могут утаить или истребить, а я хочу, чтобы она достигла в Москву, прямо в руки Иоанна.
– Есть боярин, на кого надёжно положиться тебе, – отвечал Шибанов.
– Если ты знаешь, скажи, кто возьмёт на себя труд и страх подать царю мою грамоту?
– Я, – отвечал Шибанов.
– Ты, Василий? – спросил с удивлением Курбский.
– Я, твой верный слуга, – повторил Шибанов решительно.
– И ты не страшишься?
– Готов умереть за тебя, боярин, – отвечал Шибанов, – да истосковался по Москве; хоть бы раз ещё взглянуть на святые соборы! Всё постыло в чужой, неправославной земле.
– И здесь земля христианская, православных не гонят, худо тебе не будет.
– Ах, князь-господин, остался у меня в Москве отец дряхлый, а пред выездом из Юрьева слышал я, что старик мой ослеп, а всё от слёз по Данииле Фёдоровиче Адашеве, с которым он был в крымских походах. Некому будет закрыть глаза его, некого будет и благословить ему; на душе моей ляжет тяжкий грех, когда я останусь здесь. Ты, боярин, в безопасности, слуг у тебя будет много, отпусти Шибанова на святую Русь; поживя в Москве, я возвращусь к тебе.
– Жаль твоего старика. Я готов отпустить тебя, – сказал Курбский, – но ты слуга мой: тебя погубят!
– Погубят, не моя вина, – отвечал Шибанов, – смерти не боюсь; двух не будет, одной не миновать, а грешно мне покинуть слепого отца на старости; боюсь гнева Божьего!
– Жаль мне расставаться с тобой, но, когда ты решился ехать в Москву, отвези мою грамоту. Если тебя остановят в пути, скажи, что ты послан к самому царю, а когда приедешь в Москву, подай грамоту в руки Иоанну. Может быть, совесть пробудится в нём, правда устыдит его, да и бесславно царю мстить слуге за господина. И сам же он говорил, что послов не секут, не рубят.
– Поверь мне грамоту, – сказал Шибанов, – я подам её самому государю.
– А если тебя не помилуют?
– Грозен царь, да милостив Бог, на земле смерть, а в небе спасенье. За правду бояться нечего, а потерпеть – честно!
– Не удерживаю тебя, мой верный Шибанов, – сказал Курбский, обняв его, – снаряжайся в дорогу.
– Благодарю тебя князь, мой отец. Что же мне прикажешь на путь?
Курбский поручил проведать о жене своей и сыне, достигли ли они до Нарвы, и переслать весть из Новгорода чрез купца иноземного.
В тот же день верный слуга приготовился к отъезду, пришёл взять грамоту и проститься с боярином. Приняв от Курбского грамоту, Шибанов перекрестился, поцеловал руку его и поклонился в ноги.
Курбский, как бы предчувствуя, что не увидит его более, прижал его к сердцу и, плачущий, опустил голову на плечо его. Исчезло расстояние между воеводой и слугой. Казалось, два друга прощались.
– Василий, ты едешь на вольную смерть?
– Богу живём, Богу и умираем; позволь сослужить мне последнюю службу! – отвечал Шибанов и, поклонясь ещё раз своему господину, отёр слёзы и сел на коня.
ГЛАВА VIВерность
В раздумье ехал Шибанов по берегу реки Аа; мысли одна другою сменялись; на сердце его было тяжко, а пред глазами далеко раскидывались поля и цепью тянулись холмы. Заря окинула розовою завесою небо, и рощи, огибая извороты реки, вдали покрывались туманом, но ещё сверкала в излучинах светлая Аа, и всё было тихо, всё дышало весной.
Переодетый в одежду купца, Шибанов доехал до окрестности Нарвы, осторожно разведывая о Тонненберге, и узнал от встретившихся эстонцев, что Тонненберг погиб во время наводнения; о княгине с сыном говорили то же самое. Не зная ничего наверное, по обыкновению, молва прибавлялась к молве, увеличивая ужасы тем, чего не было. В Нарве о княгине, жившей тогда в эстонской хижине, не было никаких вестей, и Шибанов, поверив слухам, с убитым горестью сердцем повернул на дорогу к Москве.
Из Новгорода верный слуга через иноземного купца послал Курбскому весть о судьбе семейства его.
По большой московской дороге, на берегу Тверды, собралось множество торжковских горожан. Ярко пылали разложенные костры, около них кружились хороводы; голосистые песни разливались из конца в конец улицы; блеск огня рассыпался искрами на глазетных повязках сельских девушек, одетых в богатые цветные сарафаны. С хохотом смотрели они на перескакивающих чрез костры смельчаков.
У ворот одного дома сидели на завалинке два торжковских купца, разговаривая о торговых делах.
– Ну что, друг, – спросил один, – купили ли у тебя коня?
– Положили на слове, – отвечал скороговоркою другой, поглаживая усы и покряхтывая, – завтра дело сладим. Не приложив тавро, коня продавать нельзя.
– Правда твоя! Мичура накликал было беду, коня купил, а к пятнальщику не привёл; недельщик привязался; Мичура кошелём поплатился; недельщик отпустил душу на покаяние; а послышим – и сам попал в беду; проведал дьяк и взыскал с недельщика самосуд.
– Что дело, то дело; за самосуд поплатишься; а зачастую дьяки норовят и напраслину, благо выгода за тяжбу с рубля никак по алтыну.
– А будто худо? Зато меньше тяжб; не всякий захочет судиться.
– И поневоле захочешь, когда обижают; вот меня ни за что ни про что обидел боярский сын Щетина – по шерсти ему, собаке, имя дано – как не судиться! Хорошо бывало прежде, как вызывали на бой; дед мой говаривал: «Меня обидеть не смей, клевету не взведи, спрошу присяги и суда Божия, поля и единоборства! Хоть бы игумен то был – сам на поле нейдёшь, так бойца выставляй». А дядя-то был такой удалец, что приступа к нему не было.
– Где на Щетину управу взять? Слышь ты, он со всеми дьяками в ладу, сколько на него крестьян плачутся; житьё хуже холопов! То и дело, что ждут Юрьева дня, как бы перебежать поскорей к другому, и то не легко, дело бедное, плати пожилое за двор, за повоз, по алтыну с двора, да чтобы хлеб снять с поля, ещё два алтына.
– Угодил Богу, кто не давал Щетине на себя кабалу, а то за полтретья рубля[21]21
Два с половиною рубля.
[Закрыть] сгубить всю жизнь.
– Закабалить бы ему моего Петра, – сказал с усмешкою Гур. – Отдают же отцы детей в кабалу, а от Петра мне не ждать добра; глазеет по улицам, поёт с молодыми парнями да пляшет в хороводах; вот и теперь шатуном бродит, благо Иванов вечер.
– Дело молодое, теперь-то и погулять. Наживёт деньгу, с умом да с трудом, состроит себе и хоромы.
– К слову о хоромах: как летось был я в Москве, видел, что бояре стали строить каменные хоромы, слышь ты, как царские терема; все норовят по-новому, а каково-то будет в каменных палатах жить?
– Ну, оно так, в деревянных теплее, да ныне много и на свят Руси чужеземной мудрости! Все фрязины, немцы! От них несдобровать; навезли всякого снадобья, людей портить. До того дошло, что батюшка Грозный царь, как буря, всё ломит; всех чародеев без милости губит!
– Туда и дорога! Говорят – все адашевцы; и Курбский-то был за них, да видя, что худо, бежал в Литву.
– Полно, так ли, соседушка? Спознается ли он с нечистою силою? Ведь без него бы Казани не взять.
– А разве он даром храбровал? Нет, брат, сила в нём не человечья. В проезд свой из Москвы он у меня останавливался. Я и слугу его, Василья Шибанова, знаю.
– Ахти, – сказал Гур, – вот идёт покупщик мой.
– Что же, отвёл ли покупного коня заклеймить? – спросил, подойдя к Гуру, человек небольшого роста с окладистой бородою, в длиннополом синем суконном кафтане, опоясанный зелёным шёлковым кушаком и в остроконечной красной шапке, опушённой чёрной овчиной. – Деньги готовы, а мне надо ехать.
– Раньше утра нельзя, свет мой; день-то нынче праздничный, пятнальщик загулял.
– Не стал бы я ждать, если бы добрый мой конь ноги не повредил.
– Жаль такого коня, – сказал Гур.
– Как не жаль! Бывало от Москвы до Тулы сто восемьдесят вёрст без перемены проскачет. Отгулял свои ноженьки! Нечего делать; поглазеть хоть на хоровод.
Сказав это, он отошёл от них.
– Послушай, сосед, – сказал Варлам, который стоял в стороне и всматривался в боярского служителя, – остерегись!
– А что такое? – спросил тихо Гур.
– Да это слуга Курбского; надо дьяку заявить.
– Не ошибся ли ты?
– Уж я тебе говорю, это Шибанов; смотри, не упускай; худо будет, велено слуг Курбского ловить; я тебе говорю, что узнал его, хоть он и отрастил себе волосы.
– Что же нам делать? – спросил Гур.
– Да крикнуть нашим молодцам, чтоб схватили его.
– Дело, а то узнают, что купил здесь коня, так и нам несдобровать.
– Держи, держи! – закричал Варлам, и встревоженный народ хлынул толпой к ним.
– Кого, за что? – спрашивали Гура и Варлама.
– Слугу Курбского, – сказал Варлам, указывая на Шибанова. – Схватите его, ведите его к недельщику.
– Что вы, православные? – сказал Шибанов. – Вы видите, что я не бегу, а к недельщику и сам пойду; я человек проезжий, боярский слуга, и еду не к Курбскому, а в Москву.
– Что его слушать, ведите его к дьяку! – закричал Варлам, и Шибанова окружили и повели в дом недельщика.
Недельщик стал расспрашивать, и Шибанов сказал ему, что едет из Новгорода в Москву с грамотою к царю, а кто послал его, о том царь знает.
– Держите его до утра, – сказал недельщик, – и представьте завтра в суд к дьяку.
На другой день утром Шибанов стоял в приказной избе. На скамье, за дубовым столом, под иконою, сидел дьяк и возле него недельщик; пред ними стояли горожане, пришедшие в суд по делам.
Дьяк велел принять от одного половину бирки и приискать другую в ящике. Биркой называлась палочка в палец толщиною с зарубленными на ней метками; расколов её вдоль, оставляли одну половину у приёмщика, а другую – у отдатчика. Оказалось, что на палочке Рахманьки Сурвоцкого, когда приложили другую половинку бирки, намечены были крест, три косые черты и две прямые. Это означало, что принято от него в суд одно сто, три десятка и две пары беличьих шкур вместо денег, а Рахманько приговорён был к заплате в казну по суду.
После него подошёл боярский сын Щетина, человек угрюмого вида, и высыпал из мешка деньги.
– Что это? – спросил дьяк, нахмурясь.
– Грех надо мной, – отвечал Щетина, – зашиб своего холопа, а тот и не встал. Вот, – продолжал он, высыпав из мешка деньги, – пеня за убитого.
– Ещё, – сказал недельщик, – с него же велено взыскать купцу Дуброве тридцать белок.
– Принимай, – сказал Щетина, взяв от слуги узел с беличьими шкурками и подавая недельщику. – Теперь я отплатился; не дадите на меня бессудную грамоту.
– Хорошо, – сказал дьяк, – перед судом ты оправдан, да перед Богом-то виноват.
Щетина махнул рукою и вышел.
За ним позвали Шибанова. На все вопросы он отвечал только, что везёт грамоту к царю и никому не может отдать её, как в государевы руки.
Его не смели задерживать, но дьяк счёл за нужное отправить с ним двух стрельцов для надзора до самой Москвы.
Уже пробило пятнадцать часов дня на Фроловской башне, когда Шибанов приблизился к Москве. Между пространными садами и огородами шумели мельницы ветряными крыльями, далее дымились кузницы, а там белели московские стены, и тысячи церквей пестрели разноцветными главами и блистали святыми крестами.
– Привёл Бог увидеть! – сказал Шибанов, перекрестясь на златоглавые соборы, и прослезился.
Скоро стемнело; закинули рогатки по улицам; стража останавливала идущих, считая шестнадцатый час от восхождения солнца.
Недолго стучались стрельцы в тесовые ворота большого дома думного дьяка, Василья Щелкалова. Хозяин велел впустить их. Неутомимый в трудах, он и ещё один из московских сановников сидели за свитками, читая грамоты и скрепляя повеления боярской думы.
Стрельцы подали ему донесение торжковского дьяка, и Щелкалов с удивлением посмотрел на Шибанова, покачал головой и сказал ему:
– Зачем пришёл ты в Москву? Знаешь ли, что ждёт тебя здесь? В Москве нет дома Курбских, не признаешь и места, где был он; а ты осмелился идти с грамотой беглеца к государю?
– Он господин мой, – отвечал Шибанов, – и велел мне вручить государю своё писание; я повинуюсь, как Бог велел; хочу быть верным рабом.
– Раба неверного, – перебил его Щелкалов. – Боярин твой бежал к врагам русской земли, а ты пришёл от него в святую Русь!
– Не мне судить его, а Богу, – отвечал Шибанов. – Если бы я отступился от него в бедствии, Бог бы от меня отступился.
– Дело кончено, – сказал Щелкалов, – с чем пришёл, то и подай, примет ли царь от тебя грамоту или нет – не моё дело; завтра, пред государевым выходом в собор, будь у красного крыльца. Я доложу о тебе государю.
– Дозволь мне, боярин, повидаться со стариком, отцом моим.
– Не худо, – сказал Щелкалов, – да и простись с ним! – Ступай. – С этими словами он отпустил Шибанова.
На другой день, едва рассвело, Шибанов встал и, открыв ставни, заграждавшие окна, славословил Бога псалмами; потом поклонился в ноги спящему отцу своему и поцеловал его. Слепой старец проснулся.
– Ты уже встал, Василий? – спросил старик. – Мало отдохнул ты с дороги!
– Благослови меня, батюшка, снова на путь, – сказал Шибанов.
Куда же? – спросил старик. – И петухи ещё не пели.
– Нет, светло, батюшка; иду поклониться Успенскому собору.
– Ещё не скоро заблаговестят, – сказал отец. – Скоро ль воротишься ты?
– Хлопот много, – сказал Шибанов, – но Бог приведёт, скоро будем вместе.
– Управи Господи путь твой, родной мой, – сказал старик, – не могу я на тебя наглядеться!
Выйдя из ворот, Шибанов пошёл по улице. Он услышал, что кто-то назвал его по имени, оглянулся и увидел на скамье ремесленника, работающего под навесом, на котором висела на крючках разноцветная сафьянная обувь. Шибанов узнал своего знакомого Илью и сказал:
– Бог в помощь!
– Спасибо, – отвечал Илья. – Не знал я, что ты в Москве, забреди хлеба-соли отведать: для старого приятеля найдётся и каравай, и. мёду ковш. Добро пожаловать!
– Не время, – сказал Шибанов, – прости, до свидания!
С горестию видел добрый слуга пустое место, обнесённое забором; между размётанными брёвнами прорастала трава; здесь стоял прежде дом князя Курбского, а теперь ничего не видно было, кроме разрушения. Скоро Шибанов дошёл до кремлёвской стены и поворотил на Красную площадь. Сердце звало его к молитве, и он вошёл в Успенский собор.
Чрез некоторое время, держа в руке грамоту, Шибанов встал перед красным крыльцом; народ уже показывался на площади.
День был воскресный. Приближался час государева выхода. Скоро заметили Шибанова черкесские стражи и хотели отогнать от крыльца. На шум подошёл боярин Алексей Басманов.
– Отойди, старик, от крыльца, – закричал он, – царь скоро выйдет.
– Великий боярин, я должен подать государю грамоту, – отвечал Шибанов.
– Бойся утруждать царя, подай в приказ.
– Мне велено подать в царские руки его.
– О чём писано в грамоте?
– Богу знаемо.
– От кого эта грамота?
– Государю ведомо.
Боярин гневно посмотрел на Шибанова, но оставил его в покое.
Между тем раздался уже благовест; стольники и стряпчие показались на красном крыльце. Один из них нёс басмановский дар – жезл с острым наконечником, другой – государеву псалтирь рукописную; в народе послышался почтительный шёпот: «Царь шествует!» И скоро показался на красном крыльце Иоанн, сопровождаемый своими любимцами, рындами и черкесами. Думный дьяк уже известил его о челобитчике. Иоанн искал глазами Шибанова, который, приблизясь, поклонился ему до земли.
– С чем ты? – спросил его царь.
– С грамотою господина моего, твоего изгнанника, князя Андрея Михайловича Курбского, – отвечал Шибанов.
Окружающие царя изумились. Иоанн с гневным видом вырвал жезл из рук стольника и, ударив острым наконечником в ногу Шибанова, пригвоздил её к земле. Дав знак взять от него грамоту, он повелел Щелкалову читать её, а сам, опершись на жезл, слушал в грозном молчании.
– Вот как беглец и изменник наш дерзает писать к нам, своему законному государю! – воскликнул царь после того, как прочитали грамоту Курбского.
Лицо Иоанна почернело от гнева, и глаза его помутились свирепством.
– Скажи, – кричал он Шибанову, – кто соумышленники моего изменника, твоего господина, и где скрыл он свою жену и сына?
– Ничего не могу сказать об этом тебе, государь, но что повелено мне, то я исполнил.
– Отвечай или умрёшь с муками, – сказал Иоанн.
– Твоя надо мною царская воля явить гнев или милосердие, – отвечал неустрашимый Шибанов; между тем кровь текла струёю из ноги его.
– Исторгните у него признание! – воскликнул Иоанн, отдёрнув жезл.
Шибанова повели в застенок, куда принесли орудия пытки. Василий перекрестился и с твёрдостию праведника отдался во власть мучителей. Тело его терзали, но душа его, обращённая к Богу, скрепилась силой веры. Под ударами он благословлял имя Божие. Не исторгли никаких жалоб из уст, не слышали никакого ропота. Тщетно думали узнать от него тайные намерения и связи Курбского.
– Господь знает сердце его, – отвечал Шибанов.
– Кляни изменника, своего господина, – кричали ему.
– Помилуй Боже моего отца боярина, – говорил страдалец. – Помяни в изгнании моего благодетеля!
Тщетно силою угроз и мучений принуждали верного слугу объявить убежище княгини Курбской и сына её. Шибанов упал, обагрённый кровью, но молчал и молился. Не ослабевали удары, не ослабевала и молитва его; простёртый на земле, он уже чувствовал приближение смерти.
– Прими, Господи, душу мою! – сказал он, силясь ещё раз возложить на себя крестное знамение. – Помилуй рабов твоих, князя Андрея и царя Иоанна, – тихо промолвил он и упал в руки мучителей.








