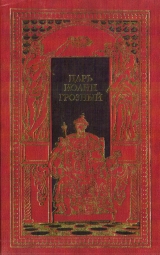
Текст книги "Царь Иоанн Грозный"
Автор книги: Борис Федоров
Соавторы: Олег Тихомиров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 48 страниц)
Подвиги
Пыль поднималась по дороге из Дерпта к Витгенштейну; при сиянии майского солнца как будто бы молния засверкала вдалеке; гуще становилась пыль, ярче ослепительный блеск, и вот – показались всадники в светлых шлемах, в ратных доспехах. На развевающихся знамёнах плыли в воздухе святые лики. То было войско, предводимое князем Курбским и Даниилом Адашевым. Сначала лёгкий яртоульный отряд пронёсся на быстрых, конях. За ним показался передовой полк с воеводой князем Горенским. Воевода князь Золотой замыкал этот полк с дружиной городецких людей. С ним были татары и башкирцы, искусные стреломётники. Выступил и большой полк. Всякий, кто искал взглядом Курбского, мог узнать его. Стальной шлем, украшенный бирюзой, покрывал смуглое его лицо. Гонцы скакали вслед за воеводами, спеша передавать их повеления другим вождям. Свободно опустив поводья и с лёгкостью обёртываясь во все стороны, они стегали неподкованных ногайских коней. Левую руку вёл князь Мещёрский, сторожевой полк – воевода князь Троекуров. Грозен был вид войска, немногочисленного, но избранного. Ратники облечены были в брони кольчатые, острые шлемы их продернуты были для отвода ударов с чела стрелою булатною; головы вождей осеняли высокие шишаки ерихонские, грудь их покрывали доспехи зерцальные из отсвечивающей стали. Кривые сабли блестели у высоких седел; с другой стороны колебались сайдаки с тугим луком, лес копий сверкал остриями; в колчанах стучали стрелы. Величаво ехали головы пред дружинами боярских детей, пред десятнями дворян. За воеводами следовали ратники их со знаменем; за детьми боярскими – их поместные служивые люди, иные в панцирях, иные в толстых тегиляях, в шапках железных[10]10
Так назывались простые круглые шишаки ратников.
[Закрыть]; одни с саблями, другие с зубчатыми железными шестопёрами; дальше везли огромные стенобитные пушки, высокие туры, тянулись вьючники, обозные, и служители вели за шёлковые повода запасных воеводских коней. Так подвигалось воинство к Виттенштейну, от которого Курбский и Адашев устремились на Фегефейер.
Пал Фегефейер. Ни тучи камней, летевших с раскатов, ни гроза огнемётных орудий, ни высота крепких стен, ни глубина широких рвов не могли защитить его. Воины ливонские, угрожаемые от русских опустошением и проклятиями от епископа ревельского, хотели остановить Курбского; пламень открыл ему путь: с приближением ночи Фегефейер запылал; страшное зарево с горящих башен хлынуло по небу, осветило ток быстрой реки, железные подъёмные мосты, грозные утёсы, тёмные пещеры; и в сие время меч Курбского губительней пламени заблистал на высоте Фегефейера. С зарей над пеплом развалин раскинулась русская хоругвь. Часть стен обрушилась в глубокие рвы. Громада камней осталась на месте великолепной палаты, в которой епископ ревельский некогда угощал рыцарей.
Подобно буре опустошительной, Курбский и Адашев протекли по области Коскильской. Поля потоптали конями, за́мки истребили огнём. Русская сила одолела ливонскую гордость; ратники серебром и золотом угрузили обозы; гербами, сорванными со стен, разводили огонь.
Войско быстро переходило от одной усадьбы к другой, страх предтекал ему, и богатые жители прекрасных мест, оставляя домы свои, спешили спасать жизнь и свободу.
В одном из замков Курбский, который всегда щадил слабость и приветливо обходился с побеждёнными, увидел старца, изнурённого страданием, на одре болезни. Никого не оставалось при нём в пустых покоях, кроме верной собаки, которая одна не покинула больного господина и с лаем бросилась на вошедших воинов. Удар палицы – и бедное животное погибло бы, но Курбский вырвал палицу из рук замахнувшегося ратника. «Не бесчесть оружия!» – крикнул он и подошёл к старцу. То был рыцарь Гуго фон Реден. Неблагодарные слуги его разбежались, видя приближение русского войска. Оставленный своими, Реден не ожидал от врагов пощады.
Курбский старался успокоить страждущего и приказал одному из воинов неотлучно быть при Редене, пока не возвратятся разогнанные страхом служители замка.
– Да благословит тебя небо за сострадание! – сказал Реден, – но я лишился всего, что имел драгоценного в жизни, и жду смерти, как последнего блага.
Узнав, что единственный внук Редена захвачен в плен в немецком отряде под Виттенштейном, Курбский велел освободить его для утешения последних дней немощного старца.
Юноша, закованный в цепи, слышал от товарищей, какая участь ожидает его в Пскове – куда ссылались пленные. Воспитанный в избытке и роскоши, он представлял себе весь ужас неволи – вязни, так назывались пленники, укрываясь от стужи и непогод в ямах, томимые голодом, выходили, подобно привидениям; с жадностью кидаясь на хлеб, бросаемый им за ограду. Блестящие мечты уже исчезли в его воображении, надежды замерли в сердце, – и вдруг он возвращён в дом отеческий!
Курбский был при свидании старца с внуком, видел радостные слёзы их. Между тем как многие в стане роптали, что воевода уменьшает число царских пленников, и тайные враги Курбского стремились к достижению своей цели, молва о сём достигла до пленников ливонских, взятых под Виттенштейном. Чего не могли вынудить у них страхом, в том успело великодушие. Один из пленников просил быть представленным Курбскому, и воевода узнал от него, что не далее, как в восьми милях от русского войска, остановился прежний ливонский магистр Фюрстенберг с сильным отрядом и, ограждённый болотами, выжидал случая напасть с верным успехом.
– Не нам ожидать Фюрстенберга: пусть он ждёт нас! – сказал Курбский и под прикрытием ратников, отправя в Юрьев обозы, отягощённые добычей, оставил при себе полк яртоульный, всадников лёгких и смелых и вместе с Адашевым, задолго до рассвета, двинулся вперёд.
Забелел день, и россияне уже считали второй час от восхождения солнечного, когда войско с трудом пробралось сквозь чащу густого леса и увидело перед собой вязкие болота, поросшие мелким кустарником. Воеводы тронулись вперёд и за ними ратники, сперва строем, но вскоре принуждены были разделиться на малые отряды, стараясь миновать болота излучистыми дорогами; но чем далее, тем опаснее был путь, и наконец воинство увидело себя окружённым отовсюду болотами. Ратники стелили хворост, кидали камни, сыпали землю... Курбский остановился, наблюдая, как перебирались всадники, как малорослые кони их, боясь увязнуть в тине, медленно подавались вперёд, ощупывая ногою надёжную землю.
– Счастье твоё с нами! – сказал Даниил Адашев Курбскому, – если бы нас было втрое более, – когда бы Фюрстенберг вздумал искать нас, он здесь бы нас встретил и положил.
– С каждым шагом мы ближе к нему! – сказал Курбский. – Вперёд, воины!
Аргамаки, грудью разбивая топь, стремились выбраться из болота. Кони, выбиваясь из сил, грузли в провалинах или с бешенством сбрасывали с себя неосторожных всадников. Так прошёл целый день. Солнце уже низко стояло на западе.
– Ещё немного, – кричал Курбский, ободряя всех, – я вижу вдалеке поле, ещё немного, и мы выступим на твёрдую землю...
Внимая вождю, воины понуждали коней, и кони, всею силою вырываясь из мутной топи, по хворосту и буграм окреплой земли наконец вынесли всадников на широкое поле.
Солнце расстилало яркие лучи на западе; воины дали свободу усталым коням отдохнуть на мягкой траве.
– Ещё подвиг ждёт нас! – сказал Курбский. – Приготовимся ударить в ливонцев; между тем дворяне осмотрят, далеко ли от нас Фюрстенберг.
Присев с Даниилом Адашевым под старой липой, весенняя зелень которой златилась, раскидываясь против солнца, Курбский задумчиво смотрел, как светило опускалось на край небосклона. Он взглянул на Даниила и увидел, что тот омрачён был глубокою думой.
– Понимаю скорбь твою! – сказал Курбский. – Но когда объяснятся наши сомнения, увидим, чего ожидать. Скоро обнимем твоего брата и узнаем, в чём оправдать Турова...
Даниил молчал. Он только пожал руку Курбского.
– Кто имеет завистников, тот имеет и заслуги, – продолжал Курбский. – Надейся, друг мой! Царь благоприятно примет письмо твоё.
Возвратившиеся дворяне известили, что немецкий стан в десяти вёрстах, что Фюрстенберг с многочисленным войском расположился на поле.
– Увеселим их победой! – сказал Курбский и сел на коня; за ним последовали все воины. Скоро закатилось солнце; багряная черта бледнела и угасла на западе; густой туман, как будто бы рекою разлившийся, поднимался с болот, слабый свет ещё облекал западный край; в сумрачном востоке засияла луна, и чем далее текла по небу безоблачному, тем более проясневала чистейшая лазурь. Какой-то лёгкий свет, успокаивающий зрение и наполняющий негой сердце, разливался на всё. Тихо шли кони ещё усталые, глухой шум однообразно отдавался от шагов их, и ничто более не нарушало безмолвия ночи.
Но замелькал вдали рыцарский стан, и в самую полночь Курбский дал знак стрельцам отделиться и ударить на передовые полки. Ливонцы, услышав топот коней, оторопели и спешили отразить внезапное стремление неприятелей стрельбою, но удары были неверны; при блистании огней их – тем вернее разили русские стрелы; смятение распространилось в ливонских полках: всё войско Фюрстенберга смешалось. Тогда Курбский врезался в ряды ливонские, и закипела сеча. Стеснённые своею многочисленностию, осыпаемые с налёта быстрыми ударами, ливонцы не успевали отбиваться мечами, и вскоре поле покрылось обломками немецких оружий. Русские сбили ливонцев и гнали их, вырывая мечи из их рук, свергая с коней, громя шестопёрами, саблями, бердышами. Глубокая река заграждала путь; чрез неё лежал мост, и ливонцы устремились туда; но под толпами бегущих мост подломился, всадники с конями оборвались в реку, хлестнувшую пенным валом. Тогда Курбский усилил стремительный натиск. Страшный крик раздался, и бежавшие на мост ливонцы, в смятении порываясь вперёд, падали с обрушенных брёвен или, бросаясь с высоких берегов, опрокинутые конями, сдавленные доспехами, гибли в реке.
Едва магистр с немногими воинами успел пробиться; пользуясь лунной ночью, доскакал до отлогого берега и переплыл реку. Между тем ещё продолжалась сеча. Луна исчезала, восток разъяснел, а ещё слышался треск копий и мечей; но с воссиявшим солнцем последние из бьющихся рыцарей или легли на поле, или сдались победителям. Немногие из робких укрывались ещё за пригорками, за деревьями и умножили число пленников Курбского. Стан магистра был взят на щит, и русские полки с торжеством вступили в Дерпт при громе труб.
На рассвете приспела в Дерпт новая дружина. Две тысячи охотников из Пскова и Новгорода, между коими много было сынов знаменитых родителей, взяли оружие, чтоб сражаться под хоругвию Курбского. При рассказах о подвигах его юные сердца их разгорались мужеством, и они, испросив слово посадников и благословение отцов на ратное дело, пришли участвовать с Курбским в битвах и славе.
Воевода встретил их радостно и, сведав, что Фюрстенберг со свежими силами спешит к укреплённому Феллину, послал лёгкий татарский отряд вызвать огнём и мечом фюрстенберга из Феллина, а дружине охотников выжидать в засаде с полками, когда он появится, и опрокинуть его. Курбский предвидел последствия: Фюрстенберг будет снова разбит и одному счастию в бегстве – снова обязан спасением.
Ещё были битвы и ещё победы. Тщетно Фюрстенберг и ландмаршал Филипп Бель хотели поставить преграды Курбскому. Одно его имя уже было грозою Ливонии. Никто не мог устоять против его порыва, никто не удержал его. Ревнуя славе побед, Курбский не ожидал подкрепления; но Иоанн спешил одним ударом решить участь Ливонии. Шестьдесят тысяч воинов уже шли к Дерпту, и царские гонцы летели с разрядными списками к воеводам.
ГЛАВА IVСвидание
Курбский, который не искал почестей, но случаев к подвигам, уступил другому начальство, принял звание воеводы передового полка, прославленное им в первом походе ливонском, и поспешил навстречу вступавшему воинству.
Почтительно приветствовал он сановника царской думы и первого воеводу большого полка князя Мстиславского. За ним дружелюбно встретил воеводу Михаила Морозова; но при виде третьего воеводы изменился в лице. «Друг Адашев!» – вскрикнул он, стремительно соскочив с коня и бросаясь в объятия Алексея Адашева. Тут же встретил брата и Даниил Адашев.
– И ты идёшь на Ливонию? – сказал Даниил, стараясь скрыть душевное смущение.
– Я желал отвратить меч Иоанна, – отвечал тихо Алексей Адашев, – но война пылает: иду служить царю, как воин его. – Братья сподвижники! Да совершится скорее жребий Ливонии, чем гибнуть ей в терзании медленном...
В это время раздался шум в толпах народа, окружающего воевод. Увидели князя Петра Шуйского, прославленного взятием Дерпта. Он вёл правую руку воинства: смелых стрельцов, ратоборных казаков. Воевода сей, чтимый за славу мужества, умел заслужить любовь побеждённых им. Граждане дерптские взирали на него с почтением; вспомнили его кротость, приветливость, благотворения.
Звучали трубы, народ толпился по тесным улицам Дерпта, даже кровли домов были покрыты любопытными; из длинных, с железными решётками окон смотрели рыцари и старейшины дерптские на русское воинство, проходящее в грозном величии.
– Помнишь ли, – говорил один из старейшин дерптского магистрата, Ридель, рыцарю фон Тонненбергу, – как два года назад въезжал сюда князь Шуйский? На этом самом месте мы его встретили с золотой чашей; пред ним развевалось белое знамя мира. Он обещал Дерпту тишину, благоденствие и сдержал своё слово.
– Помню, что он славно угощал нас в дерптском замке, – отвечал Тонненберг, – но признайся, почтенный Ридель, – прибавил он с лукавою улыбкою, – что ты не от сердца хвалишь эту тишину и благоденствие, а потому, чтоб не лишиться своих владений при Эмбахе.
– Для чего же ты, храбрый рыцарь, остался в Дерпте, владея крепким замком близ Нарвы?
– Я оставил замок свой на волю судьбы; ждал, что он будет сожжён если не московцами, то ливонцами; но, к счастью, он ограждён лесами и отстоит далеко от большого пути.
– Жаль, если ты остался в Дерпте для прекрасной дочери бургомистра, Амалии Тиле; она последовала в Москву за отцом.
– Вот как мало ты знаешь меня, Ридель! Я не остался бы в Дерпте ни для Амалии, ни для твоей прелестнейшей дочери, для которой я готов на турнире переломать столько же копий, сколько выпить кубков в память твоих благородных предков. Нет, Ридель: клянусь, что готов отказаться от охоты, от вина и ласкового взгляда прекрасных, если уступлю самому Гермейстеру – в желании служить Ливонии. Знаю, что не только нас и светлейшего епископа дерптского орденские братья укоряют в измене, но не сброшу с себя белой мантии, и сердце моё бьётся для отчизны под крестом меченосца. Не мечом, благоразумный Ридель, мы можем сохранить отчизну. Ты видел замки разрушенные, поля под пеплом. Неотразимая рука Курбского, кажется, обрекает Ливонию гибели, – этого мало; ты видишь русские силы, видишь, какая новая туча готова разразиться. Признайся, что Ливония не может уцелеть от русских мечей...
– Как! – прервал его с жаром Ридель. – Феллин ещё непоколебим, Рига недоступна, Фюрстенберг не унывает, мудрый добродетельный Бель ещё жив, и отважный Кетлер – надежда отчизны – стоит за Ливонию. Литовцы, датчане, шведы дадут ей помощь...
– Этот щит, – сказал Тонненберг, – тяжелее меча Иоаннова. Ходатаев за Ливонию много, но каждый смотрит, как бы далее занести ногу на её земли...
– Чем же можем мы быть полезны отечеству?
– Удерживая удары русских мечей, склоняя ливонских владельцев не раздражать бесполезным противоборством страшного противника. В Дерпте не осталось бы камня на камне, если бы Дерпт не сдался... Но верь, достопочтенный Ридель: всё равно, кто бы ни обладал Ливонией, лишь бы мы сохранили поля наших вассалов, сберегли замки и города наши. Уступая судьбе и силе, должно помогать успехам русских воевод и словом сказать: служить Иоанну, чтоб служить Ливонии.
Ридель не отвечал и, казалось, погрузился в размышление, Тонненберг знал Риделя и его связи. Он был уверен, что сказанное не напрасно.
Вдруг откинулся ковёр, закрывающий дверь, и вбежала, лёгкая, как ветерок, миловидная дочь Риделя.
– Минна сегодня долго была в церкви, – сказал Ридель, поцеловав дочь.
– Ах, батюшка! – отвечала, покраснев, Минна. – Пастор говорил сегодня длинную проповедь, и она показалась мне тем долее, – продолжала она, взглянув украдкою на Тонненберга, – что в церкви было пусто, а на улицах так тесно от московского войска, что мы с Бригиттою едва могли добраться до нашего дома.
– Признайся лучше, что ты любопытна и не столько спешила домой, как хотела посмотреть на московское войско?
– Это правда, но я смотрела более с боязнью, нежели с удовольствием, на это воинство. Это не рыцари: с шлемов их не развеваются густые перья; длинные кольчуги их не обнимают стройно стан, как рыцарские латы; золотые шпоры не звучат на ногах их, и на груди их не видно обета храбрости, креста меченосцев...
Отец громко засмеялся при этих простодушных словах, которые для Тонненберга были приятным признанием, что Минна не равнодушна к нему.
Между тем русские воеводы собирались в дерптском замке. Мстиславский, сойдя с коня и остановившись у крыльца, ещё раз оглядывая проходившие войска, шутя, сказал Даниилу Адашеву:
– Теперь ты, воевода от наряда, отворяй нам ворота городов ливонских! Смотри, – продолжал он, указывая на далеко протянувшийся ряд тяжёлых орудий, – смотри, сколько великанов в твоих повелениях! Непоразимые слуги твои сокрушат твердыни ливонские!
Тихая ночь заступила место ясного дня. Звёзды блестели на тёмной лазури неба. Близ дерптских ворот на далёком пространстве белели шатры. Усталые стражи, опираясь на бердыши, прислушивались к малейшему шуму; но так было тихо, что можно было слышать, как при полёте ночной птицы вздрагивал чуткий конь, привязанный к жерди. Всё смолкло в городе, всё успокоилось, но в готической зале дерптского замка, в которой позлащённая резьба почернела от времени, ещё беседовали три русских вождя. То были братья Адашевы и князь Курбский.
– Тесть мой прав! – сказал с жаром Даниил Адашев. – Он прав, устыдив клеветников твоих. Я также бы разорвал связь с Захарьиными.
– Брат! – отвечал Алексей Адашев. – Ветер волнует море, оскорбления раздражают врагов. Туров в темнице, и что всего горестнее, он за меня терпит, за меня понёс опалу!
– Не опала постыдна, а преступление! – перебил его Даниил. – Чем виновен Туров? Обличением Захарьиных. Не оскорбись, Курбский! Знаю, что царица тебе ближняя сродница, но и ты знаешь, что её братья всему виною. Я не узнаю Иоанна. Он верит Захарьиным. Но где был Сильвестр, что делал ты, Алексей, – любимец, друг царя? Или забыл Иоанн, что не Захарьины, а ты с Сильвестром открыл ему стезю, достойную величия царского? Чем заслужил ты ненависть? Чем навлёк клевету?
– Не дивитесь, – отвечал Алексей Адашев, – что сияние царской дружбы, падая на юношу, не знаменитого родом, раздражило честолюбцев. Захарьины могли сетовать на возвышение Адашева и силу Сильвестра. Они возмутили подозрением спокойствие Анастасии; внушили, будто бы Сильвестр и Адашев, тайные недоброжелатели ей, ждут только кончины царя, чтоб посягнуть на измену сыну царицы и предать трон князю Владимиру Андреевичу.
– Тебя ли подозревать, – сказал Курбский, – когда целью всех дел твоих было благоденствие России и слава Иоанна?
– О други, что говорите обо мне, когда и Сильвестр устранён от Иоаннова сердца. Беседы его стали в тягость царю! Иоанн, стыдясь уже слушать советы от бывшего священника новгородского, забыл в нём мужа, который во время бедствия предстал ему вдохновенный истиною, и, мудрый опытом, тринадцать лет поддерживая кормило правления. Сильвестр, видя, что время его миновало, с лицом светлым благословил Иоанна и отошёл в обитель пустынную.
– Иоанн не совсем ещё изменился к тебе, – сказал Даниил, – если по навету Захарьиных он желал удалить тебя, то для чего же почтил званием воеводы большого полка?
– Огонь светильника, истощаясь, ещё вспыхивает – и угасает. Иоанн отказал просьбам и слезам моим о прощении Турова... «Он не чтит царского рода, – сказал государь, – он раб-зложелатель. И ты, – продолжал он с гневом, – неблагодарный любимец, хочешь мне преграждать пути к славе моей!» Тогда он напомнил слова мои, что благоденствие России не требует разорения Ливонии. – «Государь! – отвечал я. – В царской думе я говорил как призванный тобою к совету, но, как слуге твоему, дозволь мне пролить мою кровь за тебя в войне ливонской». «Иди воеводою с князем Мстиславским», – так сказал Иоанн, – и Адашев с вами.
– А зависть и злоба не дремлют! – сказал Курбский. – Кто заменит царю тебя и Сильвестра? Пылкое сердце Иоанна любило добродетель, но опасно волнение кипящих страстей его.
– Анастасия успокоит их, – отвечал Алексей Адашев.
– Нет, она доверяет братьям своим, – сказал Даниил, – и Туров – жертва мести их...
– Он великодушно переносит бедствие, – проронил Алексей.
– Нет, я не могу этого так оставить, – сказал Даниил. – Я поспешу в Москву, паду к ногам Иоанна, покажу ему раны, которые понёс за него в полях казанских, в степях ногайских, и когда первый я вторгся в Крым и заставил трепетать имени Иоаннова там, где русская сабля ещё не обагрялась кровью неверных! Я сниму золотые с груди моей и буду просить одной награды – оправдания невинному старцу; или разделю с ним жребий его, или царь с него снимет опалу...
– Успокойся! – сказал Курбский. – Иоанн вспомнит Адашевых. Обратимся к самой Анастасии для защиты Турова. Усыпим зависть братьев её дарами от корыстей ливонских. Ещё есть надежда.








