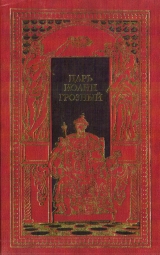
Текст книги "Царь Иоанн Грозный"
Автор книги: Борис Федоров
Соавторы: Олег Тихомиров
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 48 страниц)
Обманутые ожидания
Курбский оставил воинский стан. Мало-помалу силы князя восстановились, но спокойствие не возвратилось к нему. В довершение прискорбия он скоро получил письмо из Нарвы от преданного ему окольничего Головина и узнал, что Гликерия ещё жива и постриглась в Тихвинской женской обители. Курбский с мукой читал эти строки. Он уже супруг другой жены, а Гликерия жива! Жива, для укора его совести! Одна мысль осталась ему в утешение, что княгиня нашла приют под кровом веры. Жребий сына остался для него в неизвестности. Окружающие Курбского замечали в князе необыкновенную перемену. Скрывая скорбь в душе, он стал угрюм, молчалив; сердце его отвратилось от удовольствий; он искал уединения. Там только он мог отдохнуть от тоски, его удручающей.
Гордая Елена обманулась в честолюбивых своих ожиданиях. Долго она не могла объяснить себе тайной скорби князя и полагала, что уныние его было следствием страданий от ран и разлуки с сыном, нечаянно встреченным и, вероятно, погибшим в битве. Однажды, застав князя, перечитывающего письмо Головина, она увидела слёзы в его глазах. Изумлённая нечаянным открытием, что Гликерия Курбская жива, Елена не могла скрыть чувство негодования. До неё дошли уже слухи, что Гликерия была дочь бедного стрельца; воспоминание Курбского о прежней жене его оскорбляло её; в глазах самолюбивой Елены не было извинения Курбскому. Ей казалось, что избранный ею должен был пожертвовать всем и что, способствуя его возвышению, она вправе быть единственным предметом его любви. В гордой душе Елены не было сострадания.
– Я не хочу мешать счастию князя Курбского, – сказала она насмешливо. – Если он желает, то властен возвратиться в Московию, ехать к воскресшей супруге своей.
Курбский не отвечал, но взор его блеснул негодованием; сердце его отвратилось от Елены.
Тяжко было ей отказаться от обольстительных надежд; тяжко было и Курбскому видеть в супруге своей совершенную противоположность кроткой, добродушной, покорной Гликерии. Холодность заступила место угождений, семя раздора развивалось.
Елена надеялась ещё торжествовать над ним и, призвав на помощь женское очарование и светское искусство, старалась возбудить в Курбском ревность, но чем более принимала вид рассеянности, чем более показывалась при роскошном дворе Сигизмунда Августа, тем более Курбский чувствовал незаменимость своей потери. Не отвыкнув ещё от обычаев отечества, он почитал непременным долгом жены смирение и преданность супругу, заботливость о семействе и о доме, святость верности и, видя различие нравов в Ливонии и Польше, не столько привык извинять, как презирать легкомыслие в женщине.
Иосиф Воллович был почти ежедневным гостем в доме Курбского и спутником княгини и прекрасной её племянницы на блестящих варшавских вечерах. К удивлению Елены, Курбский как будто не замечал заботливости её об Иосифе, и то, что по расчётам её должно было возбудить в князе ревность, возбуждало в нём только равнодушие к ней. Он перенёс уже столько несчастий, что не почитал злополучием непостоянства Елены и предоставил ей тщеславиться преданностью молодого Волловича.
Курбский охладел к воинской славе, но был деятельным участником в совещаниях короля. Иногда любовь к отечеству готова была погасить в нём чувство мести, но часто оно воспалялось сильнее при вести о новых кровавых событиях в Москве. Курбский услышал, что знаменитый друг его, боярин, потомок суздальских князей и некогда путеводитель Иоанна к победам, князь Александр Горбатый, по наветам Басмановых, осуждён был на казнь вместе с сыном. Сердце Курбского трепетало при рассказе, как сын спешил опередить отца, склонив голову под меч, но старец отстранил юношу, чтобы не быть свидетелем его казни и, благословя сына с любовью, пал, предав себя Божией воле. Юноша, наклонясь к отсечённой главе отца, принял её в объятия, поцеловал и, полный веры и упования, славил Бога Спасителя за то, что суждено ему окончить земную жизнь неразлучно с отцом и невинно, как невинно потерпел Агнец Божий. «Господи, приими души наши в живодательные руки Твои!» – было последним словом его.
В то же время, узнав о кончине Сильвестра в его заточении, Курбский стремился навлечь бурю на Грозного, желал лишить Иоанна опоры в знаменитейших его вождях и боярах. Веря молве о ропоте Мстиславского, Воротынского и других на учреждение опричников, Курбский советовал Сигизмунду склонить их соединиться для избавления себя и отечества. Король, со своей стороны, готовый не щадить никаких пожертвований для привлечения их к себе, благодарил Курбского за совет, который скоро пал тяжким бременем на совесть изменника. Рассылая тайные письма знаменитейшим из московских бояр, испытавшим тягость Иоаннова гнева, король надеялся привлечь их примером Курбского, и пылкий князь верил по слухам и по своим чувствам, что гонимые Иоанном ждут только случая избавиться от его ига.
Ожидания Сигизмунда Августа и мысли Курбского не оправдались. Получив письма, Воротынский, Мстиславский и другие единодушно говорили: «Всё, что имеем, имеем от Бога и государя; все ходим под Богом и под царским смотрением; благоденствуем, когда царь благоденствует; грозен во гневе он, но терпение наше заслужит нам Божию милость».
Говоря так, они решили не оставлять Сигизмунда без ответа, гордо исчисляя все свои титулы, подвластные им области и удельные свои города. Гонец с письмами их поспешил в Гродно, где находился король.
– Ты обманулся, князь, – сказал король Курбскому, краснея от негодования. – Бояре московские поругались над моим предложением. Дерзость их неимоверна. Они издеваются надо мною, величая себя наместниками и державцами, а меня братом своим, и чрез несколько строк прокуратором, фальшером, лотром[22]22
Готовым на происки, лживым, хищником.
[Закрыть]. Я предлагал им избавить их от ига; они отвечают, что где нет твёрдой воли в царе, там нет прочности в царстве; я обещал Воротынскому и Мстиславскому целые области в дар, а они, насмехаясь, просят от меня городов по Днепру, всю Волынию и Подолию и приглашают идти под Иоаннову власть. И старик, о котором я так много от тебя слышал, боярин и воевода Полоцкий, выжил из ума; он пишет, что тешить меня скоморошеством не учен. Посмотри сам, как величает тебя Воротынский. – И король подал Курбскому письмо Воротынского.
Курбский горестно улыбнулся.
– Я обманулся в них, государь, – сказал он Сигизмунду Августу. – Они привыкли к своему бремени.
– Пусть же будут жертвами Иоанна! – воскликнул король.
– По крайней мере, государь, на жизни их не будет пятна, – сказал Курбский, тяжело вздыхая.
– Ты снова, князь, предался мрачным мыслям. Здесь нашёл ты отечество, достойнейшее тебя; видишь благоволение наше и можешь чувствовать, что для просвещённого мужа счастие там, где человечество счастливо.
– Государь! Бог не даёт на земле двух жизней; не найдём и другого отечества. Ты усыновил меня Польше, а России усыновил меня Бог. Я люблю и чту тебя, государь, ты осыпал меня щедротами, но здесь для меня нет полного счастия; не найду его в почестях и в богатстве, не находя спокойствия в душе.
– Иоанн будет и оправданием твоим. Ты хочешь постыдить, укротить его. Другие терпят и гибнут с позором.
– Нет, государь, – возразил Курбский, – свято терпение их! Они чтут власть, от Бога поставленную. Достойный муж! – продолжал он, смотря на письмо Воротынского. – Завидую твоей любви к отечеству, смиряюсь пред благородным твоим негодованием!
Король с удивлением посмотрел на Курбского; он не ожидал такого после оскорбительных выражений в письме Воротынского, укорявшего беглеца и предателя.
– Государь, – сказал Курбский, – я дал обет служить тебе и сдержу свято; но мудрый король простит признанию сетующей души моей.
Сигизмунд Август почувствовал справедливость слов Курбского и с того времени более употреблял его в совещаниях, нежели в предводительстве польскими войсками. Напрасно зависть польских вельмож распространяла злоречивые толки и старалась поколебать в короле благосклонность к Курбскому. Сигизмунд Август узнал его достоинства, и князь сумел заслужить его доверие.
Но и Волловичи быстро возвышались. Евстафий открывал себе блистательный путь. Его деятельность, проницательность, искусство соглашать людей разных мнений, стремление к славе отечества приближали его к высокой степени великого канцлера литовского. Молодой Иосиф при помощи своего брата, Елены и Радзивиллов также скоро стал любимцем Сигизмунда. Счастие даёт новое направление уму; в сладкоречивом певце открылись достоинства человека государственного. Елена гордилась возвышением Иосифа и, чтобы заставить молчать злословие, Согласилась уступить своего любимца племяннице.
Между тем Курбский предлагал Сигизмунду Августу средство держать в тревоге Иоанна, и сам Грозный начал искать мира. Король, дав во владение Курбскому богатый округ с городом Ковелем и, в досаду Иоанну, почтив пришельца достоинством князя Ковельского, показал недоброжелателям князя неверность их замыслов. Наговоры друзей Елены возбуждали только временно неудовольствие короля при слухе о семейных несогласиях Курбского. Отклоняясь от них, Курбский большую часть года проводил в замке, подаренном ему королём.
Сигизмунд Август, утомлённый заботами о войне, не отклонялся от переговоров о мире с Иоанном и спешил в Гродно, ожидая московских послов.
Когда послы вошли в гродненский дворец, Курбский, сидевший на правой стороне близ королевского трона, обратил на них взгляд и в ту же минуту упрёк совести уязвил сердце его. Он почувствовал пред ними своё унижение.
Послы Иоанна с твёрдостью и важностью приблизились к трону короля, почтили Сигизмунда Августа приветствием и поклонились вельможам, сидевшим влево от трона, не обратив внимания на сидящих с другой стороны знатнейших панов рады. Послы знали, что на этой стороне сидел Курбский, и не хотели смотреть на изменника.
Оскорблённый пренебрежением, князь Ковельский побледнел. Пред ним были бояре, некогда преданные ему и любившие его, а теперь они почитали преступлением взглянуть на Курбского. Насмешливый шёпот и переговоры сидевших возле Курбского польских вельмож не столько тревожили его самолюбие, как невнимание соотечественников. Минувшие дни его славы представились его воображению; он ужаснулся, подумав, что погубил изменой плоды всех своих подвигов, и позавидовал неукоризненной твёрдости добрых бояр, хотя в отечестве и над их головами висел меч Иоанна.
И в присутствии Курбского русские послы, пред лицом Сигизмунда, смело требовали именем Иоанна выдачи московского изменника как свидетельства согласия на мир, которого желал Сигизмунд. Курбский не смутился и, обратив взгляд на короля, спокойно ожидал его ответа. При малейшем сомнении в праводушии Сигизмунда Августа он первый готов был предать себя Иоанновой мести.
– Если брат мой, царь московский, желает мира, – отвечал Сигизмунд Август, – пусть предложит он другие условия. Мы дали прибежище пришельцу и не знаем изменника. Чтя доблести князя Курбского, мы приблизили его к нашему трону и хвалимся его заслугами. Здесь нет московского боярина, вы видите князя Ковельского.
Послы, не возражая королю, подали ему грамоту Иоанна, а приверженцы Курбского с торжеством посмотрели друг на друга.
Наконец московский посол на совещании с литовским канцлером должен был увидеть Курбского, но смотрел на него, как на незнакомца.
– Колычев не узнает меня? – спросил Курбский, приблизясь к нему.
– Я знал Курбского под Казанью, – отвечал Колычов, – и не знаю его в Литве. Я чтил защитника России, но не хотел бы видеть врага отечества.
– Иоанн отлучил меня от отечества. Господь судья ему.
– Измена твоя, – возразил Колычов, – не вредит ни славе, ни счастию великого государя. Бог даёт ему победы; тебя казнит стыдом и отчаянием.
– А вы благоденствуете ли с опричниками? – спросил Курбский.
– Не знаем опричников. Кому велит государь жить близ себя, тот и близок к нему, а кому велит жить далеко, тот и далёк. Все люди божьи да государевы.
Так говорил Колычов по наказу Иоанна; но могло ли быть тайною, что Иоанн, в слободе Александровской со своими опричниками отстранясь от народа и царства, учредил себе обитель, в которой избранные из любимцев его составляли братию, а сам Иоанн был за игумена. Опричники стали ужасом царства; не было пределов и меры их дерзости и самовластию.
Курбский думал, что Иоанн, истощив всю силу укоров в письме к нему, желал знать, как подействовали они; в таком случае, казалось, московские послы могли бы передать царю ответ его отступника. Ответ Курбского был уже готов и начинался словами: «Широковещательное и многошумящее писание твоё принял; послание безмерно пространное и нескладное, не только учёным мужам, но и простым, даже детям на удивление и смех; особенно в чужой земле, где есть люди искусные и в грамматических, и в риторских, и в философских учениях». Краткий ответ Курбского заключался тем, что он хотел и мог бы отвечать на каждое слово Иоанна, но удержал руку, возлагая всё на Божий суд, зная, что неприлично рыцарю спорить подобно рабу.
Никто из послов не дерзнул взять на себя доставление ответа Курбского. Князь должен был ожидать благоприятного случая.
Вскоре Курбский узнал о новых жертвах подозрений Иоанна и искал свидания с королём. Сигизмунд Август занемог сильным припадком подагры; но чрез несколько дней князь был приглашён к нему в гродненский дворец. Королевские пажи сказали ему, что Сигизмунд Август в саду.
Летний день освежался лёгким ветерком; озеро, обсаженное густыми тополями, струилось зыбью; цветы пестрели на дорожках и окружали столбы павильонов. На уступах террасы невдалеке слышался тихий звук лютни; Курбский приблизился; голубые шёлковые завесы между столбами павильона были отдернуты, и в углублении князь увидел короля в испанском платье, отдыхающего на бархатной софе. Облокотись на атласную подушку, Сигизмунд Август дремал; две розы выпали из руки его; на пёстром агатовом столике лежала виноградная кисть возле большого хрустального бокала, в котором отсвечивалось золотом несколько оставшихся капель венгерского вина. Больная нога Сигизмунда, страдавшего подагрою, опустилась на табурет; у изголовья сидела прелестная певица, тихо перебирая нежные струны лютни и напевая итальянскую баркароллу; птички резвым щебетанием на ветвях, казалось, хотели вторить пению; утомлённый король дремал.
Услышав шум шагов, он открыл глаза и, увидев Курбского, ласково сказал:
– Добрый день, князь. Что наши противники?
– Число их возрастает, государь; дерзость умножается.
– Что делать? Моё правило, любезный князь, терпимость мнений. Ох... подагра в сильном разладе со мной; но не отказаться же мне от ноги. Терпи, любезный князь, и не спорь с ними, чтобы они против тебя меньше шумели на сейме! Но чем закончить нам переговоры с московским царём?
– Время действовать решительно, – отвечал Курбский. – Гибелен плод замедления, теперь или никогда! Собери свои силы, помощь готова отовсюду. Храбрые венгерцы, отважные валахи, немцы соберутся к тебе; не жалей казны. Есть и на Иоанна управа: разбуди опять крымского змея золотым дождём; хан проснётся, и со всех сторон поколеблется престол Иоанна.
Сигизмунд Август обнял Курбского; надежда торжествовать над Иоанном блеснула в глазах короля. Князь возвратился в свой дом довольный королём, но смущённый в душе. Тем не менее, увлекаясь местью, Курбский обратил мысли свои к цели преступных желаний. «Иоанн почувствует силу моих советов», – думал он, и сердце его, обманув совесть, затрепетало от радости.
ГЛАВА XIСказка слепца
Александровская слобода представляла Иоанну удобство для уединения, в котором он хотел соединить и богомольство, и свободу разгула. Там-то в особенности Иоанн окружил себя избранными им сберегателями, под именем опричников, отстраняя от себя всех, для него сомнительных, под именем земских. Бояре, недовольные учреждением опричников, изумлены были неслыханным событием. Татарскому царю Симеону Касаевичу, оставленному в Москве, дан был Иоанном титул царя всей России.
– Незачем бы так величать татарина, когда Господь нас избавил от ханского ига, – говорил на вечере князя Ростовского знаменитый земский боярин-конюший, начальник приказа большой казны.
– Оно только для Намёка, Иван Петрович, что земские не в милости царя и не заслужили себе другого повелителя.
– Для шутки ли, для намёка ли, а непригоже Симеона Касаевича честить титулом царя всей России, – сказал старец-боярин. – В Адашево время того бы не было.
– Далось тебе Адашево время! – сказал случившийся тут же князь Горицкий.
– Однако близ сумерек; пора и домой! – сказал боярин-конюший.
– Не пущу, Иван Петрович, не пущу!
– Не отнимай воли, князь!
– Воля твоя, а палаты мои.
– Широка твоя палата, да выходы тесны. В другой раз не приду к тебе. Сули хоть сто золотых кораблеников.
– Аль спешишь к нашему орлу, царю Симеону Касаевичу?
– Перед ним бы и я в орлы угодил! – сказал старец боярин.
Иначе были пересказаны слова его Грозному и шутка перетолкована Басмановым в оскорбление Иоанну. В шумном разгуле пира с опричниками он призвал знаменитого сановника и в присутствии царедворцев, велел возложить на него царскую одежду, венец, посадить боярина на престол и приветствовать как царя. Потом Иоанн приказал казнить старца. И родня, и друзья его, князья Ростовские, Щенятевы, Ряполовский, погибли как его единомышленники, а в боярском списке отмечено: выбыли из разрядов.
Ещё далёк был предел Иоанновой жизни; рок ждал его бесчисленных жертв. Опричники терзали Россию. Дома опальных бояр подвергались расхищению; слуги, сберегатели господ своих, гибли под мечами опричников, налетавших саранчою на селения земских, где всё, чего не могли захватить, истребляли.
С каждым днём становилось страшнее имя опричников. Появление их приводило в ужас народ. Кромешники, как они сами себя называли, предаваясь самовольству, казались воинством тьмы кромешной. Тогда восстал против них новый первосвятитель Москвы, предстательствуя за народ; но заступничество добродетельного Филиппа ожесточило Иоанна. Опричники расхищали богатства граждан, увлекали жён от мужей, и на них не было суда и управы. Митрополит ещё раз с твёрдостью возвысил голос против опричников и перед алтарём, в Успенском соборе, обличил самого Грозного. Иоанн, ударив жезлом о помост, вышел из храма. Курбский услышал, что через некоторое время Филипп был лишён сана; с него сорвали святительскую одежду; на колени его бросили голову казнённого племянника его, Колычева. Наконец, гонимый святитель был сослан в монастырь Отрочь, где ожидал его венец страдальческий. Между тем опричники пировали в слободе Александровской; там веселился и Иоанн.
Он ещё не забыл о прекрасной сестре Сигизмунда Августа; Екатерина была уже супругой Иоанна, герцога финляндского. Подозрительный король, брат герцога, заключил его в темницу. Тогда Грозный вздумал просить шведского короля выдать герцогиню русским послам, назначая это условием мира со Швецией. Жестокий Эрик обещал выполнить его желание и передать ему Екатерину. Грозный готовился быть властителем жребия той, которая страшилась мысли быть супругой его; но скоро Эрик лишился королевства и жизни; герцог, освобождённый из темницы, был возведён на престол, и Екатерина вместо пленницы Грозного стала шведской королевой.
Гонец с этой вестью спешил в Александровскую слободу, где тогда находился Иоанн. За три версты до царских палат остановили его вооружённые опричники на конях, с привязанными к сёдлам собачьими головами и мётлами. Они допрашивали всех идущих или едущих земских, к кому, от кого и кто послан? Проехав длинную улицу, гонец увидел дивный соборный храм и большие палаты, обведённые рвом и валом, как неприступная крепость. В то самое время ударили в колокол; параклисиарх Малюта Скуратов благовестил, и скоро при оглушающем звоне с высокого крыльца средней палаты появились братья дивной обители. Они спускались по мосту к воротам, ведущим через вал, и шли на соборную площадь; головы их прикрыты были тафьями; но под чёрными рясами заметны были кафтаны, блестящие золотом и опушённые дорогими мехами. За ними, опираясь на жезл, шёл в чёрной мантии царь-игумен. Шествие направлялось к великолепному соборному храму, увенчанному разноцветными главами. Несколько тысяч опричников, в блестящих доспехах, собрались на площади перед собором. На них не было чёрной одежды, отличия избранных, но это не мешало им хвалиться, что они принадлежали к опричнине, и с пренебрежением смотреть на земских бояр, вызываемых из Москвы в Александровскую слободу; помахивая мётлами и секирами, они ждали слова на буйный разгул.
– Зачем земские зашли в слободу? – спросил один из них, указав на двух бояр, пробирающихся за гонцом через толпу. – Пусть живут себе в Москве! Мы одни здесь служим царю, грызём врагов его и метём себе Русь!
Узнав от гонца, что шведские послы готовились ехать в Россию, Иоанн велел впустить их в слободу и вдруг повелел отнять всё их имущество, оставляя из милости жизнь. Эта месть казалась ему утешением в досаде, когда он узнал, что Екатерина стала королевой.
Внезапно, в самый новый год (1 сентября), скончалась царица Мария Темгрюковна. Носилась страшная молва о виновнике её смерти. Много и других событий взволновало Москву. Опять появились утешители, царские любимцы быстро сменялись одни другими, и между ними взял первенство врач-иноземец Елисей Бомелий. Левкий уже не появлялся у царя. Он изнемогал: царский врач не спас его. Страшен был врач в Бомелии! В чёрных глазах его, углублённых под красноватыми веками, заметны были лукавство и жестокость; он был ещё опаснее, чем казался. Хвалясь знанием сокровенных таинств и тревожась за жизнь Иоанна, Бомелий овладел его доверенностью и указывал мнимых злоумышленников. Князь Владимир Андреевич и его приверженцы презирали Бомелия, но опасно было наступить на змея.
Врач-гадатель обвинял в смерти царицы тайных врагов её и смело указал на Владимира Андреевича, который, готовясь в поход против хана, проезжая через Кострому, был встречен народом с любовью и почестью. Иоанн желал избавить себя от опасений, и через несколько месяцев князь Владимир и супруга его, княгиня Евдокия Романовна, по велению Иоанна испили чашу с отравою. Мать князя Владимира и с нею вдова князя Юрия, Иоаннова брата, обе уже инокини, брошены были в волны Шексны.
Дни и ночи Иоанна часто шумели весельем, но сон его был возмущаем грозными видениями. Долго иногда он не мог сомкнуть глаз; ночью три слепца рассказывали ему сказки, а утром он отправлялся на охоту с опричниками; тогда целый день раздавались в лесу стук топоров и перекличка охотников, гонявших диких зверей на поляну, заграждённую срубленными деревьями. Отважные ловцы боялись не лютости зверей, а несчастия – прогневить Иоанна. Некоторые из них были предостерегаемы собственными своими прозваниями, данными им взамен родовых имён. Призадумались Неустрой, Замятия; зато смело ожидали случая показать себя Гуляй и Будила и шутили с товарищами, толкуя, кому какое достанется прозвище. Отставшему от других быть Одинцом, не попавшему рогатиной в зверя слыть Неудачей! Но ещё счастлив был тот, для кого неудача оканчивалась прозвищем; иной платил жизнью за пса, измятого медведем. Лай гончих, рёв медведей, терзаемых копьями, крики охотников доставляли развлечение Иоанну, по крайней мере заглушали на время внутренние муки его.
В один вечер, утомясь охотой, он отъехал в сторону от ловчих и увидел обширный опустелый дом князя Владимира Андреевича. Ветер нагонял тучи. Иоанн, желая отдохнуть и укрыться от ненастья, взошёл на крыльцо, поросшее мхом; рынды следовали за ним.
– Прочь от меня! – крикнул он сопровождающим его. – Прочь, я хочу один отдохнуть здесь.
Царедворцы отступили. Он пошёл вперёд и остался в опустелом жилище. Бросаясь на ветхий ковёр, ещё покрывающий широкую лавку, он задремал, но вдруг, пробуждённый стуком, очнулся... Не видя никого и слыша только собственный голос, он вдруг показался себе существом посторонним; быстро озираясь вокруг, он переходил из покоя в покой, никого не встречая; двери скрипели на петлях, и ставни створчатых окон колыхались и стучали от ветра. Иоанн смутился, ощущая присутствие чего-то невидимого; ему стало страшно; он затрубил в рог, висевший на золотой цепи поверх его терлика. Рынды и ловчие прибежали на зов. Скоро он возвратился в слободской дворец, но не скоро мог успокоиться. Страшный мир призраков смущал мысли его. Он начал молиться. Но ему казалось, что Божия сила отринула молитву его. Слова его превращались в глухие, невнятные звуки. Беспокойно бросясь на одр и прикрыв рукой глаза, он забылся, но какой-то свет проникал сквозь руку его. Он отдёрнул руку, и ему представились отроки в белых одеждах, стоящие у одра его; всматриваясь, он увидел, что свет луны падал на свитки; успокоив мысли, он снова приник к изголовью. Вдруг почудились ему стоны. Тут он снова встал, но всё было тихо. Тогда закричал он:
– Слепой Парфений, иди ко мне! Меня тревожит бессонница.
Парфений поспешил на призыв, прихрамывая и покашливая. Это был один из трёх слепых, которые по ночам рассказывали царю сказки в Александровской слободе. Парфений был псковитянин. Давно носились слухи, что Иоанн гневен на Псков и Новгород, веря наговорам на преданность их Сигизмунду. Парфений, пользуясь правом рассказчика, желал склонить Грозного на милость, сказать ему несколько слов правды.
Бережно опираясь на костыль, слепец стал поодаль царского одра и спросил:
– Какую, великий государь, повелите рассказывать сказку?
– Какую придумаешь, – сказал Иоанн, – я хочу сна и спокойствия.
– С царского позволения, – сказал Парфений, – начинается сказка о Дракуле. Жил был Дракула, – начал Парфений, – мутьянский князь, гневом страшил, а правду любил. Приехал в ту землю купец богатый, из Угорской земли Басарга тороватый; на возу были кипы товара да с золотом мешок. Приустал Басарга с дороги, не близкий был путь, захотелось вздремнуть. Купец богатый оставил воз на площади перед палатой, понадеясь на честных людей, и пошёл отдохнуть. На ту пору человек незваный, нежданный подошёл к возу, заприметя мешок, взял без спросу. Проснулся купец на заре, спохватился, к мешку торопился, ни золота, ни мешка не нашёл; Дракуле челом бить пошёл, рассказал всё, как было. Рассердился Дракула и рвёт, и мечет, не что твой кречет, а сам приговаривает: «Ступай, откуда пришёл, твоё золото найдётся в эту же ночь». Забили по городу в набат, скачут, шумят; велел Дракула вора найти, до сумерек привести, а вор догадлив был, и след простыл. Дракуле донесли, что нигде не нашли. Рассердился Дракула и рвёт, и мечет, не что твой кречет, а сам приговаривает: «Срою весь город, если не сыщется золото»; позадумался, принадумался, велел из казны принести золотых монет, ночью в мешок уложить, в воз положить, столько златниц, сколько было в мешке, да ещё лишнюю. Купец Басарга до зари не доспал, взглянуть на воз пошёл, мешок с золотом там нашёл; купец удивился, считать торопился, лишнюю златницу начёл. Купец был честный, не то, что иные бояре, пошёл Дракуле сказать: «Нашёл я своё золото при товаре, да одну златницу лишнюю, и та не моя; прикажи её взять от меня». Дракула купца похвалил, а и вор пойман был; суд ему короток: с золотом на шею мешок, и вздёрнули на крюк перед палатами. Дракула сказал купцу: «Ступай, Басарга! Не миновать бы и тебе крюка; скажи спасибо себе, что цел; лишнего взять не посмел!» Тут купец всполошился, перекрестился, слёзно Бога благодарил: «Слава Тебе Боже, что я честен был!» А Дракула-князь похвалялся; научить честности всех обещался. В том городе, государь, было поле, и через поле то, под горою, колодезь с ключевою водою. Дракула взял чашу золотую, поставил у колодца на колоду; всякой, кто хотел, из колодца пил воду, а до чаши никто не касался, грозного князя боялся. У владыки смотрят сто глаз, а Дракула горазд: хотел, чтобы всякое дело с перелома кипело; было бы всё в порядке; не было бы ни калек, ни бедных, ни тунеядцев вредных; всякой чтобы труд свой справлял, а другим помогал. Не легко тому быть, а у Дракулы наука: казнить да казнить. Нагнал он переполоха на всех валахов; никому спуска не было. Мужу ль жена согрешила, провинилась; в доме небережно водилось, дети в красне, в хороше не ходили, жену такую казнили. Муж ли поглядывал на чужую жену, мужа казнить за вину. И князь Дракула перевёл столько людей, что на площади его и на палатных дворах, вместо шаров на ограде, торчали головы на железных колах. Вот пришли к нему два черноризца из угорской земли. Дракула угостил их трапезой и, развеселясь, спросил: «Что об нём думают, смышляют, правдимым ли его почитают?» Старший черноризец сказал: «Ты правду утвердить пожелал, но у тебя все вины виноваты; за всё казнишь, не разбираешь, с плевелами и пшеницу вырываешь. Судить вину закон, а иную Бог; человек не без греха, Бог не безмилости. Будешь за всё казнить, не исправишь, на суд Божий ничего не оставишь». А младший черноризец, челом ударя, сказал: «Слава суду государя, правосуден ты и премудр исправитель, Божия суда совершитель». Полюбилось такое слово Дракуле. Старца черноризца велел казнить, младшего казной наделить, а сам встречному поперечному продолжал судить по-прежнему; ещё на думе осталось: дряхлых, увечных всех перевесть, а глядь, прибавляется старым веку, там видит хилого, там калеку; ходят, трясутся, худо служат, на бедность да на увечье тужат; придумал разом исправить, чем бы помочь людям таким, что в тягость себе и другим. Велел Дракула клич кликнуть: бирючи скликают, всех увечных и дряхлых сзывают. Со всех концов города собрались, ждали помощи, дождались: их обложили дровами и сожгли у палат пред воротами; от костров вихрь пламя метал, загорелись палаты, и Дракула тут же сгорел; не спознался с дряхлостью, не скучал хилостью. Хороша строгость с разумом, хорошо правосудие с милостью...
Слепой старик досказал тихим, дрожащим голосом свою сказку. На его счастье Иоанн заснул, и слепой, перекрестясь, вышел из государевой почивальни.








