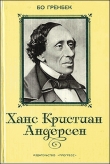Текст книги "Андерсен"
Автор книги: Борис Ерхов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
Наступившее вскоре Рождество Андерсен встретил в большой компании датских, норвежских и шведских писателей и художников на вилле Боргезе, в домике, расположенном у амфитеатра в саду, у заменявшего елку апельсинового деревца. Он специально сочинил для праздника исполненную хором «Скандинавскую рождественскую песню», воспевающую дружбу и единство скандинавов:
Три языка – единый сплав.
Три брата – каждый скандинав.
В песне воздавалась хвала шведскому и датскому монархам:
И Карлу Юхану [134]134
Карл XIV Юхан, или Жан Батист Жюль Бернадот(1763–1844) – с 1804 года наполеоновский маршал, в 1806 году взял в плен отряд шведских солдат в тысячу человек, сражавшихся против него в Пруссии. Гуманное обращение с ними сделало его имя популярным на их родине. В 1810 году Государственный совет Швеции предложил избрать его престолонаследником престарелого шведского короля Карла XIII, что было подтверждено шведским парламентом. С этого времени Бернадот становится фактическим правителем страны, а с 1818 года – шведским королем Карлом XIV Юханом, основателем и поныне царствующей династии Бернадотов. В 1812 году порвал отношения с Францией и в 1813–1814 годах сражался во главе шведских войск против Наполеона I. После смерти на его руке была обнаружена татуировка с надписью на французском языке: «Смерть королям».
[Закрыть]ура!
Гип-гип ура и Фредерику [135]135
Фредерик VI(1768–1839) – в 1784–1808 годах регент Дании и Норвегии, в 1808–1814 годах король Дании и Норвегии, потерял последнюю в результате поражения в Наполеоновских войнах. В 1788 году отменил крепостное право на родине и рабство в датских колониях.
[Закрыть]!
что было в те времена «политически некорректно»: в Дании еще жили отголоски многовековой вражды между королевствами, окончательно умолкнушие лишь в 1850-1860-е годы, во времена военного конфликта Дании с Пруссией и Австрией из-за Шлезвига и Гольштейна, когда умами датчан, норвежцев и шведов владело течение «скандинавизма» – культурного и политического единства стран Скандинавии. Некоторые участники праздника немного поколебались, прежде чем присоединиться к хору; в Дании вольномыслие Андерсена («воспевание шведской короны за датские деньги») также вызвало нарекания.
12 февраля, сразу после недельного римского карнавала, Андерсен вместе с Херцем и еще одним приятелем отправились на юг Италии, в Неаполь, где как раз в это время происходило извержение Везувия. По-видимому, не вполне сознавая, насколько это опасно, датчане совершают восхождение на вулкан. Сначала они идут по колено в пепле, а затем, ступая по застывшей и еще горячей корке лавы, пробираются ближе к ее эффектно изливающимся потокам. «Я ощущал небывалый восторг и прилив сил, напевал какой-то мотив из Вайсе и был первым, кто взобрался на гору» [136]136
Там же. С. 156.
[Закрыть].
Через несколько дней Андерсен с друзьями посетили Помпеи и греческие храмы в Пестуме. «Здесь я увидел слепую нищенку, почти девочку, одетую в лохмотья, но дивную красавицу. Это было живое воплощение богини красоты… Она произвела на меня такое сильное впечатление, что я даже не посмел подать ей милостыню, а только стоял и смотрел на нее с каким-то благоговением, как на богиню того храма, у входа в который она сидела» [137]137
Там же. С. 158, 159.
[Закрыть]. Чуть позже Андерсен вместе с Херцем посетил остров Капри, где 6 марта 1834 года (отметим в памяти эту дату!) они побывали в Голубом гроте, открытом за три года до этого двумя немецкими художниками, отважившимися во время отлива проникнуть в него.
После красот юга поэт возвращался в Рим без особого удовольствия. Отпраздновав в Вечном городе Пасху, с 1 апреля он начинает свое четырехмесячное путешествие домой. Венеция, которую он на пути конечно же посетил, произвела на него если не тягостное, то все же печальное впечатление. Днем, как писал Андерсен в «Сказке моей жизни», она напоминала ему «мертвого лебедя, качающегося в замусоренных волнах» и только к ночи «представала во всей красе, как это и подобает королеве Адриатики» [138]138
Там же. С. 162.
[Закрыть]. В Венеции, впрочем, Андерсена ужалил скорпион и у него до самого плеча распухла рука. Укус, однако, оказался не особенно ядовитым. «Наконец, в черной, похожей на катафалк, гондоле я, признаться, без сожалений покинул город» [139]139
Там же.
[Закрыть].
В начале мая Андерсен прибыл в Мюнхен, где, работая над новым произведением об Италии, провел целый месяц. Затем в июне и июле, почти восемь недель, живет в Вене, посещает Прагу и отправляется в Германию, где 24 июля в Берлине встречается с Шамиссо, у которого как раз в это время вышло собрание сочинений, включавшее перевод шести андерсеновских стихотворений. 3 августа 1834 года на пароходе «Фредерик VI» поэт возвращается в Данию.
Он ехал обратно без особого воодушевления. Что ожидало его в Копенгагене? Зависимое положение. Нехватка денег – они уже потрачены, и он вынужден, чтобы возвратиться, снова обращаться за денежной помощью к Коллину. Кроме того, у него сложилось впечатление, будто дома его не ценят. Любую критику своих произведений поэт воспринимал в штыки. По дороге, ознакомившись с обозрением Мольбека, о котором ему писал ранее Эдвард Коллин, он лишний раз убедился в недоброжелательном, как ему всегда казалось, к себе отношении. В свое время автор обозрения высоко отозвался о его первом поэтическом сборнике «Стихотворения» (1830). Теперь же:
«Критик забыл высказанное им прежде мнение, все окружающие – тоже; меня втоптали в грязь, исключили из числа датских поэтов. Каждое его слово резало меня по сердцу ржавым ножом. Можно представить себе поэтому, с каким ужасом я ожидал своего возвращения. Я всеми силами старался отдалить эту минуту и отвлечься путевыми впечатлениями, чтобы выкинуть из мыслей ожидавшее меня там, куда я должен был прибыть через какой-нибудь месяц» [140]140
Там же. С. 167.
[Закрыть].
Андерсен влюбился в Италию, страну, где он был свободен от того, чтобы перед кем-либо отчитываться. На обратном пути через Швейцарию он познакомился с шотландцем, признавшимся ему, что тоскует по родине. Андерсен позавидовал ему. Он писал Хенриетте Вульф:
«…почти сразу же подобное чувство охватило меня! По эту сторону Альп ностальгия проснулась в моей душе, глубокая и мощная ностальгия! Я тоскую по родине, по земле, на которой растут апельсиновые деревья, по бесконечно голубому морю с плавающими по нему островами, по Везувию с его огненной лавой и жизнью у подножия. О, как жаль, что я оказался так далеко от Неаполя, как жаль, что я не поселился в нем навечно!»
Красота Италии и свободная жизнь в окружении писателей и художников, главное же – ощущение полной независимости от кого бы то ни было, по-видимому, произвели в настроении Ханса Кристиана чрезвычайно важные перемены. Он твердо решил, что вернется на родину другим человеком и более не будет ни от кого – и самое главное, от друзей – выслушивать поучений. «Я этого не потерплю! Я намерен поломать эту старую с их стороны привычку, иначе она закрепится на всю мою жизнь», – писал он 16 мая другу гимназической юности Людвигу Мюллеру, с которым познакомился еще в Слагельсе. По дороге домой 1 августа он признается в письме Хенриетте Вульф-младшей из Гамбурга: «…я лечу в мой Гефсиманский сад – навстречу поцелуям Иуды и смертной чаше, пусть это и чересчур поэтично; я – поэт-бабочка, а она более всего красива, когда машет крыльями, пришпиленная иголкой».
В «Сказке моей жизни» Андерсен писал, что сошел на датский берег со смешанным чувством: «На глазах у меня были слезы, но не каждая из них была слезой радости» [141]141
Там же. С. 175.
[Закрыть]. Он конечно же был рад возвращению и в то же время ждал неприятных сюрпризов. Опасения его, однако, скоро развеялись. В Копенгагене он остановился в Морской академии (то есть в Амалиенборге) у Вульфов, где хранил кое-какие вещи и одежду, и в тот же вечер побывал в гостях у Коллинов, где праздновали день рождения их дочери Луизы. Его приняли как вернувшегося домой сына и брата. 26 сентября Андерсен писал находившейся в это время в Италии Хенриетте Вульф, что «он даже видел слезы на глазах у конференц-советника». Весь следующий месяц он провел за работой в Сорё у приютивших его у себя Ингеманов – окна в его небольшой комнатке в мезонине выходили на озеро, лес и сад, – а в сентябре снял небольшую квартиру в Нюхавне, прибрежном районе Копенгагена. В том же письме от 26 сентября он подробно обрисовал свое положение Хенриетте Вульф. С Эдвардом, сообщал он ей, у него теперь, после резких письменных объяснений, сложились ровные отношения. Нынешний Эдвард – его верный друг, и Андерсен высоко ценит его твердый и положительный характер. Как он убедился, в дружбе нет места женственной мягкости, и теперь его младшему товарищу в голову не придет поучать его, они равны во всем. «Теперь я ни к кому не предъявляю таких строгих требований, как прежде, и повсюду встречаю только благожелательность. Никогда еще я не чувствовал себя так хорошо, как сейчас. Я знаю, где стою, и вижу лучше, чем прежде, насколько глубоко та или иная персона может меня уязвить. Если же рядом со мной оказывается поучающий проповедник из тех, что так охотно меня воспитывали, я сначала его выслушиваю, не несет ли он чепухи, и, если ее обнаруживаю, он тут же получает от меня по носу».
Как выяснилось, Эдвард, откуда-то прознавший, что его друг пишет «многотомные» путевые записки об Италии, и раздраженно издевавшийся над этой идеей, оказался не прав. На этот раз Андерсен создавал не путевой очерк, а настоящий роман с захватывающей романтической интригой, хотя отчасти Эдвард угадал: Андерсен писал об Италии, хотя в равной степени и о самом себе: опыт «Теневых картин» и незаконченной автобиографии не пропал даром. В новой книге он перенес свои детство и юность из Оденсе и Копенгагена в Рим, Кампанью, Неаполь и Венецию. Автор романа вдохновенно повествовал о том, как могла бы сложиться его жизнь, родись он не от прачки в Оденсе, а в Риме, в доме неподалеку от Испанской лестницы. Название нового произведения тоже появилось не произвольно. Как пишет о том Андерсен в «Сказке моей жизни», ему передали, что Хейберг в своем отзыве на водевили «Испанцы в Оденсе» и «Двадцать пять лет спустя» назвал его «поэтом-импровизатором» («Неоспоримый факт, что господин Андерсен в своих драматических произведениях теряет чувство вкуса, столь свойственное ему прежде как поэту-лирику. В самом деле, он – поэт-импровизатор и как таковой не обладает рассудительностью и хладнокровием – необходимыми качествами того, кто работает на театре», – писал Хейберг дирекции Королевского театра по запросу Йонаса Коллина), и писатель это прозвище с удовольствием подхватил. Тем более что и героиня романа Жермены де Сталь «Коринна, или Италия», который Андерсен читал на пути в Италию, тоже выступала с импровизациями. Название, действительно, оказалось точным. Как уже упоминалось, подростком Ханс Кристиан сочинял в своем воображении пьесы по списку действующих лиц, перечислявшихся на афишах спектаклей, и он же мальчишкой распевал на знакомые мелодии стишки собственного сочинения, стоя на камне, с которого его мать полоскала в речке Оденсе чужое белье. Вымышленный герой романа «Импровизатор» мальчик Антонио тоже сочиняет песни, подражая уличным певцам, а ставши немного старше, даже выступает с поэтическими импровизациями на сцене, как делали это реально существовавшие итальянские поэты-импровизаторы Томмазо Сгриччи (1789–1836) и Луиджи Чиккони (1804–1856). Остальные герои и персонажи романа также наделены чертами друзей и знакомых. Позже Андерсен говорил, что каждый характер из его книги взят из жизни и ни один из них им не выдуман.
Наверное, самой бесцветной героиней романа, матерью Антонио, автор жертвует в самом его начале ради завязки сюжета: она попадает под колеса кареты графа Боргезе во время праздника цветов, на который приехала из Рима со своим маленьким сыном к приятельнице в Дженцано, поселении на берегу овеянного легендами озера Неми [142]142
Неми – озеро в 30 километрах к югу от Рима. На его берегу располагались вилла императора Калигулы, его могила, а также храм Дианы. На озере, согласно легендам, Калигула построил два корабля, представлявших собой плавучие храм Дианы и дворец императора. Остовы кораблей были обнаружены в 1444 году, во время правления Муссолини озеро осушили, корабли извлекли со дна и установили в музее, уничтоженном в 1944 году во время отступления из Италии немецких войск.
[Закрыть]. Так Антонио становится сиротой. Своего отца он не знает: тот давно умер, и мальчика забирает к себе родной дядя Пеппо, отвратительный нищий калека, якшающийся с уличным отребьем. Пеппо внушает мальчику инстинктивный страх – точно такой же, какой испытывал Ханс Кристиан в детстве к своему полусумасшедшему деду.
Ночью мальчику удается бежать из подвального жилища дяди через окно. Он становится бездомным, но уже наутро его находят в Колизее, где он, устав от блужданий, заснул. Художник Федериго, датчанин, снимавший у покойной матери Антонио комнату, его натурщица Мариучча и отыскавший мальчика духовник матери монах фра Мартино устраивают его у живущих в Кампанье пожилых родителей Мариуччи, крестьянина Бенедетто и его жены Доменики, простота жизненной философии и открытость характера которой выдают в ней, по-видимому, черты матери Андерсена.
Городской мальчик оказывается в тесном деревенском доме, которым служит крестьянской семье древняя каменная гробница с нишами для могил – в них обитатели дома укладываются спать на ночь. С этим оригинальным жилищем связан еще один сюжетный поворот: на графа Боргезе, собиравшего в окрестных лугах растения для гербария, нападает стадо быков, и лишь находчивости Антонио граф обязан своим спасением. Вскоре семья Боргезе берет его к себе на воспитание и устраивает в иезуитский колледж, чтобы со временем он стал аббатом. Так проходит несколько лет. Сообразительный, набожный и чувствительный юноша обретает в графском дворце свой второй дом, а дочь графа Франческа и ее муж Фабиани всячески опекают его. В школе иезуитов Антонио делает заметные успехи, его ценят за послушание и поэтический талант, хотя между ним и одним из учителей, Аббасом Дада (его имя объясняется арабским происхождением), истовым поклонником Петрарки и латинской учености, возникает конфликт: Дада, отказывающий Данте, вопреки его громкой славе, в поэтическом таланте, запрещает своим ученикам читать «Божественную комедию». Своенравием и высокомерной убежденностью, что только он один является светочем истины, Аббас сильно напоминает реального учителя Андерсена Мейслинга, за тем только исключением, что итальянец не тиранит, как Мейслинг, своих учеников. Любознательный Антонио тайно нарушает запрет Аббаса, ему удается купить «Божественную комедию», которой он восторгается, о чем догадывается другой ученик колледжа Бернардо, тоже читавший Данте. Между юношами завязывается дружба, хотя Бернардо, племянник римского сенатора, своей энергичной, мужественной натурой сильно отличается от мягкого и склонного к поэтическим грезам Антонио.
Проходит немного времени, и дружбе между юношами приходит конец. В Рим на гастроли приезжает прославленная певица, молодая красавица Аннунциата, которую публика буквально носит на руках. Между влюбленными в нее друзьями возникает соперничество, приводящее к схватке. Свидетельницей ее становится Аннунциата. В явно неравном поединке, начатом Бернардо, тихий и неопытный Антонио, сам того не желая, ранит друга, к тому времени уже офицера гвардии. Антонио в отчаянии, он уверен, что убил своего соперника. Раненый остается на руках у Аннунциаты, а герой, убежденный в том, что певица любит Бернардо, покидает их: он вынужден бежать и скрываться от правосудия. В результате он оказывается в плену у разбойников, располагает их к себе своим искусством рассказчика и певца, и они переправляют его на юг Италии в Неаполитанское королевство. Здесь, опять же благодаря своему таланту и помощи Федериго, он дает свой первый успешный концерт поэтической импровизации. Напрасно супруга местного археолога и коллекционера, приятеля Федериго, Санта пытается соблазнить молодого поэта (здесь, естественно, вспоминается аналогичная попытка жены Мейслинга, описанная в неоконченной автобиографии Андерсена), он верен своей несчастной любви. Однажды в Пестуме он видит у входа в античный храм нищую девушку, слепую красавицу Лару, и настолько ею очарован, что не смеет даже подать ей милостыню. Тогда же он получает записку от неизвестной женщины, которая назначает ему срочную встречу. Считая, что записка прислана влюбившейся в него Сантой, Антонио ее игнорирует и вместе с дочерью графа Франческой и ее мужем Фабиани, оказавшимися в то время в Неаполе, возвращается в Рим, где граф прощает его измену священническому званию. Кроме того, Антонио узнает, что рана, нанесенная им Бернардо, оказалась не столь серьезна, как он считал, и закон его более не преследует. Им овладевают новые чувства – любви и скорби.
Дело в том, что подросшую к тому времени дочь Франчески и Фабиани ожидает постриг: воспитывавшаяся в монастыре Фламиния по традиции, принятой в знатных римских семействах, должна стать монахиней, и она со смиренной радостью воспринимает свою судьбу, вызывая у Антонио глубокую грусть. Чтобы развеять ее, граф посылает его в Венецию, где молодой поэт выступает с несколькими успешными сеансами импровизации и завязывает дружбу с подестой (главой администрации) этого города и его дочерью Марией. Однажды, отправившись на оперный спектакль в местный театр, Антонио узнает в одной из актрис Аннунциату: она утратила прежний талант и божественный голос, исхудала и потеряла прежнюю красоту. Поэт посещает ее в номере бедной гостиницы, где бывшая красавица сообщает, что всю жизнь любила только его одного, и берет с него слово не преследовать ее, уже обреченную на скорую смерть болезнью. Будущее Антонио, по ее убеждению, связано с дочерью подесты Марией.
В «Сказке моей жизни» Андерсен сообщает, как родился у него образ Аннунциаты. Уже будучи студентом, во время посещения Оденсе он увидел в женской палате богадельни на тумбочке возле одной кровати прекрасную живописную миниатюру, портрет молодой женщины, совершенно не вязавшийся с окружающей обстановкой. Когда он спросил, кому принадлежит портрет, к нему подозвали маленькую худенькую женщину в выцветшем черном шелковом платье. Это была постаревшая немецкая актриса, игравшая главную женскую роль в музыкальной постановке «Дева Дуная», первом спектакле, на который родители взяли его с собой. Облик этой женщины слился в воображении Андерсена с образом блестящей испанской оперной певицы Марии Малибран (1808–1836), которую он не раз слышал в Неаполе.
В сюжете «Импровизатора» есть немало натяжек и несоответствий. Так, например, очень витиевато читателю доказывается, что дочь подесты Мария, которую полюбил Антонио после выздоровления от тяжелой лихорадки, сразившей его после смерти Аннунциаты, – это нищая красавица Лара из Пестума, только излечившаяся от слепоты. Срочная записка, полученная им в Неаполе, также была послана ему не Сантой, а Аннунциатой. Подобные нестыковки и сюжетные заплатки все же не воспринимаются в романе как существенные. Главное в нем – зарисовки Италии, выполненные с истинной влюбленностью в эту страну. Сам стиль «Импровизатора» пронизан воодушевлением и чувственностью, книга, по сути, – это «сны наяву» молодого Ханса Кристиана, ее чуть-чуть наивного автора (обратим внимание, сколь многими героинями романа он любим – это и Фламиния, и Аннунциата, и Санта, и Лара – Мария!). Повествователь Андерсен почти полностью перевоплощается в Антонио и, временами почти с ним сливаясь, размышляет о себе и своей судьбе. Так, например, оценивая шесть лет жизни в доме графа Боргезе, герой не только благодарит своих покровителей за оказанные ему благодеяния, но и сетует на горечь зависимого положения. Андерсен очень выразительно перенес в роман назревший к тому времени кризис в отношениях со своими многочисленными благодетелями:
«Меня считали прекрасным молодым человеком, довольно талантливым и многообещающим, и поэтому все так охотно брались воспитывать меня. Благодетелям моим давало на это право мое зависимое положение, другие же просто пользовались моим добродушием. Я глубоко чувствовал всю горечь своего положения, но терпеливо переносил ее. <…> И вот, я научился вежливо улыбаться, когда меня душили слезы, почтительно кланяться, когда мне хотелось презрительно отвернуться, и с вниманием выслушивать пустую болтовню глупцов. Притворство, горечь и отвращение к жизни – вот каковы были плоды того воспитания, которое навязали мне обстоятельства и люди. Мне постоянно указывали на мои недостатки; но разве во мне так-таки и не было ничего хорошего? Приходилось самому отыскивать это хорошее и ставить его на вид людям, но те, сами же заставляя меня углубляться в самого себя, упрекали меня за то, что я слишком ношусь с собой!»
В результате: «…я ожесточался, вооружался упорством; минутами просыпалось во мне и сознание собственного превосходства, но, скованное цепями рабства, оно превращалось в демона высокомерия, который уже свысока смотрел на нелепые выходки моих умных учителей и нашептывал мне: „Имя твое будет жить и тогда, когда их имена давно будут забыты или же будут вспоминаться только в связи с твоим, как гуща и капля горечи, попавшие в твою жизненную чашу“» [143]143
Пер. А. и П. Ганзенов. Цит. по: Андерсен Г. Х.Полн. собр. соч.: В 4 т. СПб., 1894. Т. 3. С. 191–193.
[Закрыть].
Роману предшествует посвящение на титульном листе: «Конференц-советнику Коллину и его замечательной жене, в лице которых я обрел настоящих родителей, а также их детям, настоящим моим братьям и сестрам, самому родному из всех домов, посвящаю я с сыновней и братской благодарностью эту книгу, лучшее, что до сих пор написал». И все-таки с каким чувством воспринимали сетования Антонио Коллины или Вульфы, если, конечно, они читали роман внимательно? Долгое время, считая Андерсена «своим», близким им человеком, они относились к его творчеству как к забавной и нелепой прихоти. Наверное, нельзя не признать наличия у них самого широкого великодушия и чувства юмора, не уступающего тому, которым обладал сам Ханс Кристиан. Коллины, Вульфы, Эрстеды и Ингеманы действительно любили Андерсена.
Органичной была и познавательная сторона романа. Скитания и переезды Антонио по его родине на удивление точно совпадают с маршрутами путешествий автора книги, и он очень успешно использовал свой метод «романтического пейзажа», отработанный ранее в «Теневых картинах». Книга эмоциональна и очаровывает читателя. Русский рецензент романа (по-видимому, В. Г. Белинский) счел самой интересной его стороной «итальянскую природу и итальянские нравы, очерченные не без таланта и не без увлекательности» [144]144
[Белинский В. Г.] //Отечественные записки. СПб., 1845. Т. 38. № 3. С. 2, 3(4 отд.).
[Закрыть].
Как ни странно, но Андерсену пришлось едва ли не упрашивать издателя напечатать роман, но он все же вышел в Копенгагене в апреле 1835 года. На этот раз своей работой был доволен не только автор, но, что гораздо важнее, ею по-настоящему увлеклись читатели. В конце апреля Андерсен пишет Хенриетте Вульф: «Все так любезны, так со мной обходительны, многие даже утверждают, что такого от меня не ожидали. Я на волне успеха, но мое сердце полно благодарности доброму Богу, от которого я воспринимаю все это как дар, как милость, которой он позволил излиться в мою душу». Другой своей приятельнице, внучке типографа Иверсена Хенриетте Ханк, с которой Ханс Кристиан поддерживал не менее, а, может быть, даже более доверительную переписку, 19 января 1836 года он сообщал: «Ни одна еще зима не удавалась такой спокойной и счастливой, как эта. „Импровизатор“ завоевал уважение ко мне среди самых благородных и лучших. Даже широкая публика относится сейчас ко мне с большей благосклонностью, нежели прежде. Слава Богу, денежные дела мои поправились, и в последнее время жизнь сделалась намного приятней».
Критика тоже была на этот раз к его произведению благосклонной и в целом оценила роман положительно, хотя Андерсен, как всегда, считал ее неудовлетворительной, беспринципной и мелочной. В автобиографии «Моя жизнь как сказка без вымысла» он писал: «…когда же критика романа наконец появилась, естественно много более вежливая, чем та, к которой я привык, все удачные места в книге не затрагивались – „это же и так ясно“, зато недостатки, какие есть или нет, вскрывались полностью. Перечислялись буквально все неправильно написанные итальянские слова и выражения. Как раз в то время у нас появилась известная книга Густава Николаи „Италия как она есть“, с ней носились повсюду и вслух провозглашали, что теперь-то вот все увидят, что писал об Италии Андерсен, у Николаи все написано по-другому, истинно понял эту страну только он. Один из наших небольших поэтов, вхожий в свет, как-то прочитал в небольшом обществе, ожидающем приема у короля, чуть ли не доклад о слове „Колизей“, которое у Байрона было написано иначе, чем у меня в „Импровизаторе“. Я как раз тогда собирался подарить книгу принцу и тогда же, на месте, доказал, что мое написание правильнее, чем байроновское, на что граф с улыбкой пожал плечами и высказал сожаление, что в столь красиво переплетенную книгу вкралась ошибка».
Не меньшую, а, вероятно, даже большую популярность снискал Андерсену «Импровизатор» за границей. Уже в следующем, 1836 году под названием «Юность и грезы одного итальянского поэта» роман вышел в Германии, в 1838—1839-м – в Швеции, в 1844-м – в России [145]145
На русском языке роман неоднократно переиздавался в дальнейшем в 1845, 1849, 1887, 1894, 1899, 1995 и 2000 годах в переводах Р. К. Грот и А. и П. Ганзенов.
[Закрыть], в 1845-м – в Англии, в 1846-м – в Голландии, в 1847-м – во Франции и в 1851 году – в Чехии. Это был феноменальный, еще не виданный для датской литературы успех. Ни одно другое произведение датского автора не издавалось почти в одно время в семи разных странах. С этого момента Андерсен, если у него и существовали сомнения на счет своего таланта, мог считать себя состоявшимся писателем или, как ему всегда хотелось, Поэтом. Теперь он имел на это полное право, о чем и написал в автобиографии «Моя жизнь как сказка без вымысла»: «Эта книга помогла мне, образно выражаясь, вновь поднять свое жилище из пепла, она сплотила вокруг меня друзей и дала мне больше, чем любое другое произведение, написанное до этого: я впервые вполне ощутил, что получил истинное и заслуженное признание» [146]146
Пер. Б. Ерхова. Цит. по: Andersen H. C.Mit eget eventyr uden digtning. København, 1975. S. 82.
[Закрыть].
Лишним доказательством тому служит тот факт, что Андерсена еще охотнее, чем прежде, стали приглашать в свои загородные имения его старые и новые знакомые. Среди них стоит отметить госпожу Линдегорд, щедрым гостеприимством которой в ее замке Люккесхольм [147]147
Люккесхольм принадлежал в XVII веке одному из самых богатых вельмож того времени Каю Люкке (1625–1699), кукла которого (сам вельможа спешно бежал) была публично казнена за личное оскорбление короля Кристиана IV. Андерсен сообщает, что его поселили в бывшем покое хозяина замка в одной из башен.
[Закрыть], расположенном на востоке острова Фюн, Андерсен не раз пользовался летом в 1832, 1835–1837 и 1839 годах. Вот как весело проводил он в нем время в самом начале своего писательского успеха, о чем писал Эдварду Коллину 16 июля 1835 года: «Дорогой Эдуард! Знаешь, что выпало мне на долю в Люккесхольме? За мной так ухаживали, что я пробыл там вместо двух дней целых семнадцать! И чего только эти барышни не придумывали! Героя дня пытались даже напугать! Прятали мне под кровать живого петуха, привязывали к занавескам моей кровати бумажки с майскими жуками, сыпали в постель горох и т. д., но я живо раскрывал все их плутни и по великодушию своему даже не мстил за них. Раз подмывало меня, впрочем, лечь в виде привидения в постель одной из молодых барышень (они раз положили в мою куклу женского пола), но раздумал; пожалуй, это могли бы истолковать превратно, да и сама старая госпожа [148]148
Имеется в виду хозяйка поместья Йоханна Мария Линдегорд (1763–1838), вдова статского советника С. Линдегорда.
[Закрыть], которой я доверил свой план, с сомнением покачала головой!» [149]149
Пер. A. и П. Ганзенов. Цит. по: Андерсен Г. Х.Полн. собр. соч.: В 4 т. СПб., 1895. Т. 4. С. 350.
[Закрыть]
Успех «Импровизатора» коренным образом повлиял на всю дальнейшую судьбу Андерсена. В частности, роман понравился влиятельному голштинскому аристократу и премьер-министру в 1831–1839 годах графу Конраду Ранцау-Брайтенбургу (1773–1845), стороннику единства Дании и Гольштейна, приславшему Андерсену восторженное письмо. В ответ писатель подарил ему экземпляр своего следующего романа «О. Т.» и встретился с ним, после чего тот исхлопотал для него ежегодную стипендию, размер которой (200 ригсдалеров в серебряной монете) с годами только увеличивался, составляя твердую основу для обеспечения минимально необходимых расходов поэта. Сообщая 5 июня 1838 года радостную новость Ингеману, Андерсен писал: «Ну вот, наконец-то я вырастил в своем саду хлебное деревце и теперь более не вынужден петь у каждой двери, выпрашивая кусок хлеба на пропитание». Отметим, что с течением времени и ростом популярности писателя за границей и на родине его «хлебное деревце» росло тоже: с 1845 года стипендия была увеличена до 600, а с 1860 года – до тысячи ригсдалеров; помощь государства отчасти освободила писателя от самых насущных материальных забот.
В финале «Импровизатора» Андерсен поставил понятную лишь его друзьям личную печать. 6 марта 1834 года Антонио со своей женой Марией и трехлетней дочкой Аннунциатой посещают остров Капри и на лодках отправляются к Голубому гроту, с которым у счастливых супругов связано судьбоносное мистическое переживание. На этот раз они находятся в пещере в компании двух датчан: один из них – «бледный, с выразительными чертами лица, был одет в синий костюм», второй – «невысокий и серьезный молодой человек с проницательным взглядом в белом костюме». В книге не объясняется, что это были сам Ханс Кристиан Андерсен и Хенрик Херц, посетившие Голубой грот на Капри как раз 6 марта 1834 года, что отмечено писателем в его дневнике.