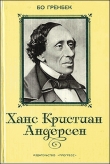Текст книги "Андерсен"
Автор книги: Борис Ерхов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц)
И все-таки Андерсен был готов мириться с житейскими неурядицами, если бы к ним не добавлялось психологическое давление со стороны ректора, упрекавшего его в полной бездарности и обвинявшего в интеллектуальном зазнайстве. Ему вторила госпожа Хенриетта Вульф, жена командор-капитана, в своих эпистолярных порицаниях по-матерински костерившая Андерсена за те же грехи, но не так уж несправедливо писавшая еще 15 ноября 1823 года:
«Природа наделила Вас здравым умом, но ребенком Вы росли без призора, когда же достигли возраста, в котором могли проявить свои природные способности, и люди нашли, что жаль дать погибнуть тому хорошему, что есть в Вас, и они стали хвалить Вас и даже кое-что для Вас сделали, Вы составили себе – не скажу слишком высокое, но слишком выспренное представление о своих способностях и дарованиях. Между тем Ваши стихи однообразны, идеи и образы беспрестанно повторяются, а если Вы забираетесь в высшие сферы, то – простите матери, я ведь говорю с Вами сейчас как мать, – Вы впадаете в выспренность и ложный пафос. Талант Ваш сказывается только в юмористических стихах и прозе, и это нахожу не я одна, но многие, с кем я говорила по этому поводу. Вообще, милый Андерсен, пожалуйста, не воображайте себя ни Эленшлегером, ни Вальтером Скоттом, ни Шекспиром, ни Гёте, ни Шиллером и никогда не спрашивайте, по стопам которого из них Вам лучше идти. Ни одним из них Вам не быть! Такое чересчур смелое и тщетное стремление легко может совсем погубить те добрые, здоровые зачатки, которые есть в Вас и которые обещают, что из Вас выйдет полезный и дельный человек» [75]75
Пер. А. и П. Ганзенов. Цит. по: Андерсен Г. Х.Полн. собр. соч.: В 4 т. СПб., 1895. Т. 4. С. 408.
[Закрыть].
Но Андерсен не желал становиться всего только «полезным и дельным человеком», как настаивали на том и госпожа Хенриетта Вульф, и Йонас Коллин, и, в конце концов, даже сам Симон Мейслинг. Легко представить себе, с какой горечью он читал повторения материнских наставлений госпожи Вульф, с которыми она опять обращалась к нему в письме от 4 января 1827 года:
«Да, пора Вам возбуждать к себе не одно участие, но и уважение. Ваша поэзия, а также и проза – однообразное нытье. Будьте человеком, сильным и духом и телом! Не думайте постоянно о себе самом – это вредит и духу, и телу, – а прежде всего не говорите так много о себе и не выступайте так часто в качестве певца или декламатора, вообще умерьте свой пыл. Позвольте мне сказать Вам, что Вы плохо читаете по-немецки, а еще хуже по-датски, что Вы и читаете и декламируете аффектированно, тогда как воображаете, что читаете с чувством и воображением. Приходится быть настолько жестокой, чтобы сказать Вам: все смеются над Вами, а Вы не замечаете!» [76]76
Там же.
[Закрыть]
Следует признать, что с точки зрения житейской госпожа Хенриетта Вульф была абсолютно права и от всей души хотела Андерсену только добра. В ответ на его жалобы и стенания в другом письме от 8 марта 1827 года она писала ему:
«…все это только последствия того, что Вы вечно носитесь с самим собой, со своим великим „я“, воображаете себя будущим гением. Милый мой, должны же Вы понимать, что эти мечты несбыточны, что Вы на ложной дороге. Ну вдруг бы я вообразила себя императрицей Бразильской, неужели бы я, увидев всю тщетность моих попыток уверить в этом окружающих, не образумилась бы наконец и не сказала самой себе: „Ты – госпожа Вульф, исполняй свой долг и не дурачься!“ И неужели я не согласилась бы, что „лучше хорошо выполнять маленькую роль в жизни, нежели плохо большую“ только потому, что я сама забрала себе в голову этот вздор?» [77]77
Там же. С. 410.
[Закрыть]
И верно, Андерсен никогда бы не стал великим писателем, если бы последовал советам госпожи Вульф. Но он стал им, отчасти потому – что им не последовал. Хотя в январе 1827 года он пребывал в глубоком отчаянии. Мейслинг внушал ему мысль не только о незначительности его таланта, но и о его полном ничтожестве, и отчасти ему это удавалось. Как сообщает Андерсен в автобиографических записках, он хотел тогда умереть: «С этой мыслью я ложился спать по вечерам, с ней просыпался утром». Возможно, под влиянием этих настроений он пишет крайне эмоциональное стихотворение «Умирающее дитя»:
Как устал я, мама, если бы ты знала!
Сладко я уснул бы на груди твоей…
Ты не будешь плакать? Обещай сначала,
Чтоб слезою щечки не обжечь моей.
Здесь такая стужа, ветер воет где-то…
Но зато как славно, как тепло во сне!
Чуть закрою глазки – света сколько, света,
И гурьбой слетают ангелы ко мне.
Ты их видишь?.. Мама, музыка над нами!
Слышишь? Ах, как чудно!.. Вот он, мама, вот
У кроватки – ангел с белыми крылами…
Боженька ведь крылья ангелам дает?..
Все цветные круги… Это осыпает
Нас цветами ангел; мамочка, взгляни!
А у деток разве крыльев не бывает?
Или уж в могилке вырастут они?
Для чего ты ручки сжала мне так больно
И ко мне прильнула мокрою щекой?
Весь горю я, мама… Милая, довольно!
Я бы не расстался никогда с тобой…
Но уж только, мама, ты не плачь – смотри же!
Ах, устал я очень!.. Шум какой-то, звон…
В глазках потемнело… Ангел здесь… все ближе…
Кто меня целует? Мама, это он! [78]78
Пер. В. С. Лихачева. Цит. по: Андерсен Г. Х.Полн. собр. соч.: В 4 т. СПб., 1894. Т. 3. С. 478, 479.
[Закрыть]
Над чрезмерным мелодраматизмом этих стихов (перевод на русский достаточно адекватен) всласть посмеялись и Шарлотта Эленшлегер, и новая поклонница таланта Андерсена младшая Хенриетта Вульф, дочь его покровителей Вульфов, ставшая впоследствии самым верным другом поэта. Тем не менее стихотворение, впервые напечатанное вместе с параллельным текстом на немецком языке, скоро приобрело популярность и было напечатано в переводах на несколько языков, в том числе и в России (в 1856–1901 годах оно было напечатано в семи различных изданиях) [79]79
История освоения творчества X. К. Андерсена в России – тема для большого исследования, поэтому ограничимся лишь краткой его схемой. Произведения Андерсена (стихи, романы, сказки и автобиографии) стали издаваться у нас с 1840-х годов. Первая их публикация – перевод нескольких лирических стихотворений в прозе под русским названием «Выдержка из картинного портфеля месяца» (датское издание 1839–1854 годов, немецкое – 1847 года) – появилась в петербургском журнале «Маяк современного просвещения и образованности» в 1840 году (ч. 4). В 1844 году последовал перевод романа «Импровизатор» в журнале «Современник» (т. 33–36), в 1845–1858 годах несколько публикаций отдельных сказок в журналах «Современник», «Новая библиотека для воспитания», «Звездочка», «Отечественные записки» и «Подснежник». В 1851-м в журнале «Репертуар и пантеон» (кн. 7–9) была напечатана в переводе с немецкого языка «Моя жизнь как сказка без вымысла» (под заглавием «Сказка моей жизни, без вымысла»). Первые сборники и большие подборки сказок Андерсена, преимущественно в переводах с немецкого, появляются в 1856-м («Повести») и в 1863–1864 годах («Полное собрание сказок» в трех выпусках). С 1868 года («Новые сказки») издания сказок и других произведений появляются почти ежегодно. Венцом этого процесса явилось издание в 1894–1895 годах Петром Готфридовичем Ганзеном (Peter Emmanuel Gotfrid Hansen) и его женой Анной Васильевной (урожденной Васильевой) в их же переводах с датского языка четырехтомного собрания сочинений, включающего превосходные для того времени материалы к биографии автора, использованные и в настоящей книге. В СССР особого внимания заслуживают многочисленные и чрезвычайно добротные детские издания сказок в пересказах Т. Г. Габбе и А. И. Любарской на основе ставших к тому времени классическими ганзеновских переводов. Последние составили также основу выпущенных в 1983 и 1995 годах под редакцией Л. Ю. Брауде и И. П. Стребловой академических изданий «Сказки, рассказанные детям. Новые сказки» и «Сказки. Истории. Новые сказки и истории» в серии «Литературные памятники». В 2005 году издательством «Вагриус» совместно с Юбилейным комитетом «Ханс Кристиан Андерсен 2005» в рамках широкого датского проекта по обновлению андерсеновских переводов в основных европейских странах было выпущено полное собрание сказок Андерсена в новых переводах с его первой, не публиковавшейся на русском языке автобиографией. Особое внимание в последнем издании было обращено на точное соответствие русского текста датскому оригиналу.
[Закрыть]. Андерсен осмелился вставить его в письмо Йонасу Коллину, оправдывая нарушение запрета на творчество тем, что стихотворение «вылилось само собой» всего за несколько минут и написать его труда не составило. Из чувства долга он также показал его Мейслингу, который, вызывая своего ученика в ректорский кабинет, часто называл его «ослом» и «бездарью».
«Поверьте мне, – передает его слова Андерсен, – если б в вас была хоть малюсенькая искорка таланта, я бы не мог не разглядеть ее, я ведь сам пишу и знаю, что это такое. Но вы демонстрируете всего лишь полный разброд мыслей, глупость и сумасбродство! Если б вы обладали поэтическим даром, видит Бог, я поощрил бы вас, простил бы вам, что вы полный осел во всех школьных предметах и в грамматике, но вами движет идея фикс, которая доведет вас до сумасшедшего дома» [80]80
Пер. А. Чеканского. Цит. по: Андерсен Х. К.Собр. соч.: В 4 т. М., 2005. Т. 4. С. 134.
[Закрыть].
В письмах 1826–1827 годов Андерсен не раз жалуется Коллину на ректора, не забывая всякий раз подчеркнуть, что Мейслинг, при всей его грубости, желает ему только добра. Более того, в 1826 году он пишет ректору письмо, в котором объясняет особенности своего поведения и просит о понимании и снисхождении. Описав в самых жалостливых словах свое положение бедного мальчика из народа и свои мытарства в Копенгагене, Ханс Кристиан продолжает:
«Вы задаете мне вопрос – и кровь тотчас приливает мне в голову, из страха ошибиться я отвечаю невпопад, после чего мною овладевает отчаяние: „Из меня ничего не выйдет! Пропащий я человек!“ – и тогда я уж вовсе молчу как убитый. Вы сказали на днях, что я никогда еще не учился так дурно, как теперь, но Бог свидетель, это не от недостатка прилежания. Нет, это все мое отчаяние, недостаток бодрости духа и спокойствия. Наверное, я должен бросить учение, которое мне не дается, но за что же тогда я возьмусь? У кого найду сочувствие и интерес ко мне, если я оттолкну от себя самое высшее – образование? Мне стыдно будет показаться на глаза людям, которые желали мне добра и ожидали от меня только хорошего. Совесть не упрекает меня в лености; я делал, что мог, и виною всему только моя бестолковость и беспокойный нрав. Мое заветнейшее желание продолжать учение, оставаться на той же дороге, на которую поставили меня Провидение и добрые люди. Окажется это невозможным – я буду бесконечно несчастен. Господи! Что же тогда будет со мной! Я ведь не буду тогда годен ни на что! Эта мысль убивает меня. Лучше мне было не родиться» [81]81
Пер. А. и П. Ганзенов. Цит. по: Андерсен Г. Х.Полн. собр. соч.: В 4 т. СПб., 1895. Т. 4. С. 324.
[Закрыть].
Но увещевания не действуют, и отношения ученика и учителя становятся невыносимыми. Всякий раз после очередной стычки Андерсен теряет уверенность в себе и начинает сомневаться в своих способностях. Тогда, может быть, ему лучше вообще оставить гимназию и поступить куда-нибудь конторским служащим? Уехать, например, в датскую Вест-Индию [82]82
Датская Вест-Индия – колония Дании на Карибах, состояла из островов Санта-Крус, Сент-Джон и Сент-Томас. В 1917 году они были выкуплены у Дании США и ныне называются Виргинскими островами.
[Закрыть], где письмоводители наверняка нужны?
Коллин писал ему в письме от 19 августа 1826 года:
«Будьте благоразумны и успокойтесь, Андерсен! Принимайте вещи такими, каковы они есть на самом деле, а не такими, какими Вы их воображаете. Неприятности на дорогах жизни непременно встречаются, но отсюда не следует, что с них надо сворачивать. И особенно с дороги образования. Ее надо пройти до конца. Письменное суждение о Вас, которое ректор довел до моего сведения, чрезвычайно благоприятно, и потому Вам не следует терять головы или стойкости, когда он разговаривает с Вами серьезным и строгим тоном; он ведь Ваш непосредственный начальник, и Вы должны его слушаться. Всего наилучшего!» [83]83
Здесь и далее, когда иное не указано, перевод из писем, цитируемых по сайту Центра Андерсена в Оденсе ( http://www.andersen.sdu.dk/brevbase/index.html), выполнен Б. Ерховым.
[Закрыть]
Коллин, по-видимому, не понимал остроты положения, в котором оказался или, вернее, в которое позволил себя вовлечь его подопечный. Чиновник просто не верил словам Андерсена, объясняя их его преувеличенной экзальтированностью. И то сказать! В своих докладах Коллину Мейслинг почти всегда своего ученика хвалил! Впрочем, он не мог поступить иначе. Хороший воспитатель не расписывается в своей некомпетентности!
Андерсен жаловался на Мейслинга и госпоже Вульф, и та, в конце концов узнав о сложившейся в Хельсингёре ситуации от третьих лиц, серьезно обсудила ее с Коллином, после чего тот в очень осторожных выражениях попросил ректора умерить его чрезмерную к Андерсену строгость. В ответ он получил откровенно грубый совет «не соваться в дела, в которых он ничего не понимает, основываясь только на слухах». Заодно от Мейслинга попало и Андерсену, который посмел жаловаться на него.
Получив от Мейслинга хамское, по сути, письмо, Коллин строго, но вежливо выговорил ему за грубость и предложил забрать Андерсена из его дома, после чего ректор моментально остыл и, извинившись, предложил оставить все как есть. В феврале 1827 года между Андерсеном и Мейслингом произошло некоторое примирение, но оно, как всегда, продлилось недолго. Тогда Коллин предложил Андерсену перевести его в прежнюю гимназию в Слагельсе, но тот отказался. Таким образом, все осталось по-прежнему и, вероятно, не изменилось бы к лучшему, если бы в дело не вмешалось еще одно лицо – новый преподаватель древнееврейского языка в гимназии Кристиан Берлин, 22-летний молодой человек, бывший ученик Мейслинга, по традиции обедавший в доме своего наставника по воскресеньям. Он быстро понял невыносимость положения, в которое попал Ханс Кристиан, и, когда молодые люди вместе отправились на пасхальные каникулы в Копенгаген, посоветовал ему серьезно поговорить с Коллином о своей дальнейшей судьбе. Что тот и сделал с привычным уже нулевым результатом. Коллин, хорошо изучивший крайне переменчивый нрав юноши, то и дело переходившего от радостной восторженности к глубочайшей меланхолии, и на этот раз не захотел понять, что за внешне типовой психологической проблемой лежат серьезные личностные основания. По-видимому, в этом смог убедить его Берлин, серьезно поговоривший с ним. Какие именно привел учитель чиновнику доводы, до сих пор остается тайной, но, как бы то ни было, сразу после долгого разговора с ним Коллин решил забрать Андерсена из гимназии и в последний год до получения аттестата зрелости нанять для подготовки его к экзаменам частного преподавателя в Копенгагене.
Вместе с тем он приказал Андерсену отправиться обратно в Хельсингёр, чтобы вежливо и с достоинством попрощаться с Мейслингом, что тот и сделал. Как пишет Андерсен в автобиографических записках, переночевав в доме у одного из преподавателей – он прибыл в город поздно, ворота гимназии были уже закрыты, а данный ему женой Мейслинга ключ к воротам не подошел, – наутро он приблизился к Мейслингу в библиотеке и сказал: «Я хочу попрощаться с вами и поблагодарить вас за все хорошее, что вы для меня сделали». В ответ он услышал: «Шел бы ты к черту!»
Через десять лет Андерсен случайно встретился с Мейслингом в Копенгагене. В письме Ингеману от 5 января 1838 года он сообщал:
«На Рождество у меня была радость: Мейслинг встретил меня на улице и сказал, что должен объясниться: он плохо обращался со мной в гимназии, ошибался во мне, и сейчас ему от этого больно. Он просил забыть о его жестокости и сам сказал о себе: „Честь ваша, позор – мой!“ О, как это меня тронуло!»
Ту же встречу Андерсен описал в «Моей жизни как сказке без вымысла»:
«Через несколько лет, когда мои сочинения завоевали читателя и только что вышел роман „Импровизатор“, я встретил ректора в Копенгагене. Он примирительно подал мне руку, сказав, что ошибался на мой счет и обходился со мной несправедливо. Я предоставил его угрызениям совести».
На протяжении долгих лет Мейслинг еще не раз вспоминался Андерсену. Как свидетельствуют его дневники, он довольно часто видел его во сне. Появление в них Мейслинга почти неизменно сопровождалось ощущением тревоги, волнением и переживаниями из-за невыполненного перед ректором – а также перед Йонасом Коллином! – долга. И лишь однажды, за полгода с небольшим до смерти, 9 декабря 1874 года, Андерсен увидел Мейслинга во сне с умиротворенным чувством:
«Морфий подействовал сильно, и мне приснился сон, особенно приятный, потому что я в нем, сосредоточенный и спокойный, направлялся на экзамен. Вошел Мейслинг, и я сказал ему, чтобы он не слушал мои ответы – меня сковывает его присутствие и я боюсь ошибиться. После экзамена мы с ним отправились на прогулку. Он, по своему обыкновению, шутил, а я был весел и здоров. Мы скоро заговорили об искусстве и всем прекрасном и наконец сдружились, он ценил меня, а я – его. Пробудившись, я примирительному сну обрадовался».
Глава пятая
о настоящих и фантастических прогулках по Копенгагену и путешествии по Дании, во время которого Андерсен нашел даму своего сердца
Ах, как головокружительно прекрасно чувство недавно обретенной свободы! По возвращении в Копенгаген из Хельсингёра, где состоялось столь скандальное прощание с Мейслингом, Андерсен довольно быстро нашел себе жилье и поселился в доме по улице Вингордстреде в чердачной комнате, типичной романтической мансарде с единственным окном, из которого открывался вид на крыши зданий и стоящую чуть поодаль башню церкви Святого Николая – очень скоро вид из этого окна будет запечатлен в новых произведениях начинающего поэта.
Кандидат Берлин оказался поистине добрым гением Андерсена: по его рекомендации преподавателем, который должен был готовить юношу к экзаменам на аттестат зрелости, Йонас Коллин нанял его знакомого, кандидата Людвига Мюллера, прозванного за познания в области восточных культур «Мюллером Иудейским». Он занимался с Андерсеном по всем дисциплинам, кроме математики, в ней гимназист преуспел еще в Хельсингёре. Мюллер разительно отличался от Мейслинга: это был еще молодой человек (кстати, он преподавал латинский язык еще одному великому датчанину, Сёрену Киркегору), и с ним Андерсен не только сдружился, но и совершенно свободно вел споры на различные темы, даже те, в трактовке которых собеседники расходились. Мюллер был истово верующим христианином, толкующим Священное Писание, следуя его букве. Андерсену, напротив, казалось «чем-то несерьезным, чем-то принижающим Господа Бога представлять его, вопреки слову Христа, строгим властелином, карающим человека вечным огнем без надежды на спасение за то, что он не смог побороть в себе присущее ему от природы» [84]84
Пер. А. Чеканского. Цит. по: Андерсен Х. К.Собр. соч.: В 4 т. М., 2005. Т. 4. С. 147.
[Закрыть]. Вспомним, что примерно такую же ересь он приписывал своему отцу, который, согласно его воспоминаниям, отрицал существование черта. «И вообще нет никакого дьявола, кроме того, которого мы носим в собственном сердце» – эту фразу Ханс Кристиан вкладывал в уста отца в автобиографических записках. В спорах с Мюллером Андерсен сам, теперь уже напрямую, не прибегая к ссылке на третье лицо, утверждал, что «дьявола не существует и присутствует он лишь в образных выражениях». Учитель и ученик вели настоящие богословские сражения, так что однажды, когда Андерсен невзначай заметил, что хотел бы изучать в университете теологию, Мюллер сказал, что, если бы Андерсен решил стать священником, он, как учитель, публично выступил бы с заявлением, что его бывший ученик недостоин рукоположения.
Как видим, теперь Андерсен наслаждался свободой даже на занятиях, в гимназии воспринимавшихся им как тягостное и скучнейшее времяпрепровождение. Единственная отрицательная сторона возвращения в Копенгаген – ему приходилось экономить на всем: стипендия его оставалась прежней, но из нее нужно было платить за учебу. Впрочем, эти траты с лихвой восполнялись обедами по понедельникам у командора Вульфа, по вторникам у конференц-советника (то есть почти министра) Йонаса Коллина, по средам у статского советника, одного из директоров Королевского театра, Готше Ханса Ольсена, по четвергам у госпожи Фредерики Мюффельман, сестры горничной Мейслингов, по пятницам у статского советника Эрстеда, по субботам у управляющего королевскими складами Баллинга. Воскресенье Андерсен оставлял свободным. В этот день его обычно приглашали в гости, и он мог выбирать среди приглашающих. Отсюда, однако, не следует, что он злоупотреблял гостеприимством друзей и знакомых: пользоваться им у студенчества того времени не считалось зазорным. Андерсен «обедал по знакомым» и бесплатно гостил в богатых поместьях и в последующие годы, когда стал известным и признанным писателем, – теперь он был «гвоздь» обеденной программы и незаменимый собеседник.
Особенно благожелательный прием он встречал в семействе Вульфов, дочь которых Хенриетта Вульф-младшая относилась к нему с большой теплотой и искренностью. У Йетте Вульф был только один недостаток – ее внешность портил небольшой горб. Девушка стойко переносила это жизненное испытание и брала умом, обаянием и верностью. Выслушав (конечно же в декламации самого автора) стихотворение «Вечер», написанное Андерсеном под впечатлением пешего путешествия из Хельсингёра в Копенгаген в 1826 году, Йетте сразу же отметила характернейшую черту его таланта – иронию.
Особенно нравилась ей последняя строфа, в которой насмешливо, но с сочувствием обыгрывался образ поэта – созерцателя буколических дорожных картин. Попытаемся представить эту строфу в нерифмованном прозаическом переводе:
А вон, у склона, долговязый тип
С лицом, как у бедняги Вертера, поблекшим,
И носом, мощным, словно орудийный ствол,
И глазками – величиной с горошек.
Он напевает что-то, вопрошая «Woher?» [85]85
Откуда? (нем.).
[Закрыть],
И вдаль глядит на Запад.
И долго так стоит. Зачем, к чему?
Оставьте! Знать всего нельзя.
Хотя я знаю твердо: он – безумец,
Влюбленный иль поэт.
Как и многие другие друзья Андерсена, Йетте всячески поддерживала и одобряла оптимистический заряд, привносимый в его творчество юмором. И Андерсен охотно с ней соглашался. Теперь он был не против и попаясничать – чуть ли не в духе блаженной памяти Мейслинга. О неформальном запрете на творчество, когда он вырвался из гимназии, уже забыли, и в голове у 21-летнего молодого человека роились самые различные планы и замыслы. Однако прежде он должен был получить окончательную свободу, которую давало только образование. И он ее получил! Не без трудностей, но Андерсен все же сдал письменные и устные экзамены на аттестат зрелости по древним языкам и по математике. В последнем случае его экзаменовал знакомый преподаватель, которого он встречал в доме у своего ученого друга Эрстеда. С самого начала преподаватель спросил, о чем собирается писать экзаменуемый поэт, когда сдаст экзамен. Андерсен смутился, разволновался, зажестикулировал рукой и обрызгал чернилами лицо математика. Тот сделал вид, будто ничего не заметил, вытер лицо платком и продолжал задавать вопросы.
Через год, 21 октября и 14 ноября, Андерсен сдал и так называемые вторые университетские экзамены по специальностям «философия» и «филология», что давало ему право называться кандидатом философии и учиться дальше в университете, а за год до этого ему была продлена образовательная стипендия, поступавшая из фонда «ad usus publicus» (секретарем фонда в то время был Йонас Коллин). Наступила пора решать, продолжит ли Андерсен свои университетские занятия и какую, в таком случае, профессию выберет. Или же он полностью посвятит себя литературному творчеству? Андерсен прямо поставил вопрос о своей судьбе перед Йонасом Коллином. Мудрый Коллин ответил ему: «Во имя Господа, идите тем путем, который вам, по всей видимости, предназначен, наверное, это лучше всего для вас!» Как лукаво писал сам Андерсен: «Сердце мое тоже подсказывало поступить именно так. Поэтому я вдвойне обрадовался тому, что наши мнения совпадали, и принял теперь уже окончательное решение» [86]86
Там же. С. 167.
[Закрыть]. Он давно уже для себя все решил. Тем более что, не теряя времени даром, он уже делал первые успехи в литературе: выпустил книгу романтической прозы, благосклонно принятую читателями и критикой, написал водевиль, поставленный в Королевском театре, и подготовил к публикации первый сборник стихов.
Когда Андерсен готовился к экзаменам, ему почти ежедневно приходилось совершать пешком долгий путь к преподавателю и обратно. Мюллер жил на окраине тогдашнего Копенгагена в Кристиансхавне на острове Амагер. По дороге ученик исправно повторял урок, а возвращаясь обратно, выдумывал фантастические сценки с собственным участием в духе романтических повестей Э. Т. А. Гофмана, творчеством которого давно уже увлекался. Так возникло первое значительное прозаическое произведение Андерсена «Прогулка от Хольмен-канала до восточной оконечности острова Амагер, предпринятая в 1828–1829 годах». Говоря о годах, Андерсен немного играет с читателем: прогулка в его произведении начинается с десяти вечера 31 декабря 1828 года и заканчивается 1 января 1829 года через некоторое время после полуночи. Несколько глав из книги автору удалось напечатать в журнале влиятельного и еще молодого писателя и критика Йохана Людвига Хейберга «Копенгагенская летучая почта», с которым он познакомился в доме у Эрстеда. Хейберг также напечатал в своем журнале несколько стихотворений Андерсена, включая впервые увидевшее свет в Германии и уже упоминавшееся стихотворение «Умирающее дитя». В полном варианте «Прогулка» вышла 2 января 1829 года, а типографские расходы были оплачены самим Андерсеном. Известный датский издатель Карл Андреас Рейцель предложил ему за книгу всего 70 ригсдалеров, и писатель выпустил ее самостоятельно, за свой счет. Рейцель просчитался. Книга скоро разошлась в количестве 500 экземпляров, и за второе ее исправленное и дополненное издание пришлось предложить автору более выгодные условия. А еще через десять лет «Прогулка» вышла третьим изданием с приложенной к ней и ранее уже опубликованной в журнале положительной рецензией Хейберга.
Как писал рецензент, «автор „Прогулки“ находится в том же положении, что и живописец, который, прежде чем перейти к более строгой композиции, пробует свои силы в красочных арабесках. Случайные, разнородные и безотносительные друг к другу, они могут быть объединены только оригинальностью и грацией единого художественного целого». Действительно, множеству эпизодов повести свойственно единство – почти безграничной и демонстративной свободы, которой руководствуется ее автор. Чтобы лучше понять замысел книги, приведем первую ее главу, своеобразное предисловие:
«В ночь накануне нового, 1829 года я сидел один-одинешенек в своей каморке и смотрел из окна на заснеженные крыши домов [87]87
Автор явно имеет в виду снятый им чердак дома по улице Вингордстреде, о котором упоминалось в самом начале главы.
[Закрыть], как вдруг в меня вселился Злой дух, он же Дьявол, и зародил во мне греховную мысль стать писателем. О том, как преследует он нас, ничтожных людей, мог бы рассказать вам миф под названием „О втором Всемирном потопе“:– И Господь сказал Ною и его племени: „Я поставлю с тобою завет Мой, что отныне воды Потопа не будут истреблять плоть человеческую и опустошать землю“.
С этими словами над землей вознеслась радуга, и Ной поверил Иегове. Но слова Господа услыхал из глубокой бездны сам Дьявол, заскрежетавший от злости зубами. Ибо и у Господа есть враги, а злейшего из них зовут Сатаной, который воспротивился милости Господней, что было с его стороны величайшей наглостью. Ведь все моря и озера, реки и ручейки, и облака в небе услышали слова Иеговы и подчинились Его велению. Дьявол призадумался. Он думал три тысячи лет и на четвертую вскочил, воскликнув: „Я понял! Нашел! Пусть зло исходит от людей! И землю зальет еще один Потоп, хоть Он и сказал, что не будет больше опустошать землю“. И Дьявол призвал к себе своих вассалов и сказал им: „Мессиры! Вы распространитесь по земле и соблазните сынов Адама стать писателями. Да истечет от них новый Потоп и опустошит землю. Я свое дело сделал, делайте вы свое!“
Поверьте, я противился изо всех сил, но Злой дух уже вселился в меня, и я не мог усидеть на месте. Но, куда бы я ни направлял в этот решительный миг мой взгляд, все дороги поэзии были уже заезжены, так что на любой из них я легко мог сломать шею, а то и ногу. Так куда ж мне направиться? В любом случае, вперед! – И я увидел остров Амагер – самое подходящее ристалище для моей бунтующей крови. По дороге туда еще не проезжал ни один всадник-поэт. Недолго думая я почитал о тамошних местах в „Описании Копенгагена“ у Нюерупа и в „Атласе“ Понтоппидана и сунул в карман „Эликсир дьявола“ Гофмана – вдруг мне не хватит фантазии? Я еще раз попытался укротить свою плоть и покончить с пороками, но укоренившийся Злой дух воскликнул: „Ну, пошел!“ – И что же мне, бедняге, осталось делать!»
Далее следуют 13 глав «Прогулки», в которых по дороге на Амагер автор попадает в самые невероятные, фантастические положения (он то воспаряет ввысь на крыше растущего, как живой организм, здания, то попадает в воображаемый Храм поэзии, то оказывается в птичьей клетке или в водолазном колоколе). Такое построение книги позволяет автору с игривой легкостью обсуждать самые различные предметы эстетики, литературы и городской жизни и даже предсказывать будущее, а также обрисовывать в весьма бурлескной манере свою собственную персону. В самом начале прогулки автор, подобно Геркулесу на перекрестке дорог, встречает румяную и жизнерадостную Хозяйку из Амагера, сулящую, если он пойдет с ней, все радости жизни, и соперничающую с ней молодую «высокую и бледную даму, напоминающую умирающую Элоизу, в глазах которой прочитывалась последняя сцена глубокой трагедии». Конечно же поэт выбирает романтический идеал, приводящий его… в Канцелярию, на ступенях лестницы которой дама исчезает, обернувшись незнакомой женщиной в разорванном, свисающем лохмотьями платье, с растрепанной прической и глубокими ссадинами на теле, явными следами варварского с ней обращения. «Не убивайте и не мучайте меня! – кричит она. – Во имя всего святого, оставьте меня!» Удивленный ее обликом и поведением автор спрашивает женщину, кто же посмел так надругаться над ней.
«Увы, – вздохнула она, – так ведет себя со мной полгорода и даже полмира!» Ведь она – это муза поэзии. Каждый считает своим долгом наброситься на нее, мучает ее без предела, заставляет петь, таскает за волосы да еще норовит ущипнуть. Над музой издевается и стар и млад при каждом удобном случае: на свадьбах и похоронах, даже на церемонии первого причастия. Ей нет спасения. На нее покушаются люди из всех сословий, и Канцелярия – ее последнее прибежище, здесь, за архивными полками, она ищет спасения от людской алчности и надеется в ожидании лучших времен пережить лихую годину.
Автор пытается переубедить ее: муза, явно преувеличивая, сгущает краски. Но, сам того не замечая, он переходит в своей речи на ямбический стихотворный размер, после чего возмутившаяся этим женщина исчезает.
Перед нами мастерски выверенная аллегория, страдающая, возможно, лишь недостатком конкретности, которая неизбежно превратила бы ее в сатиру. Но это всего лишь первый фантастический персонаж из многих, ожидающих читателя на страницах «Прогулки». Андерсен выводит среди них и самого себя – в образе котенка. Он мурлычет песню – элегию по утраченному детству с названием «Прежде и теперь», которой восторженно внимает Кошка-тетя. В ответ на ее похвалы Котенок-поэт, скромно потупив глаза, признается: «Ах, бывают в жизни мгновения счастья, когда я сижу в кругу молодых и образованных кошек и слышу при чтении стихов тихие вздохи, вижу священную слезу на бледной щеке возлюбленной мадемуазели… О, в такие минуты я так остро ощущаю мое призвание к искусству и готов прижать всех собравшихся к моему бьющемуся сердцу, забывая о тщетности земной борьбы».
После этого кошки вместе исполняют моцартовскую арию «Non so piu cosa son, cosa faccio» [88]88
Начальные слова арии Керубино из оперы В. А. Моцарта «Женитьба Фигаро». Буквальный перевод с итальянского: «Не знаю, что делаю». Традиционный русский перевод: «Сердце волнует жаркая кровь».
[Закрыть], пока их не прогоняет палкой вступающий на сцену ночной сторож.
Было бы странно, если бы в первом же своем значительном прозаическом произведении Андерсен не затронул тему театра. Продолжая свой путь на Амагер, автор вступает в колонный зал и затем на небольшую площадь, где замечает необычно одетых людей и ряд повозок с запряженными в них орлами. Присмотревшись внимательнее к входу в одно из зданий, он обнаруживает дверь с табличкой «2129» и осознает, что оказался в будущем, сделав прыжок во времени на 300 лет вперед. Чуть ниже надписи он видит афишу премьеры спектакля под названием «Падение Роата» с напечатанной тут же, еще до представления, рецензией на него, что, как оказывается, принято в театральном мире будущего.
Вслед за этим следует еще несколько изменений в окружающей обстановке, схожих по стремительности с динамикой новейшего современного мультфильма. Просмотрев несколько сцен в «Калейдоскоп-театре», автор оказывается на крыше высокой башни, над которой пролетает, мгновенно превращаясь в далекую точку, огромный «паролёт». С этого диковинного летательного аппарата вниз слетает лист бумаги – письмо некоего лица из будущего своим далеким предкам с описанием на французском языке проделанной им поездки. Всего за шесть недель путешественник успел посетить все «основные достопримечательности половины земного шара»: могилу Наполеона с огромным чугунным памятником ему, руины турецкого сераля, Софийский собор, «когда-то в XIX веке служивший мечетью», греческий обелиск Свободы, по слухам, изваянный самим Торвальдсеном. Стоит отметить, что среди стран, в которых путешественник побывал, он выделяет Россию:
«Жемчужиной среди европейских стран является сейчас и пребудет могущественная Россия. Достижения культуры она усвоила поздно, но ныне сияет полным великолепием. На ее пустынных степях выросли многолюдные города, а Сибирь являет собой лучшее доказательство того, что чем больше вы возделываете землю, тем мягче становится ее климат. Вряд ли кому-нибудь ныне придет в голову, что когда-то Сибирь была местом ссылки».
Андерсен далее пророчествует о том, что, возможно, в будущем изменится само местоположение материков: