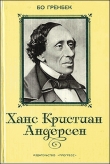Текст книги "Андерсен"
Автор книги: Борис Ерхов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 20 страниц)
Так, например, жена Габриэля однажды утром заявляет:
«Это так здорово пить кофе в постели, если имеешь расположение к истерике!» [248]248
Пер. А. и П. Ганзенов. Цит. по: Андерсен Г. Х.Полн. собр. соч.: В 4 т. СПб., 1894. Т. 3. С. 271.
[Закрыть]
И она же рассуждает о поступке добродетельной римлянки Лукреции, заколовшейся от чувства стыда, после того как ее изнасиловал сын римского царя:
«Я бы никогда не подняла такого шума! И с чего она закололась? Она была честна, невинная, это знала и она, и весь город. Так, если с ней и случилась беда…» [249]249
Там же. С. 284.
[Закрыть]
Не меньшее чувство юмора Андерсен проявляет в описании других второстепенных персонажей. Любимое выражение еще одной жилички дома, знаменитой когда-то балерины госпожи Франсен, когда она вспоминает о своем прославленном прошлом, звучит следующим образом:
«Хорошая фигура и высокая нравственность. Это был период моего блеска!» [250]250
Пер. Б. Ерхова. Цит. по: Andersen H. C.Lykke-Peer. København, 1870. S. 19.
[Закрыть]
Выйдя замуж за своего давнего поклонника, она говорит вернувшемуся из пансионата Перу о своем счастье:
«Тебе повезло, и мне тоже. Теперь у меня есть муж, собственный уютный уголок и кресло-качалка. Два раза в неделю ты обедаешь у нас. Вот посмотришь на мое житье-бытье. Настоящий балет!» [251]251
Пер. А. и П. Ганзенов. Цит. по: Андерсен Г. Х.Полн. собр. соч.: В 4 т. СПб., 1894. Т. 3. С. 286.
[Закрыть]
Своего рода приземленный, но беззлобный сарказм свойствен и матери Пера, когда она рассказывает ему об истории взаимоотношений госпожи Франсен с ее мужем Гофом:
«Гоф был женат. Он женился, как говорил, в отместку девице Франсен! Она ведь страсть как важничала в дни своей славы! За женой он взял большое приданое, но она была уж больно стара да и на костылях, а умирать все не хотела! Ему и пришлось ждать так долго, что я ничуть бы не удивилась, если бы он, как человек в сказке, потерял терпение и стал каждое воскресенье выносить старуху на солнышко, чтобы Господь увидел и вспомнил ее поскорее!» [252]252
Там же. С. 287.
[Закрыть]
А об аптекаре, который больше интересовался любительским театральным кружком города, нежели своим профессиональным занятием, автор романа пишет:
«Злые языки повторяли про него старую, избитую остроту: „Его укусил бешеный актер, оттого он с ума и сходит по сцене!“» [253]253
Там же. С. 272.
[Закрыть].
Роман написан чрезвычайно легким и ироничным, «сказочным» стилем, напоминающим манеру эллинистической прозы. В то же время он глубоко серьезен. Вот какую характеристику дает автор Перу:
«Без нужды, без горя жилось нашему юному другу; он был здоров, весел, будущее сулило ему всевозможные блага. Он еще не успел разочароваться в людях; по невинности и чистоте душевной он мог называться ребенком, а по выдержке в труде – зрелым мужем. Все, кто знал его, любили его, всюду он встречал ласковые взгляды и радушный прием» [254]254
Там же. С. 289.
[Закрыть]. По-видимому, таким же хотел бы казаться окружающим и сам Андерсен.
Через три года учитель пения (оказывается, это он заплатил за воспитание Пера в пансионате) способствует тому, что юношу берут на роль Гамлета в одноименной опере Амбруаза Тома. Его исполнение имеет оглушительный успех, затем Пер поет Лоэнфина в опере Рихарда Вагнера, после чего зрители буквально носят его на руках. В конце концов, он сочиняет свою собственную оперу «Аладдин». Идею ее подает ему красавица-дочка вдовой баронессы, у которой он бывает каждый вечер. Пер пишет собственное либретто, собственную музыку и сам же собирается исполнить в спектакле главную роль. Естественно, по Копенгагену поползли разноречивые слухи; заговорили столь часто мерещившиеся самому Андерсену злые языки:
«„Что ж, плох тот портной, что не сумеет выкроить из обрезков хоть детскую курточку!“ – говорили одни. „Быть и либреттистом, и композитором, и певцом – вот это, можно сказать, трехэтажный гений!“ – говорили другие. „Впрочем, он родился еще выше – на чердаке!“» [255]255
Там же. С. 310.
[Закрыть].
Выступление Пера в роли Аладдина становится триумфальным, его осыпают морем цветов, награждают большим лавровым венком. И тут же, на сцене, Пера пронзает острая боль в сердце и он умирает.
В первом своем романе «Импровизатор» Андерсен видит себя в конце счастливым мужем и отцом.
В «Счастливчике Пере» [256]256
Роман «Счастливчик Пер» доступен в переводе А. и П. Ганзенов под названием «Петька-счастливец» (Андерсен Х. К.Полное собрание сочинений: В 4 т. 1894. Т. 3) и в его современном переиздании (Терра, 1995; 2008). Роман Андерсена «Быть или не быть», по-видимому, на русский язык не переводился.
[Закрыть]он устраивает своему сказочному двойнику триумф поэта, композитора и певца. Ему «нечего больше хотеть», он умирает, и намеченные было сюжетные линии любовных взаимоотношений с баронессой или с ее дочерью и соперничество в борьбе за них с Феликсом обрываются. А предчувствия Андерсена о своей недалекой кончине обретают художественную форму.
Глава тринадцатая
короткая и грустная, об Андерсене в последние годы жизни
Остается немногое. В конце 1860-х – начале 1870-х годов Андерсен продолжает вести привычный образ жизни. Каждый год летом он ездит за границу, навещает друзей, общается со знаменитыми художниками, композиторами и музыкантами, гостит в поместьях, ходит в оперу и на музыкальные спектакли. Тот же распорядок соблюдается и в Дании: Андерсен по-прежнему обедает у друзей и знакомых, занимается издательскими делами (ему, как и раньше, помогает в них Эдвард Коллин), исполняет светские и придворные обязанности, как он их понимает, дружит с государственными чиновниками. Как и прежде, он очень общителен, хотя круг его старых знакомых и давних друзей редеет, его коллеги по писательскому цеху и состоятельные покровители постепенно сходят со сцены (к ним следует добавить Эленшлегера, Херца и Хауха), но появляются новые, среди которых особенно выделяются высокообразованные семьи богатых финансистов и коммерсантов Мельхиор и Энрикес. Они с самого начала знакомства с Андерсеном имеют дело уже с маститым писателем, и у него складываются с ними, не знавшими его в юности, почти безоблачные или, по крайней мере, беспроблемные отношения, чего нельзя было сказать об общении с Коллинами и Вульфами; он часто гостит в загородных поместьях Терезы и Мартина Энрикес Петерсхой и Доротеи и Морица Мельхиор Рулигхед (иногда это название переводят как «Тишина»). Взрослые и дети дружественных семейств по возможности стремятся создавать для него атмосферу доверия и домашнего уюта, по которой он иногда тосковал, как это видно из его откровений в письме Терезе Энрикес от 2 сентября 1860 года:
«Как же вы счастливы! Ведь дом, настоящий дом, это лучшее благословение Божие! Увы, мне его на этой земле не знать. Вот откуда у меня беспокойство и стремление к перемене мест, которое – если говорить от чистого сердца – вовсе меня не радует».
Впрочем, такие мгновения Ханс Кристиан всегда считал проявлениями слабости, признаками наступающей старости. Вот как отзывался он в 1866 году в письме от 15 октября Йонасу Коллину-младшему о приобретении своей собственной – первой в его жизни кровати, которую он купил по настоянию Хенриетты Коллин для своей съемной квартиры в Нюхавне:
«Вот, теперь у меня есть дом и кровать,моя собственная кровать, как же это ужасно! Мебель, кресло и кровать, я не говорю уже о картинах и книгах, пригибают меня к земле!»
А своему другу композитору Хартману днем позже Андерсен жаловался:
«Пришлось заплатить за эту кровать целую сотню ригсдалеров, но если она не доживет до моей смерти, то таких денег не стоит! Было бы мне двадцать, бросил бы я в сумку за плечи чернильницу, две рубашки и пару чулок, уложил бы в пенал писчие перья и пошел бродить по широкому миру. Увы, теперь я, по милому выражению Йетте Коллин (жена Эдварда. – Б. E.),„пожилой человек“ и поэтому должен думать о кровати, моем смертном одре».
Впрочем, симптомы старости давали о себе знать. В свои ежегодные путешествия по Германии и другим странам Андерсен стал привлекать спутников, хотя за них ему в пути приходилось платить. В осенне-зимний сезон 1869/70 года в поездку по Германии и Франции он берет с собой Йонаса Коллина-младшего, сына Эдварда Коллина, а в весенне-летнее путешествие 1872 года по Германии – молодого писателя Виллиама Блока.
Из остававшихся еще не посещенных стран Андерсена более всего привлекала Норвегия, куда звал его известнейший норвежский писатель Бьёрнстьерне Бьёрнсон (с Генриком Ибсеном Андерсен познакомился 18 августа 1870 года в поместье Мельхиоров Рулигхед. Сам Ибсен ему понравился, а вот его знаменитая драматическая поэма «Пер Гюнт» оставила равнодушным: ее язык, особенно в сцене у Доврского деда, показался ему «диким», а сам стих примитивным и неумелым). Андерсен позволил Бьёрнсону себя уговорить и август 1871 года провел в Норвегии, где Бьёрнсон, прекрасный организатор, сумел окружить его заботой и вниманием своих соотечественников. Приветственную речь в честь Андерсена на посвященном ему обеде прочитал его собрат по перу, собиратель норвежских сказок и поэт Йорген Му (1813–1882).
Еще больший интерес вызывает у Андерсена Америка, где издается его собрание сочинений в десяти томах, а сказки печатаются уже 20 лет. Специально для американского издательства он написал продолжение «Сказки моей жизни», впоследствии вышедшее и в оригинальном датском варианте. Американский детский писатель Орас Скаддер (1838–1902), познакомившийся с Андерсеном заочно, забрасывая его письмами (датчанин долго на них не отвечал), и напечатавший десять сказок Андерсена еще до публикации их в Дании в американском журнале «Нэшнл куотерли ревю», усиленно зазывал писателя приехать в США, обещая оплатить ему все дорожные расходы туда и обратно. Были и другие заманчивые предложения. Андерсен, вспоминая о гибели Хенриетты Вульф на пароходе «Австрия», сгоревшем всего за несколько дней пути до берегов Америки, всякий раз отказывался. Впрочем, скоро он такое путешествие предпринять и не смог бы: в ноябре – декабре 1872 года он тяжело заболел: по всей видимости, у него начинался рак печени. Ханс Кристиан в 1873 году предпринял (с помощью молодого датского писателя Николая Бёга) еще одно путешествие по Германии и Швейцарии. К этому времени он едва ходил и останавливался в некоторых городах специально для лечения, однако попытки эти желаемого результата не принесли.
28 июля, истощенный и измученный болезнью, он возвращается в Копенгаген и вплоть до осени живет в поместье Рулигхед у своих друзей Мельхиоров, после чего возвращается на квартиру в Нюхавне, где первое время нанимает себе сиделку. Постепенно состояние его здоровья несколько улучшается, и он снова может свободно передвигаться и даже выходить в город. Тем не менее он не строит для себя напрасных иллюзий и 1 ноября отмечает в дневнике: «Я мучаюсь и чувствую себя всеми оставленным. <…> Я больше не выздоровею, а смерть все не наступает; я хочу конца и боюсь его».
Летом следующего года он несколько недель – с 23 мая по 18 июня – проводит в гостях у графини Хольстейн в ее поместье Хольстейнборг. О своем пребывании там он пишет 13 июня Доротее Мельхиор:
«Я провел здесь целую цветочную эпоху. Когда я приехал, крупными темно-красными кистями цвела сирень и золотой дождь уже выглядывал из своих зеленых чашечек. Потом он распустился во всей своей благоуханной красе, а теперь уже блекнет… Сирень напоминает своей окраской платья богаделенок из Вартоу; лепестки золотого дождя побледнели; ветер усыпает ими аллеи. Их цветущая пора миновала, но на смену им выступает новое поколение. Красный терн стоит точно выкупанный в чудных розовых вечерних облаках. Через несколько недель, когда и он отцветет, распустятся розы, и не успеешь оглянуться, как зацветут и ослепительные, но лишенные аромата астры и георгины. Вслед за ними нас порадуют жимолость и шиповник. Вот Вам и вся жизнь цветов! Она короче нашей, но цветы все-таки радуются ей, воздуху, солнцу, мы же чересчур много думаем о смерти… Все это пришло мне в голову, когда я собирался писать Вам отсюда свое последнее в этом году, а может быть, и вообще, письмо! Но к чему разглагольствовать?..» [257]257
Пер. А. и П. Ганзенов. Цит. по: Андерсен Г. Х.Полн. собр. соч.: В 4 т. СПб., 1895. Т. 4. С. 385, 386.
[Закрыть]
Знакомые и близкие люди всячески стремились ему помочь (особенно много сделала для Андерсена в это время семья Мельхиор), король регулярно справлялся о его здоровье, писателя на его квартире несколько раз навещал кронпринц, да и Эдвард Коллин с женой при всей своей занятости вниманием его не обделяли. Очень странную и трагикомическую ноту внесли в горестные мотивы этого периода американские дети, собиравшие и посылавшие ему небольшие суммы денег по напечатанному в одной из американских газет объявлению «Наш долг Андерсену». Через некоторое время американский посланник в Дании сообщил Морицу Мельхиору, что получил для писателя 200 ригсдалеров от американских детишек. Затем Андерсен получил несколько вырезок из американских газет о детях, вложивших свою долю в приношение «старому сказочнику Хансу Кристиану Андерсену». Пришлось ему, рассерженному тем, что его принимают за нищего, и одновременно растроганному, послать заметку в американскую газету «Филадельфия ивнинг ньюс» с объяснением, что он ежегодно получает от правительства Дании тысячу ригсдалеров, в помощи не нуждается и просит сборы денег прекратить. Тем не менее деньги ему еще некоторое время американские дети посылали.
Деньги собирали для Андерсена и в Дании. В декабре 1874 года Андерсен узнал, что в Копенгагене организован комитет, намеревающийся воздвигнуть на народные средства памятник в честь его наступающего в следующем году семидесятилетия. Писателя это начинание вначале обрадовало, но потом покоробило: практики возведения памятников живым людям в Дании не было, как нет ее и сейчас. Тем не менее Андерсен, насколько мог, в эти планы вмешался, о чем уже говорилось в начале книги.
Тем временем состояние здоровья писателя все ухудшалось. После многочисленных поздравлений с семидесятилетием, в честь которого король Кристиан IX наградил его орденом Данеброга первой степени и званием конференц-советника, а Королевский театр сыграл комедию «Новое „Прибавление семейства“» и оперу «Маленькая Кирстен», через месяц с небольшим, 12 июня 1875 года, Ханса Кристиана перевезли из его квартиры в Нюхавне в поместье Рулигхед, где Мельхиоры наняли слугу, чтобы ухаживать за ним. Здесь, пользующийся всеми услугами медицины того времени и окруженный друзьями, он скончался 4 августа в 11 часов 5 минут утра.
Глава четырнадцатая
и последняя, о главном в Андерсене, поэте и человеке
Был ли счастлив Ханс Кристиан Андерсен? Скорее всего, он бы ответил: и да, и нет. И дело тут не только в неурядицах личной жизни и поглощенности творчеством, не позволивших ему стать примерным отцом семейства, о чем он мечтал и открыто заявлял в своих письмах, но и в недостатке уверенности в себе, который преследовал его всю жизнь. В какой-то степени отсутствие семейной жизни восполнялось общением со знакомыми и друзьями, круг которых у Андерсена был необычайно широк, а также светскими успехами. Поэт, драматург и писатель, он истово верил в свое призвание, но вот в талантливости и значительности своих произведений сомневался и каждый раз, как свидетельствуют о том его дневники и автобиографии, благодарил Господа за удачно сложившееся произведение. Андерсен охотился за признанием почти всю свою жизнь: вот почему он так болезненно относился к критике и называл своих рецензентов «мокрыми собаками», которых «невольно хочется отхлестать» за то, что они «забираются в твою комнату и располагаются в самых лучших ее уголках» [258]258
Коллин Э.Г. Х. Андерсен и семья Коллинов /Пер. А. и П. Ганзенов // Там же. С. 472.
[Закрыть]. И потому же он чуть ли не вымаливал у друзей и знакомых – не себе, а своим новым произведениям! – похвалы, подчеркивая, что они не только окрыляют его, но и чрезвычайно ему, как поэту и человеку, полезны. 21 августа 1838 года, в момент подъема у него, тогда еще молодого человека, творческих сил, Андерсен успокаивает(курсив мой. – Б. Е.)Хенриетту Ханк, утверждая, что, как бы она ни волновалась, автору в любом случае не дано знать, какой будет судьба его произведения, и посему его коллеге-писательнице не нужно переживать за ее роман «Тетушка Анна» (1838), к немецкому изданию которого он написал предисловие: «Даже если Вы создали шедевр, Вас все равно посетят мгновения, когда Вы будете сомневаться в своем таланте. Вы ведь не отрицаете его у меня, каким бы тщеславным я ни казался? О, Вам-то я откровенно скажу, за что сражаюсь с целым светом и что чувствую в глубине души, в то время как во мне видят только самовлюбленного эгоиста. Действительно ли я создал хоть одну вещь, которая удержится на потоке времени? Бывают моменты, когда слова Мейслинга: „В тебе нет ни щепотки разума, ты глуп и поверхностен!“ – так и звучат у меня в ушах. Тогда мне, чтобы успокоиться, требуются все мои силы и понимание природы людей. Каждый раз, когда я выпускаю новую вещь, я словно вступаю на эшафот».
Признание читателей и людей, с которыми он встречался, было главной целью жизни Андерсена. Он хотел добиться именно его. Деньги и обласканность властями были важны лишь постольку, поскольку позволяли ему обеспечить условия для передачи другим своих чувств, мыслей, переживаний и фантазий. Конечно, оставались сомнения: а будут ли его произведения востребованы и понятны? При внутренней неуверенности, которую Ханс Кристиан ощущал всегда, ему нужны были постоянные подтверждения. Сможет ли он, сын обувного мастера, донести свое видение мира до людей образованных и сделать его понятным и привлекательным для всех? Методом проб и ошибок – в форме сказки, романа и драмы – он этого добился.
И конечно, главное, что Андерсен оставил после себя, – это его сказки и истории. Они возникали под влиянием различных явлений литературы и жизни, случаев и происшествий, которые для их понимания ныне не столь уж важны или, во всяком случае, необязательны. Сказки Андерсена живут своей собственной самостоятельной жизнью, и нам не так уж важно, что «Парочка», история о влюбленном волчке и об отвергнувшей его барышне-мячике, написана по следам разочарования в своей первой – наверное, во многом лишь кажущейся – любви, что страшноватые «Красные башмачки» возникли в воображении писателя лишь по той простой причине, что когда-то на церемонию первого причастия он, совсем еще юный, надел новые сапоги и что сказка «Соловей» имела в своем замысле что-то общее с прославленным «шведским соловьем» – певицей Йенни Линд. На понимание и восприятие произведений эти подробности значительно не влияют и влиять не должны. А вот в портрет их автора они, когда прослеживаются, вносят существенные черты.
Повторим еще раз, что главное у Андерсена – его сказки. А вот что главное в их создании? Ответ на этот вопрос писатель дает – что вполне естественно для него – тоже в сказке или истории, обычно имеющей в русском переводе броское название «И чего только люди не придумают!» (1870). К сожалению, в таком варианте перевода названия смазывается звучащая в нем мысль о познавательной сути искусства («и чего только в мире не обнаруживаешь») – об открытии в жизни и действительности чего-то нового, а не просто об игровой выдумке или фантазии. Фактически эта фраза равнозначна шекспировской: «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». Автор рассказывает о молодом человеке, который решил к Пасхе стать писателем. Как и следовало ожидать, из писательства у него ничего не вышло: ведь «ко времени его появления на свет всё стоящее в мире было уже обнаружено и описано». И тогда молодой человек обращается за советом к знахарке.
Пусть это будет немного искусственно, но вычленим из текста сказки советы, которые она дала будущему писателю:
«Собирай мысли, проблески воображения! Крошка – тоже хлеб».
«Читай на ночь „Отче наш“!»
«Сюжеты есть повсюду, знай записывай и рассказывай, как умеешь!»
«Иди вперед, в людскую сутолоку, имей глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, и, конечно, сердце, и тогда ты скоро найдешь, о чем писать» [259]259
Пер. О. Дробот. Цит. по: Андерсен Х. К.Собр. соч.: В 4 т. М., 2005. Т. 3. С. 516.
[Закрыть].
Нет необходимости расшифровывать эти мудрые принципы, по сути в них содержится вся поэтика Андерсена, в которую он не забыл включить еще такую важную и непостижимую ее часть, как талант – волшебные очки и слуховую трубку знахарки (инструменты поэтического познания), которые она дала молодому человеку только на время, чтобы он их опробовал, а потом забрала обратно, потому что убедилась: писателя из него не получится. Хотя литературным трудом, советует она, он все же свою семью прокормить сможет, для этого достаточно стать критиком, одной из «мокрых собак», вымещающих на пишущей братии свой комплекс неполноценности.
В буйном разнообразии сюжетов, тем, идей и стилистических приемов в сказках и историях Андерсена, даже перечисление которых было бы бесконечно, просматривается все же некая система. Она в противоположности таковой – в случайности сказок, исходящей отчасти из природы жанра, отчасти из импульсивности характера Андерсена и переменчивости владевших им настроений. «Я, как вода, – пишет он Эдварду Коллину 8 сентября 1855 года, – все взбаламучивает меня и все во мне отражается». Писатель чаще всего идет не от идеи к конкретному ее воплощению, хотя бывает и так (и не в лучших его произведениях), а от факта и наблюдения к их осмыслению и изменению в рамках сложившегося у него поэтического стиля. В «Сказке моей жизни» Андерсен пишет, особо подчеркивая свое выражение курсивом, о «поэзии случая».В качестве примера он приводит наблюдение, сделанное им в 1850 году в зеландском поместье графов Мольтке Брегентвед. Там во время прогулки он заметил, что «на широких каменных плитах, устилающих землю у обелиска в саду, покоился тонкий снежный покров». В рассеянности поэт написал тростью на одной из плит:
Поэт ушел; «наутро случилась оттепель, а через несколько дней опять подморозило». Когда он вернулся на то же место, весь снег уже растаял, осталось только небольшое окошко льда с надписью: «Бессмертие». Этот случай глубоко поразил поэта, и в мыслях у него прозвучало: «Господи, Господи! Я и не сомневался!» [261]261
Пер. Б. Ерхова. Там же. С. 495.
[Закрыть]
Перед нами классическая андерсеновская миниатюра; подобным образом зарождалась у него не одна сказка или история. Наверное, он все же немножечко присочинил ее. И написал на плите не все двустишие, а только одно или два слова. Но то, что он отталкивался от факта – конкретной лужи, не подлежит сомнению. Наверное, поэтому сказки и истории у него такие разные. «Материала у меня для сказок множество, – писал Андерсен 20 ноября 1843 года Ингеману, – больше, чем для какого-либо другого рода творчества. Иногда кажется, что каждый забор, каждый цветочек говорят мне: „Взгляни на меня, и у тебя возникнет моя история!“ И в самом деле, стоит мне поглядеть – и история у меня готова!» Естественно, Андерсен отбирал далеко не всё, что ему встречалось, а только характерное и его образному мышлению импонирующее.
И еще об одной, очень характерной черте, связанной с особенностью мировоззрения поэта. В сказке Андерсена «Тетушка Зубная боль», которой заканчивается его прижизненное пятитомное собрание «Сказок и историй», ее герой Студент рассматривает занесенный ветром в дом зеленый лист. По нему ползет букашка, будто изучающая хитроумное переплетение его прожилок. Студент «задумался о человеческой мудрости: все мы тоже ползаем по отдельному листку, знаем только его, но сразу беремся толковать о дереве в целом, о его корнях, стволе и вершине. О великом древе – Боге, мире и бессмертии, зная всего лишь ничтожный листок!» [262]262
Пер. Т. Чесноковой. Там же. Т. 2. С. 624.
[Закрыть].
Как же тогда представить себе всю, а не однобокую Истину о мире, часть великого союза, который она составляет вместе с Добротой и Красотой? Стремления к этому триединству, провозглашенному в философском трактате Эрстеда «Дух природы» (1850), Андерсен придерживался всегда. Ограниченность авторского видения он преодолевал, прячась за маской вымышленного им персонажа или даже нескольких персонажей – предметов, растений, животных или даже насекомых, как в сказках «Воротничок», «Золотое сокровище», «Мотылек», «Навозный жук» и во многих других. Мир, который видит букашка, ползущая по зеленому листочку, конечно же ограничен, но не беда, он может быть показан с иных точек зрения. Именно поэтому сказочная вселенная Андерсена не только огромна, но и обладает многомерной объемностью. Впрочем, создавая такую «кукольную» сказку и в совокупности их «кукольную вселенную», автор в концовке историй нередко выходит за рамки внутренне логичного повествования и привносит в нее собственную, то есть даваемую от имени автора, иногда совершенно неожиданную оценку. Это можно показать на примере фантастической – и в высшей степени современно звучащей – сказке «Самое невероятное» (1870), где авторская ирония меняет тональность повествования несколько раз.
В сказке рассказывается о том, как в неком государстве тому, кто совершит самый невероятный или немыслимый поступок, обещают отдать в жены принцессу и полкоролевства в придачу. В назначенный день в столице избирают жюри, в котором заседают мирные жители городка всех возрастов от трех до девяноста лет. Очень скоро вниманию публики предлагаются совершенно необыкновенные, большие напольные часы, настоящее чудо техники и искусства, которые, отбивая время, показывают красочные живые картины: Моисея на горе, высекающего на каменных плитах законы для человечества, райский сад со счастливыми Адамом и Евой, волхвов, приносящих дары младенцу Иисусу, аллегорические фигуры времен года, символические образы пяти человеческих чувств – Зрения, Слуха, Обоняния, Осязания и Эмоций, воплощение семи дней недели и девять муз. Все это великолепие в определенный час оживало, вызывая неописуемый восторг у зрителей. Единодушным решением жюри приз за самое невероятное и немыслимое творение был присужден молодому мастеру, который часы изготовил.
И тут наступает кульминация, неожиданное «вдруг», шокирующее присутствующих. К народу выходит некий Верзила (тот самый, что в «Записках из подполья» Федора Михайловича Достоевского произносит свое программное: «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить» [263]263
Достоевский Ф. М.Записки из подполья // Достоевский Ф. М.Полн. собр. соч.: В 30 т. Худож. произведения. Д., 1973. Т. 5. С. 174.
[Закрыть]) и во всеуслышание заявляет, что самое невероятное и немыслимое сейчас совершит он, после чего, взяв в руки тяжелый топор, разбивает волшебные часы мастера. Никто не ожидал и не верил, что такое может произойти. Верзила и в самом деле совершил невероятное. Он уничтожил шедевр искусства и мастерства. Происходит настоящий «хеппенинг», своего рода современная инсталляция в действии. Начались приготовления к свадьбе.
Но не всё в жизни так просто. В самый разгар приготовлений послышался гулкий звук тяжелых шагов и в церковь вошли, словно статуя Командора, те самые изготовленные мастером часы, но в десять раз увеличившиеся в размере. Откуда они взялись? Автор объясняет:
«Мертвому человеку не дано вновь встать и пойти, это все мы отлично знаем, но искусно сделанные вещи возрождаются к жизни. Пусть они покорежены и разбиты, в них продолжает жить душа художника, а с ней шутки плохи» [264]264
Пер. О. Дробот. Цит. по: Андерсен Х. К.Собр. соч.: В 4 т. М., 2005. Т. 2. С. 548.
[Закрыть].
Гигантские часы стали бить не переставая. Огромный Моисей из живой картины уронил каменные плиты с высеченными на них законами на ноги Верзиле, а вышедший из другой живой картины Стражник ударил его посохом в лоб. Тем самым чудо творения вернуло себе славу самого невероятного и немыслимого. С Верзилой было покончено навсегда, ненужные больше часы растаяли в воздухе, а молодому мастеру вернули его невесту.
«Вот он стоит у алтаря, шафером у него весь народ, все радуются, благословляют его, и ни одна душа не исходит завистью. Вот ведь что самое невероятное!»
Стоит внимательнее перечитать последнее, целиком и полностью авторское заявление. Беда людям грозит не только от внешней агрессии, но также от темного начала в них самих. Иронист Андерсен еще раз указал на «болотный огонек», угрожающий человечеству.
И еще одно. Прославляя в жизни Красоту и Добро, писатель никогда не забывал об Истине и, как было уже показано, много писал о смерти. Возвышенно прекрасное и доброе часто соседствует у него с окончательным решением вопроса о жизни – смертью. И вот с таким единством жизни и смерти Андерсен в конечном итоге примириться не мог. Он находил этому противоречию разрешение в религии, но все же не всегда – иногда оно звучит у него формально, и сомнения в справедливости бытия остаются. Андерсен их не прячет, он остается откровенным в своих произведениях до конца, доказывая, что он, добрый и милый сказочник, был также наивно честным и отважным человеком.
Шведский писатель Бернхард фон Бесков (1796–1868) как-то заметил, что число читателей Андерсена пополняется с каждым подрастающим поколением. Однако вряд ли его сказки пользовались бы такой популярностью у детей и взрослых, не будь они такими занимательными и смешными. Писатель любил развлекать друзей и знакомых, зачитывая или рассказывая им свои истории. И хотя он не слыл завзятым весельчаком, он всегда был интересен, легко овладевал вниманием слушателей и вносил оживление почти в любое общество. Поэтому, нанося регулярные визиты друзьям и довольно часто гостя у богатых знакомых в их имениях, он не зря ел свой хлеб. Правда, и скоморошеством в гостях он не занимался, хотя его неординарная внешность располагала к этому (Шамиссо в 1830 году за глаза называл его «долговязым датчанином»).
Самое удивительное, что Андерсен, будучи и в жизни, и в искусстве чрезвычайно остроумным, умел сдерживать себя и быть деликатным, благодаря чему у него и было так много друзей. Возможно, поэтому переполнявший его юмор чаще всего выливался в самоиронию. Об этом красноречиво говорят многие страницы «Сказки моей жизни». Хотя нередко шутки в свой собственный адрес оказывались горькими. Так, например, рассказывая о своем возвращении на родину после триумфальной поездки летом 1847 года в Англию, где в великосветских кругах писатель снискал поистине феноменальный успех – он оказался «в моде», честь, почти не выпадавшая английским писателям, – он, не боясь ославить себя, описывает следующий случай:
«Спустя несколько часов по приезде в Копенгаген я стоял у окна своей комнаты. Мимо проходили два опрятно одетых господина, они увидели меня, остановились, засмеялись, и один, указав на меня рукой, сказал громко, чтобы я мог слышать каждое слово:
– Смотри-ка, а вот и наш прославленный заграничный орангутанг!» [265]265
Пер. Б. Ерхова. Там же. Т. 3. С. 422.
[Закрыть]
Писатель мог бы не воспроизводить эту злую, но по-своему остроумную шутку. Нельзя исключать и вероятности, что он сам ее от начала и до конца сочинил.
В другом месте этой книги Андерсен описывает, как однажды поздним вечером услышал под окнами своей комнаты в гостинице пение под музыку. Уже привыкший к вечерним серенадам, которые в знак восторженного почтения исполняли ему во время заграничных поездок студенты (он не раз в «Сказке моей жизни» с несколько преувеличенным удовольствием вспоминает о них), Андерсен высунулся в окно и был несказанно удивлен: серенаду исполняли не ему, а поселившейся в соседнем номере госпоже Энрикес, его хорошей знакомой [266]266
Там же. С. 633.
[Закрыть].
В своих путешествиях по Европе писатель встречался и знакомился со множеством знаменитых писателей, художников, композиторов, поэтов и вельможных аристократов. Можно сказать, что «втираться в доверие» было его второй после писательства натурой. Бывая за границей, он не замыкался, подобно большинству своих соотечественников, в кругу своего землячества. Вот как, например, проявляя немалую настойчивость, он познакомился с немецкими сказочниками братьями Гримм.